Воздух Берлина
Воздух Берлина
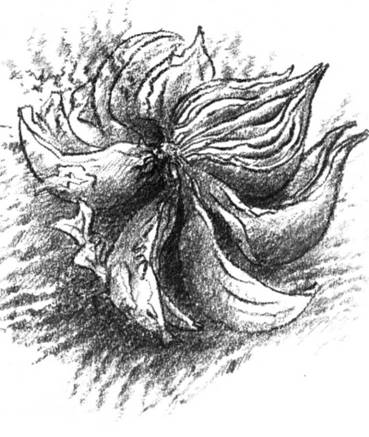
Ах, мои друзья! Когда подошел поезд, Франц Витте продолжал дурачиться на перроне. Он бы воздушен и неуловим, ибо паясничал, лицедействовал, постоянно меняя обличья. То гордо вышагивал, словно журавль, то махал руками, будто хотел вспорхнуть и улететь, — и все-таки оставался с нами, настоящий Напеременускор, каким он описан в романе; Франц запечатлел себя в собственных картинах — удлиненная фигура в переливающихся красках, персонаж картин нового Эль Греко.
Еще недавно мы делили с ним одну из маленьких мастерских, выделенных особым ученикам Панкока, мы шли вместе, но каждый своим путем: он танцевал по радуге цветовой гаммы, мои же следы кружили по черно-белому полю.
Иногда я наблюдал за тем, как он, орудуя сразу несколькими кистями, писал жития святых, при этом кровь мучеников лилась, как из фонтана.
На его полотнах краски не смешивались, ложились четко и внятно — красная рядом с синей, желтая рядом с зеленой, — но говорил он туманно, его речь рождала поэзию какой-то эфемерной красоты, а в записи на бумаге вся эта красота сразу исчезает.
Он воздвигал словесные воздушные замки и медленно разрушал их, слог за слогом. Он, хрупкое существо, провозглашал себя архангелом в панцире, перед которым не может устоять никакая твердыня. Он неистово кромсал свои картины кухонным ножом.
Вскоре после моего отъезда новогодним утром — или это случилось позднее, год спустя? — ему в голову попал кирпич, словно был нацелен туда давным-давно.
Поговаривали о драке в дюссельдорфском Старом городе, неподалеку от церкви Святого Ламберта. Затем разнесся слух, будто некий чудак, которого звали Франц Витте, исполнил неподражаемый танец на Кёнигсаллее, перескакивая с одной заснеженной крыши автомобиля на другую, прыгая по припаркованным «опелям», «боргвардам», «мерседесам» и горбатым «фольксвагенам». Танцор поднимался в прыжке так легко и опускался так мягко, что ни одна машина не пострадала.
Позднее слух подтвердился. И в то время, когда Франц скакал по крышам машин, делая всяческие ужимки — а это он умел, — в затылок ему попал кирпич или булыжник. Так разъяренные автовладельцы закончили его прыжки в неизвестность.
Когда травма снаружи зажила, Франца отправили в Графенберг на принудительное лечение, поскольку с ним и потом происходили неприятные рецидивы. Спустя год после моего отъезда я навестил его в лечебнице. Принес ему сладости. Его облик сделался еще более воздушным. Он говорил тихо и странно, указывал длинным пальцем на листву деревьев за окном коридора.
Как потом рассказывали, однажды через это окно и выбросился Франц, любимчик богов. С разбега по коридору, не обращая внимания на оконное стекло. Наверное, ему вновь захотелось полетать, стать птицей, дуновением ветерка в листве деревьев.
Я назвал одного из сыновей именем моего погибшего друга и именем моего дяди, который помимо собственной воли стал героем при обороне Польской почты. Обоих звали Франц. Когда я уезжал ранним утром, Францхен, как мы его звали, остался на перроне.
Рядом с Францем Витте, которого заставляло дергаться внутреннее беспокойство, неподвижно стоял Хорст Гельдмахер, чья фамилия вводила в заблуждение: он был способен на многое — рисовал как правой, так и левой рукой, извлекал всеми пальцами из своих флейт неслыханные звуки, — но вот на то, чтобы делать деньги, способностей у него явно не хватало.
Этой говорящей фамилией я довольно сильно перепугал мою бедную маму, когда в ответ на ее робкий вопрос, на что собирается жить ее сынок-художник, например, на какие деньги покупать трамвайный проездной билет на месяц — «А чем ты расплачиваешься за табак и прочие вещи?», — я туманно ответил, что Гельдмахер и я хорошо умеем обращаться с бумагой и красками, поэтому нам, дескать, ничего не стоит изобразить всякие штуки, которые будут выглядеть как настоящие.
Бедная мама, услышав фамилию моего друга, вообразила самое худшее — подпольную мастерскую по изготовлению фальшивых денег, где орудовал не только сам Гельдмахер, но был подручным и ее непутевый сынок. Словом, она считала меня причастным к фальшивомонетничеству, будь то подделка бумажных купюр или звонкой монеты.
Позднее, спустя годы после смерти мамы, сестра рассказывала, что всякий раз, когда в родительской квартире в Оберауссеме раздавался дверной звонок, мама пугалась, что на пороге окажется деревенский участковый или того хуже — уголовная полиция.
Однако если Флейтист Гельдмахер и представлял собой какую-то опасность, то лишь для собственной головы, которой он, будто проверяя ее на прочность, бился об отштукатуренные комнатные стены или голую каменную кладку. Это случалось с нерегулярными промежутками времени. В остальном же он был человеком смирным, подчеркнуто вежливым, церемонно приветствовал знакомых по нескольку раз и аккуратно оттирал подошвы ботинок о половик, не только входя в чужую квартиру, но и выходя из нее.
Его замедленные приходы и уходы сопровождались странным ритуалом: приходя или уходя, он стучался в дверь. В обращении с флейтой он был так же нетерпим, как с собственной головой. Я неоднократно видел, как он ломал свои флейты одну за другой на куски, бросал их в Рейн и плакал.
Он играл без нот, но его детские песенки, рождественские мелодии и городские баллады так искусно переплетались с ритмами чернокожих собирателей хлопка, что казалось, будто перед ним лежит партитура с еще не просохшими чернилами. А еще он был отличным декоратором, умел, азартно работая над каждой деталью, сделать из заурядной дюссельдорфской пивнушки в Старом городе салун в стиле «Дикого Запада» — хоть сейчас снимай кино; эта же пивнушка могла превратиться в изящную каюту роскошного парохода, плавающего по Миссисипи. Дюссельдорф отличался состоятельной клиентурой, что позволяло расцветить гастрономические изыски еще и иллюзиями.
Он был одновременно Джоном Брауном и матушкой Джона Брауна, библейским Моисеем и Буффало Биллом, он сидел, как Иона во чреве кита, и плакал вместе с Шенандоа, дочерью вождя индейского племени. Он был тайным творцом поп-арта задолго до того, как это течение вошло в моду. Он обводил черным контуром сочные цветовые пятна.
В тот год, когда вышел «Жестяной барабан», а ко мне начала липнуть одиозная известность, слава, предсказанная мне нашей уборщицей, которая гадала на кофейной гуще, я сумел протолкнуть в производственный план издательства «Кипенхойер-унд-Вич» через его тогдашнего редактора Дитера Веллерсхофа альбом поперечного формата «О, Сюзанна» с нотами и рисунками Хорста Гельдмахера на джазовые темы. Это давно раскупленное раритетное издание, где блюзы, спиричуэлы и госпелы послужили темами для цветных иллюстраций, можно теперь найти только у букинистов или по интернету.
Флейтист продержался дольше, чем Франц Витте. В начале шестидесятых годов, когда меня уже засосала рукопись романа «Собачьи годы», он, совсем расплывшийся от пива, приехал к нам в Берлин, на Карлсбадер-штрассе.
Там, в полуразрушенном доме, который и без того казался до самой крыши заселенным ужасными призраками войны, он перепугал Анну, наших сыновей и маленькую Лауру; наша дочка была серьезным, лишь изредка улыбавшимся младенцем, а родилась она в тот год, когда построили Стену. Он, сам испуганный и гонимый страхом, пугал других.
Хорст страдал манией преследования, он выходил из помещения, пятясь спиной, старался не ступать на тротуар, стирал отпечатки собственных пальцев, умолял спрятать его в каморке моей мастерской от каких-то злодеев, якобы устроивших за ним погоню, уговаривал меня купить ему особый, а потому дорогой фотоаппарат, чтобы фотографировать мостовую через штанину.
Он плакал и одновременно смеялся. Яростней, чем раньше, бился головой о стену, без флейты впадал в отчаяние, а однажды исчез и больше не объявлялся.
Незадолго до этого у него наступил просвет, и мы вместе записали пластинку в честь Вилли Брандта, тогдашнего правящего бургомистра Западного Берлина: Гельдмахер играл на самых разных флейтах, от пикколо до альтовой, а я прочитал дюжину стихов из моей третьей книги «Поворотный треугольник», где есть и мое кредо — стихотворение «Аскеза».
К несчастью, потерялась пленка с записью его тягуче-сладкой и пронзительной музыки к балетному либретто «Гусь и пять поваров», которое я сочинил для Анны. Премьера балета состоялась в курортном городе Экс-ле-Бен, но, к сожалению, без Анны.
Все отзвучало. Сохранились лишь несколько пластинок, настоящих раритетов, которыми я очень дорожу. А два друга, оставшиеся позади, крепко сидят в моей памяти — переполненной тюрьме, откуда никого не выпускают.
Был ли у нас уговор? Или же роль режиссера опять взял на себя чистый случай? Напротив меня сидел человек, приближаться к которому было небезопасно. Для него или для меня вполне нашлось бы место и в другом купе скудно освещенного межзонального поезда, идущего на Берлин.
Людвиг Габриэль Шрибер, по прозвищу Люд, был старше меня на два десятка лет. Художник и скульптор, он принадлежал к тому поколению мастеров, которые к тридцать третьему году еще окончательно не созрели, но их тут же запретили. Он не смог выставлять свои работы ни в галерее «Штукерт», ни у «Мамаши Эй», а потом началась война, и он всю ее прошел солдатом.
Недавно его сделали профессором на Груневальдштрассе, где в уцелевшем здании готовили будущих педагогов в области эстетического воспитания. Я знал его по ресторану «Чикош» как довольно крепко пьющего завсегдатая. Обычно он сидел один, смачивая себе лоб спиртным между двумя глотками шнапса, будто снова и снова совершал обряд крещения.
Однажды, наверняка во время перерыва, я, отложив стиральную доску и наперстки, решился заговорить с ним. Узнав, что я собираюсь в Берлин, чтобы поступить в класс Хартунга, он неожиданно проявил готовность помочь и посоветовал мне приложить собственноручное письмо к обязательной папке работ, представляемых в качестве творческой характеристики: дескать, это придаст личный характер моему заявлению и произведет хорошее впечатление.
И вот теперь я сидел напротив. Он курил «Ротхэндле», а я делал худосочные самокрутки из моих запасов табака «Шварцер Краузер». Взглядами мы не встречались.
Когда поезд отошел от перрона, там осталась возлюбленная Люда, как там же остались и мои друзья, пришедшие проводить меня с банджо, флейтой и контрабасом.
Вздыхая время от времени, Люд молчал. Мне наверняка хотелось о чем-нибудь заговорить, но я не решался. Он курсировал между Берлином и Дюссельдорфом, между мастерской и своей возлюбленной.
Ее узкое лицо было знакомо мне по мимолетным встречам, ее профиль я узнавал в небольших деревянных скульптурах Люда. Несомненно, Итта, как он называл возлюбленную, проводила его на вокзал, а возможно, дошла с ним и до перрона.
Январское утро посветило тусклым солнышком лишь в Руре. Еще с довоенной поры Люд дружил с художниками Голлером, Макентанцем и Гроте. Годы нацизма, война затормозили их творческое развитие. Позднее они старались освободиться от влияния мастеров, которые некогда служили для них образцом. В их картинах тонкая гамма цветовых оттенков конфликтовала со строгостью композиции.
Я храню две акварели Шрибера, написанные в английском плену: парковые ландшафты в светлых, сдержанных тонах. Позже, когда мы стали друзьями, он, выпив три-четыре рюмки шнапса, начинал говорить о потерянных годах, впадал в ярость и вымещал злость на безобидных посетителях ресторана, которых сбивал с ног ребром ладони.
Во время поездки мы поначалу разговаривали мало. Дремали? Вряд ли. Имелся ли в межзональном поезде вагон-ресторан? Нет.
Где-то — пожалуй, это было в заснеженной Нижней Саксонии — он попытался мне намеками объяснить что-то, связанное с изменениями объема тела. Мне показалось, будто речь идет о скульптуре, объем которой он хотел увеличить слоями гипса. Но тут я догадался, что он намекает на беременность своей возлюбленной. Неожиданно он стал напевать — сначала без слов, потом со словами — какой-то католический гимн, где говорилось о пришествии Еммануила; впрочем, когда у Итты родился сын, его назвали Симоном.
У официальной жены Люда тоже был строгий профиль, узкое лицо с близко посаженными, выпуклыми глазами. Я видел ее на открытии одной выставки, она стояла молча, одиноко среди общей сутолоки и болтовни.
В Мариенборне наши документы проверила железнодорожная полиция ГДР; все обошлось без особых происшествий, хотя Люд вытащил из кармана удостоверение личности слишком медленно и с весьма мрачным видом.
Мы оба путешествовали с небольшим багажом. У меня в поношенном акушерском саквояже уместились помимо рубашек и носков разные инструменты, в том числе стамески, долота, а также свернутые рулоном рисунки, папка со стихами и выданный мне в «Чикоше» дорожный провиант: жаркое из баранины и хлеб с тмином. На мне был костюм, выданный некогда в приюте «Каритас».
Знать бы, что творилось тогда у меня в голове, если не считать осознанного желания сменить место жительства, вырваться из удушливой атмосферы Дюссельдорфа. Но к каким бы вспомогательным средствам я сейчас ни прибегал, мне не удается расслышать ни единого отзвука какой-либо из моих тогдашних мыслей.
Внешне я присутствовал, о чем свидетельствовали акушерский саквояж в сетке для багажа и молодой человек в костюме с узором «в елочку». Но при этом во время путешествия с Запада на Восток мне наверняка разламывал черепную коробку натиск слов: слишком велика была неразбериха мыслей, гул умолчаний; я видел, как за вагоном межзонального поезда бегут, преследуя меня, призраки — «головорожденные», которые не хотят отставать от меня.
Напротив меня сидел вполне материально осязаемый Людвиг Габриэль Шрибер, которого лишь позднее, когда мы по-настоящему подружились, я стал называть Людом.
Меняясь от столетия к столетию, он вошел под этим сокращенным прозвищем, а также под полными именами Людковский, Людстрём, прелат Людевик и собутыльник Людрихкайт, палач Ладевик и резчик по дереву Людвиг Скривер в повествование и стал участником моего романа «Палтус», который так вымотал меня в середине семидесятых годов. Одна из главок романа озаглавлена «Люд» в память моего друга, умершего, пока я работал над рукописью.
С тех пор мне его не хватает. С тех пор Люд живет в моей памяти, из-за чего я не могу с ним расстаться. А описал я его таким, каким знал в мои первые берлинские годы, когда мы часто виделись и порой спорили: «Будто шел против ветра. Он был заранее угрюм, когда заходил в закрытое помещение, например, в мастерскую, полную учеников. Мягкие поредевшие волосы. Покрасневшие глаза, ибо ветер дул ему в лицо навстречу во все времена. Нежный рисунок рта и крыльев носа. Целомудренный, как его графика…»
Примерно таким, очерченным скупым силуэтом — хотя и было это на двадцать лет раньше, чем мой некролог, — сидел он напротив меня в межзональном поезде, идущем на Берлин. Клубы дыма в пустом, если не считать нас обоих, купе.
Было холодно или, наоборот, чересчур натоплено?
Костерил ли он уже тогда абстракционистов яростно, как иконоборец, или же это происходило позднее в наших берлинских разговорах за ресторанной стойкой?
Съели ли мы уже баранье жаркое и хлеб с тмином?
За окном от нас отставал пейзаж, который простирался скудно присыпанной снегом равниной: безлюдной и населенной лишь воображаемыми персонажами. После Магдебурга, чьи руины угадывались поодаль, Люд заговорил: о сыне, которого, по собственному твердому убеждению, зачал сам, а не кто-нибудь другой, и который, как и в гимне, будет назван Еммануилом; об искусстве хеттов и об утрате монументальных форм; о Микенах и жизнерадостности минойской мелкой пластики. Он бегло коснулся этрусской бронзы, чтобы тут же перейти к романской скульптуре на юге Франции, где он служил солдатом, а позднее попал в Норвегию и в Заполярье — там «Иваны воевали в белых максхалатах, их трудно было разглядеть»; затем он многозначительно указывал в сторону Наумбургского собора с его раннеготическими фигурами донаторов, после чего вернулся в Грецию, но не упомянул о своей службе на том или ином острове, а воздал должное архаической строгости и спокойствию форм, которые до сих пор озадачивают нас своей внутренней радостью. Мы же, дескать, лишь последыши великих, Птолемеи.
А между разбросанными по всей Европе этапами его армейской службы, которая, казалось, вся сосредоточилась на искусстве, он процитировал тост из любимой книги о похождениях Уленшпигеля: «tis tydt van te beven de klinkaert…»
Люд, закоренелый выпивоха, доводил себя до опьянения собственными речами и безо всякого алкоголя.
Потсдам отрезвил нас. На перроне полно народной полиции. Из репродуктора раздаются команды с саксонским акцентом. По требованию пограничной полиции мы вновь предъявили документы, после чего поехали по территории Западного Берлина: сосновые леса, участки дачных кооперативов, первые руины.
Люд опять замолчал, привычно вздыхая, и неожиданно, без всякой на то причины, скрипнул зубами, что побудило автора будущего романа сделать его прообразом своего персонажа, прозванного Скрыпуном; когда поезд прибыл на вокзал «Цоологишер Гартен», Люд как бы между прочим предложил мне переночевать в его мастерской на Груневальдштрассе.
Откуда он узнал, что у меня нет ночлега? Может, он боялся остаться один, наедине с сами собой, посреди незавершенных скульптур?
Там мы пили стаканами шнапс, не вспоминая тост из «Уленшпигеля», а закусывали тем, что он предусмотрительно захватил с собой: копченой скумбрией с яичницей-болтуньей, которую он, поперчив и посолив, зажарил на маленькой сковородке в кухоньке при мастерской.
Улегшись на одной из двух коек в каморке, я быстро заснул, но перед этим заметил, как Люд, стоя между закутанных тряпками глиняных фигур, тер наждачной бумагой гипсовый бюст женщины, профиль которой напоминал его далекую возлюбленную.
На следующий день я нашел на Шлютерштрассе комнату, которую снял за двадцать марок в месяц у седой вдовы с завитыми волосами. «Разумеется, никаких дам приводить не разрешается», — потребовала она.
В забитой ненужной мебелью комнате жильцу предоставлялась старомодная дедовская кровать. Настенные часы стояли, как бы символизируя собой, что время прекратило свое движение. Хозяйка сказала: «Муж заводил часы сам, не позволял это делать никому другому, даже мне».
По заверению хозяйки, кафельная печка топилась в конце каждой недели; естественно, за дополнительную плату.
Ежемесячную стипендию, которую я получал из шахтерской страховой кассы, недавно повысили с пятидесяти до шестидесяти марок. Кроме того, хозяйка «Чикоша», чей муж Отто Шустер погиб в результате несчастного случая при невыясненных обстоятельствах, отстегнула мне за портретный барельеф своего мужа весьма приличную сумму. Я заплатил за квартиру вперед со всеми надбавками.
Вычурная лепнина на фасаде дома, где я обрел теперь постоянный адрес, была лишь немного побита осколками и в основном сохранилась. Боковые пристройки были уничтожены бомбежкой в конце войны, а главное здание осталось стоять словно последний коренной зуб. Позднее, когда началась весна, я разглядывал из окна уцелевшее, во внутреннем дворике каштановое дерево, на котором поблескивали набухшие почки.
Напротив моего дома среди руин прежнего здания высились остатки фасада, но справа и слева по улице руин больше не было, только расчищенные пустыри, над которыми кружил ветер, сейчас нося снежную массу, а позднее взметая пыль; она равномерно распространялась по городу, поэтому когда я ходил куда-нибудь — скажем, в расположенное неподалеку, на Штайнплац, Высшее училище изобразительных искусств или в адресный стол, чтобы зарегистрироваться, — то коричневая пыль всюду скрипела у меня на зубах.
Надо всем Берлином, над его восточным и тремя западными секторами висела пыль. Но после снегопада воздух очищался, тогда он казался настоящим воздухом Берлина, прославленным в популярной песне; из радиоприемника хозяйки, стоявшего на кухне, постоянно гремел этот незабываемый шлягер — «Воздух Берлина».
Лишь спустя десятилетие я написал длинное стихотворение: «Говорит Великая разборщица завалов», где в последней строфе звучит «Аминь!»:
«…Распыленный Берлин./ Пыль взлетает,/ опять оседает./ Великая разборщица развалов/ объявлена святой».
Здесь все было крупномасштабней, но зияло и больше пустот, так что казалось, будто с конца войны прошло меньше времени. Между огромных брандмауэров открывались широкие пространства. Новостроек почти незаметно, зато множество дощатых киосков и ларьков. Курфюрстендамм тщетно пытался выглядеть элегантным променадом. Только на Харденбергерштрассе между вокзалом «Цоологишер Гартен» и станцией метро «Ам Кни», позднее «Эрнст-Ройтер-плац», неподалеку от Штайнплац, высились строительные леса, из которых вскоре вылупилась четырехэтажная уродина Берлинского банка.
Итак, я на новом месте. Едва я приехал, с меня тут же сдуло весь дюссельдорфский налет. А может, мне всегда легко удавалось избавляться от балласта, не оглядываться назад, быстро осваиваться в новых обстоятельствах?
Во всяком случае, Высшее училище изобразительных искусств приняло меня по-свойски, будто его здание уцелело в годы войны специально для меня. Да и Карлу Хартунгу, моему новому учителю, не понадобилось много слов. Он представил меня своим студентам, а также натурщице, у которой как раз был перерыв и она вязала что-то вроде носка.
Мне отвели крючок для комбинезона в гардеробе и скульптурный станок. Лотар Месснер, выходец из Саара, предпочитавший, как и я, самокрутки, угостил меня табаком. Я оказался в мужской компании, единственной женщиной среди нас была ученица Хартунга коренастенькая Врони.
За главным зданием училища и за внутренним двором, засаженным деревьями, находились мастерские профессоров, которые вели классы скульптуры: Шайбе, Синтенис, Ульман, Гонда, Дирекс, Хайлигер и Хартунг, а также мастерские их учеников. Из окон нашей мастерской виднелся пустырь, слева — здание Технического университета, а справа — угол Музыкального училища. Подальше грудились остатки развалин, наполовину заросшие кустарником.
Выполненные по глиняным моделям скульптуры учеников Хартунга хотя и позволяли угадать влияние наставника, однако имели вполне самостоятельный характер. Единственная ученица придала черты собственного тела фигуре лежащей обнаженной женщины. Похоже, она была самой талантливой.
Атмосфера в нашей мастерской отличалась, пожалуй, здравомыслием. Никакой богемистости, никаких претензий на гениальность. Самый молодой студент Герсон Ференбах происходил из семьи шварцвальдских резчиков по дереву. Двое или трое приезжали из Восточного Берлина; их кормили в студенческой столовой соседнего Технического университета самой дешевой едой для «восточников». Ференбах показал мне, где поблизости, в магазине «Бакалея Хоффманна», можно купить недорогой хлеб, яйца, маргарин и мягкий сыр.
Уже в первую неделю я «проставился», нажарив для всех на электроплитке свежей селедки, обвалянной в муке; селедку я купил накануне, заплатил всего тридцать пять пфеннигов за фунт. Впредь я и кормился преимущественно свежей селедкой, которую покупал на еженедельном рынке.
Сразу по приезде я, помимо обязательной работы со стоящей обнаженной натурой, приступил в качестве свободной композиции к небольшой скульптуре, изображавшей курицу, которая позднее была обожжена и стала моей первой терракотовой фигурой. Это был отголосок моей поездки по Франции, когда я рисовал кур и петухов; они еще долго служили мотивами для моих стихов и рисунков — вплоть до сборника «Преимущества воздушных кур».
Во время одного из своих проверочных обходов Хартунг, обычно державший определенную дистанцию по отношению к ученикам, рассказал, как однажды — «будучи солдатом в период оккупации», корректно добавил он — посетил парижское ателье румынского скульптора Бранкузи. На него произвел сильное впечатление пластический язык Бранкузи, его «поэтизация базовых форм». Глядя на мою незаконченную курицу, он повторил одну из своих излюбленных сентенций: «Натура, но при этом вполне осознанная».
Его высказывания были здравыми, ясными, подобными дневному свету из больших окон мастерской. Он носил аккуратную темную эспаньолку. Человек с постоянной склонностью к самодисциплине. Он применял модное понятие «абстракции» к любому предмету или телу, от которых следовало абстрагироваться. Я оставался в своих работах вполне предметным, что не противоречило его пониманию абстракции. А вот запах жареной селедки, доносившийся сквозь смежные двери в профессорскую мастерскую, его раздражал, однако Хартунг входил в наше бедственное положение и даже время от времени угощал студентов картофельным салатом с котлетами, которые закупал в магазине «Бакалея Хоффманна». Он дружил со Шрибером и позднее вполне терпимо относился к растущему влиянию друга на своих студентов.
Еще в январе мне пришлось пройти запоздалое — я ведь приступил к занятиям в разгар семестра — устное собеседование, которое обычно устраивается до приема. Директор училища Карл Хофер, поначалу молчавший, и три-четыре профессора задавали наводящие вопросы; по ходу разговора профессора Гонду заинтересовали мои стихи из папки с работами, предъявленными для поступления. Он похвалил кое-что из цикла о Столпнике, процитировал некоторые из метафор, назвав их «смелыми, но все-таки чересчур рискованными», что вызвало у меня чувство неловкости, поскольку я сам считал подобную метафорику пройденным этапом.
По ироническим репликам другого профессора можно было догадаться, что Гонда сам некогда написал роман и даже опубликовал его. А кроме того, Гонда прослыл страстным поклонником Рильке. Тут мне пригодились те книжные запасы, с помощью которых отец Станислаус некогда утолял мой читательских голод, и я завел разговор о «Записках Мальте Лауридса Бригге».
Потом мы, естественно, перешли к деятельности Рильке в качестве секретаря и биографа скульптора Огюста Родена. Гонда и я продемонстрировали друг другу свою начитанность. Уж и не помню, что я декламировал наизусть, наверное, что-нибудь из парижской «Карусели»: «И снова белый слон, как белый сон…»
Компания профессоров, среди которых находился и Хартунг, в разговор не вступала, но наконец, прервав молчание, Хофер коротко заявил, что собеседование завершено, новичок принят, а о Рильке можно дискутировать бесконечно.
Меня до сих пор удивляет тот экзамен, который, по существу, и не был таковым, удивляет доброжелательность по отношению к стихам, явно перегруженным метафорикой; возможно, это был аванс новичку, в котором увидели многообещающего поэта.
Еще удивительнее было терпение, с которым Хофер, выглядевший в кругу других профессоров довольно обособленно, воспринял мои поначалу робкие, а потом самоуверенные тирады. Я бы учинил гораздо более строгий допрос.
Запомнилось лицо Хофера — на этом лице лежала печать утраты. Он вроде бы вел собеседование, но в то же время сидел с отрешенным видом, будто его не отпускали картины, сгоревшие при бомбежке; он словно восстанавливал мысленно одно живописное полотно за другим.
Я видел его лишь изредка, только когда он пересекал длинными шагами вестибюль училища. Вскоре разгорелась полемика с неким амбициозным художественным критиком, претендовавшим на непогрешимость; Хофер не пережил этого спора, да и спор этот не завершился по сей день.
Уже в первый же день я заметил слева, в глубине вестибюля, телефонную будку. Я чувствовал облегчение, когда видел, что она занята. Еще легче мне становилось при виде очереди из трех-четырех человек. Я привык избегать ее взглядом. Ибо когда телефонная будка пустовала, приглашая зайти внутрь, меня так и подмывало: давай, давай, давай…
Я заходил в нее, уговорив себя не трусить, набирал затверженный наизусть номер, но после первого же гудка бросал трубку. Раз-другой отвечала секретарша, однако я молчал. Монетки, опускавшиеся в щель, пропадали.
Но постоянно избегать телефонную будку не удавалось. Она выжидала, проявляла терпение: казалось, именно меня, нерешительного, подстерегает эта западня. Вскоре она стала возникать у меня перед глазами, едва я только отправлялся на Штайнплац или когда, покинув мастерскую, ступал во внутренний двор училища.
Она вставала на моем пути, преследовала жильца со Шлютерштрассе. Телефонная будка снилась открытой и зазывно пустой. Она брала меня в плен, наборный диск и цифры на нем неодолимо притягивали меня. Во сне меня мучил долгий телефонный гудок — «занято». И только во сне у меня получалось дозвониться, удачно завязать разговор, поддержать его.
Однажды, стоя в очереди к телефонной будке, я затеял натужный флирт со студенткой из класса профессора Синтениса; мне показалось, что этот флирт мне чем-то поможет. Студентку звали Кристиной, было в ней что-то от жеребенка — наверное, прическа «конский хвост». Хотелось погладить его, но не больше того. Когда девушка зашла в будку, некто, похожий на меня и всегда боявшийся обязательств, спешно ретировался.
Мое поведение вполне можно было бы назвать трусливым. Я повторял про себя цифры телефонного номера, как затверженную наизусть молитву, но это помогало ненадолго.
Как бы бережно я ни лелеял зачатки моей любви, она оставалась неживой, погребенной под грудой несказанных ласковых слов, однако вместе с тем меня тешило и промедление; ведь опасение любого дальнейшего шага оправдывалось тем, что всякий раз, заходя в телефонную трубку, я знал: если, пожертвовав две монетки, ты наберешь цифру за цифрой нужный номер, дождешься, когда снимут трубку, и услышишь, как секретарша танцевальной студии Мэри Вигман вежливо или не очень спросит о цели твоего звонка, а ты назовешь имя и фамилию ученицы, с которой ты неотложно желаешь поговорить, после чего дождешься, что эта ученица припорхнет к телефону и скажет на абсолютно правильном немецком: «Говорите, пожалуйста», — тогда ты пропал, тебе уже нет возврата, тебя повязали и взяли на поводок. Теперь уже не отвертишься, на тебя надвигается нечто, воплотившееся в живую девушку, имя которой ты произносил лишь в мечтах.
Когда я все-таки обменялся по телефону несколькими короткими фразами с ученицей танцевальной студии Анной Шварц, мы договорились о нашем первом свидании. Все произошло очень быстро. Хватило одного звонка.
Весьма непросто упомнить дни рождения всех моих детей и внуков, зато одну дату я знаю твердо: наше свидание состоялось 18 января 1953 года. Памятные исторические события, вроде великих битв или подписания мирных договоров, всегда казались мне живой современностью, так что дата основания Второго рейха по воле Бисмарка до сих пор помогает мне, когда я обращаюсь к тому морозному дню — субботнему или воскресному? — хотя само течение того дня помнится мне не столь отчетливо.
Мы договорились встретиться у выхода из подземки на станции «Цоологишер Гартен». После ранения между Зенфтенбергом и Шпрембергом, когда потерялись часы марки «Кинцле», я не носил с собой ничего такого, что более или менее точно показывало бы время, поэтому под вокзальными часами я очутился слишком рано, нерешительно ходил взад-вперед, борясь с искушением выпить для храбрости пару рюмок шнапса, но потом все-таки сдался — за стойкой одного из киосков напротив, так что от меня пахло алкоголем, когда точно в срок явилась Анна, выглядевшая моложе своих двадцати лет.
В ее движениях проглядывало нечто угловато-мальчишеское. Нос покраснел от холода. Что мне было делать днем с этой юной девицей? Вести к себе в комнату, где хозяйка категорически запретила жильцу «приводить дам»? Такой вариант мог прийти мне на ум лишь как напоминание о строгом запрете. Можно было бы отправиться в ближайший кинотеатр на Кантштрассе, однако там шел совсем неподходящий фильм — вестерн. Тогда я сделал то, чего раньше не делал никогда: церемонно пригласил фройляйн Шварц на чашечку кофе с пирожным в кафе «Кранцлер» на Курфюрстендамм.
В памяти никак не отложилось, где и как мы провели весь долгий остаток дня. Наверное, болтали. Как идут дела с танцами у «босоножек»? Вероятно, вы занимались балетом с детства? Как вам нравится новая учительница, знаменитая Мэри Вигман? Достаточно ли она строга и требовательна, как вам того хотелось?
А может, мы разговаривали о двух некоронованных королях поэзии, каковыми считались Брехт в восточной части города и Бенн — в нашей, западной? Зашла ли при этом речь о политике?
Не признался ли я, проглотив первый же кусочек пирожного, что и сам я поэт, чтобы произвести своим признанием впечатление на собеседницу?
Я мог бы, подобно золотоискателю, встряхивать и перетряхивать сито: нет, память не сохранила ни единой сверкающей крупинки, ни остроумной реплики, интересного замечания или оригинального сравнения. Не помню, сколько мы съели там или сям пирожных, а возможно, даже кусков торта, — на луковичном пергаменте это не значится. Так или иначе, время мы скоротали.
Настоящее свидание с Анной началось лишь под вечер, когда мы подчинились притягательной силе популярной в ту пору танцевальной площадки «Айершале». Сказать, что мы танцевали, было бы слишком мало. Мы обрели себя в танце, так будет вернее. Оглядываясь назад на шестнадцать лет нашей супружеской жизни, должен признаться: как бы мы с Анной, любя друг друга, ни искали сближения, мы становились по-настоящему близки, чувствовали себя единым целым, ощущали себя созданными друг для друга только в танце. Слишком часто мы смотрели мимо друг друга, уходили в сторону, искали то, чего не существовало вовсе, или то, что было лишь фантомом. А потом, когда мы уже стали родителями и у нас появились новые обязательства, мы все же потеряли друг друга; близкими нам обоим оставались только дети, и последним из них — Бруно, который никак не мог решить, к кому уйти.
Джаз-банд в «Айершале» чередовал диксиленд, рэгтайм и свинг. Мы танцевали все подряд, самозабвенно. Это давалось нам легко, словно мы репетировали вместе всю предшествующую жизнь. Пара, созданная по божественному капризу. Прочие танцующие уступали нам место. Но мы едва ли замечали, что на нас смотрят. Мы могли бы танцевать целую маленькую вечность, тесно обнявшись и свободно, обмениваясь короткими взглядами и легкими прикосновениями, расходясь, чтобы найти друг друга вновь, кружась парой, на легких ногах, которым хотелось лишь одного: разлучаться и сходиться опять, взлетать, парить в невесомости, ускоряться, опережая мысль, и быть медленнее, чем тягучее время.
После заключительного танца, около полуночи, я проводил Анну до трамвая. Она снимала комнату в Шмаргендорфе. Между танцами я вроде бы сказал: «Хочу на тебе жениться»; она же рассказала о каком-то молодом человеке, которому, мол, дала слово, на что я в свою очередь заявил: «Ну, и что? Поживем — увидим».
Легкое начало, которое уравновесило все последующие тяготы.
Ах, Анна, сколько же времени осталось у нас позади. Сколько незаполненных пробелов, сколько такого, что следовало бы забыть. Что незвано-непрошено встало между нами, а потом показалось желанным. Чем мы осчастливили друг друга. Что мы считали прекрасным. Что было обманчивым. Из-за чего мы сделались чужими, причиняли друг другу боль. Почему я еще долго — и не только из-за любви к уменьшительно-ласкательным суффиксам — называл тебя Аннхен, снова и снова.
Нас называли идеальной парой. Мы казались неразлучными, предназначенными друг для друга, и это правда. Мы были ровней: ты демонстрировала чувство собственного достоинства, я — привычную самоуверенность. На быстро меняющихся фотоснимках, которые чествуют молодую пару, я вижу, что мы оба составляем единое целое.
В театрах Восточного и Западного Берлина мы смотрели «Кавказский меловой круг» и «В ожидании Годо», ходили вместе в кинотеатр на Штайнплац, где показывали французскую классику — фильмы «Северный отель», «Золотой шлем» и «Человек-зверь». По твоим словам, я еще не оставался у тебя на ночь. Я засиживался с Людом Шрибером в пивной «Лейдике», пил за длинной стойкой рюмку за рюмкой, пока однажды ты не утащила меня оттуда совершенно пьяного. Ты приходила ко мне в студенческую мастерскую, где Хартунг называл тебя Muse Helvetia, а я глядел на твои босоногие танцы в каторжном доме Мэри Вигман. Ты не умела готовить, и я показывал тебе, как можно дешево и вкусно приготовить бараньи ребрышки с бобами, как легко разделывается жареная селедка. Однажды, опоздав на последний трамвай, я заночевал у тебя, и мы надеялись, что твоя квартирная хозяйка, это толстое старое пугало, ничего не заметит.
Наши общие друзья: Ули и Герта Хэртер, с которыми было так хорошо судачить обо всем на свете. С Рольфом Шимански по прозвищу Титус мы, будучи вдрызг пьяными, помочились на портал Берлинского банка, приняв новостройку за общественный сортир, что обошлось нам в целых пять марок штрафа. Позднее Ханс и Мария Рама первыми сфотографировали тебя в танце: ярко подсвеченную, в балетной пачке, на пуантах; ты рано захотела расстаться с экспрессивным танцем, уйти в классический балет, хотя подъем у тебя был недостаточно высок, а ноги коротковаты.
Чаще, чем мне хотелось, мы ходили на балет в театр Геббеля: этот счет фуэте, восторги насчет гран-жете. Ули и я свистели, когда давали занавес.
Да и на бумаге мы оказывались в одной связке: я написал либретто для балета, по ходу которого молодой человек в кепке спасается бегством, мечется по сцене, его преследуют двое полицейских; наконец, молодой человек прячется под юбкой балерины, которая одета крестьянкой и роль которой могла бы исполнить ты; крестьянка пустила парня под юбки, опасность миновала, все завершилось исполнением па-де-де: вульгарный комизм, далекий от классической строгости.
Это либретто, никогда не увидевшее сцены, позднее мутировало в прозу, а прыжки в замедленной съемке и похожая на немое кино пантомима с отрывистыми движениями стали эпизодами из первой главы «Жестяного барабана».
Мы любили друг друга и искусство. В середине июля мы стояли на краю площади Потсдамер-плац, которая представляла собой скорее огромный пустырь, и смотрели оттуда, как рабочие забрасывают камнями советские танки; мы не вышли за пределы американского сектора, остались у самой восточной границы, но чувствовали могущество власти и бессилие людей так близко, что в память врезались взмахи рук, швырявших камни, и стук ударов о танковую броню; спустя двадцать лет я написал свою немецкую трагедию «Плебеи репетируют восстание», где у восставших рабочих нет плана, они бесцельно носятся по кругу, а интеллектуалы, у которых всегда есть какой-то план, что способствует красноречию, терпят крах из-за своего высокомерия.
Мы были только зрителями. На большее не решились. Ты приехала из безопасного заповедника под названием «Швейцария», тебе этот испуг был внове, а во мне проснулся забытый страх. Танки были мне хорошо знакомы: «тридцатьчетверки».
Насмотревшись вдоволь, мы ушли. Насилие отпугнуло нас. Что-то делать можно было и в мыслях, например, швырять камнями в танки. У нас были мы сами и искусство. Этого было почти достаточно.
Мы купили палатку, немножко маловатую для двоих. Она была оранжевого цвета. С этой палаткой, притороченной к рюкзаку, мы намеревались отправиться летом на юг. Ах, Анна…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ДО БЕРЛИНА 80 КИЛОМЕТРОВ
ДО БЕРЛИНА 80 КИЛОМЕТРОВ В начале февраля войска нашего фронта, успешно продвигаясь на главном направлении, вышли на Одер, форсировали его и захватили плацдармы на левом берегу севернее и южнее Костшина (Кюстрина). Этот старинный польский город у впадения Варты в Одер был
С ракетами «воздух — воздух»
С ракетами «воздух — воздух» Все новые разработки в области авиационного вооружения были в поле зрения главного конструктора «Фокке-Вульфа». Неуправляемые реактивные снаряды не стали исключением. Уже на одной из опытных машин серии А-3 Курт Танк вместо крыльевых пушек
30. Гостья из Берлина
30. Гостья из Берлина Работа в Ганновере в качестве редактора принесла первые плоды. Ремарк стал известен как журналист, опубликовав несколько любопытных материалов. Один из них, эссе «О смешивании дорогих видов шнапса», приоткрывает одну из характерных особенностей
Бегство из Берлина
Бегство из Берлина 29 апреля я спросил Гитлера, не позволит ли он мне попытаться пробиться на запад. Фюрер сразу же согласился, но посчитал это едва ли уже возможным. Я сказал ему, что, по моему мнению, путь на запад сегодня еще открыт. Насчет опасности моего замысла я никаких
На меридиане Берлина
На меридиане Берлина Вряд ли кто в западне способен размышлять спокойно. А мы — в западне. Да еще под, самым носом у гитлеровцев. 6 часов утра. Я лежу на койке в своей каюте в беспокойной полудремоте. Напротив меня, на левом борту, в кают-компании сидит за столом военный
2. «Ехал я из Берлина…»
2. «Ехал я из Берлина…» Блокноты Алексея Ивановича, путешествуя по линии фронта, пополнялись не только стихами. Он успевал еще вести дневник своей жизни, которая слилась с судьбой собратьев по сцене. Из этих записей складывались статьи для военных газет.«…В пути
Бегство из Берлина
Бегство из Берлина Не знаю, сколько времени я пролежал без сознания, но когда пришел в себя, то обнаружил, Что мои глаза, ослепленные пламенем взрыва, перестали видеть. Я с ужасом подумал, что ослеп навсегда. Я начал шарить руками вокруг. Сознание вновь заработало.Видимо,
КАПИТУЛЯЦИЯ БЕРЛИНА
КАПИТУЛЯЦИЯ БЕРЛИНА Красное знамя Победы уже развевалось над куполом рейхстага, но в соседние кварталах ещё происходили горячие бои. После падения последних опорных пунктов обороны Берлина остатки немецкого гарнизона попытались вырваться из стального кольца
КАПИТУЛЯЦИЯ БЕРЛИНА
КАПИТУЛЯЦИЯ БЕРЛИНА Красное знамя Победы уже развевалось над куполом рейхстага, но в соседние кварталах ещё происходили горячие бои. После падения последних опорных пунктов обороны Берлина остатки немецкого гарнизона попытались вырваться из стального кольца
От Одера до Берлина
От Одера до Берлина В маленькой деревушке наши машины догнали главные силы бригады. Старший лейтенант Аматуни ушел к начальству. Вернувшись, сказал, что простоим здесь часа три-четыре. Ну, думаю, хоть траки на правой гусенице успею заменить. Несколько штук заменил, дальше
От Кубани до Берлина
От Кубани до Берлина Воздушное сражение над Малой землей сразу же потребовало от командования корпуса, офицеров штаба высокого уровня организации и руководства боевыми действиями. Уже первые потери, анализ проведенных боев привели к важным выводам. От нас требовалось,
ИЗ БЕРЛИНА В МОСКВУ
ИЗ БЕРЛИНА В МОСКВУ Домой Ну вот, кажется, и все. Все дела сделаны. Нанесены последние прощальные визиты, сборы закончены. Сколько же времени я пробыл в Германии?Впервые я попал туда в феврале 1930 года как практикант и проработал в Эссене на заводе Круппа семь месяцев, а
Из Берлина в Москву
Из Берлина в Москву Домой Ну вот, кажется, и все. Все дела сделаны. Нанесены последние прощальные визиты, сборы закончены. Сколько же времени я пробыл в Германии?Впервые я попал туда в феврале 1930 года как практикант и проработал в Эссене на заводе Круппа семь месяцев, а
ИЗ БЕРЛИНА В МОСКВУ
ИЗ БЕРЛИНА В МОСКВУ Домой Ну вот, кажется, и все. Все дела сделаны. Нанесены последние прощальные визиты, сборы закончены. Сколько же времени я пробыл в Германии?Впервые я попал туда в феврале 1930 года как практикант и проработал в Эссене на заводе Круппа семь месяцев, а
Письмо из Берлина
Письмо из Берлина Маркс, прочитавший рукопись брошюры Энгельса перед сдачей в набор и местами улучшивший ее, принял вместе с ее автором меры для распространения этого произведения и изложенных в нем идей в Германии. При этом Маркс и Энгельс получили энергичную поддержку