Глава 3. Навыки, полученные в магистратуре и аспирантуре
Глава 3. Навыки, полученные в магистратуре и аспирантуре
В сентябре 1947 года, чтобы стать ученым, я отправился в Блумингтон, округ Монро, где находился Индианский университет. Он в то время пробуждался от своего великосветского прошлого, из-за которого по-прежнему больше напоминал университет одного из южных штатов, чем более прогрессивные университеты Большой Десятки, такие как Висконсинский и Мичиганский. Преобразованием Индианского университета в заведение, для которого образование и наука не менее важны, чем развлечения по выходным, организуемые студенческими братствами и женскими обществами, руководил президент Герман Уэллс. Он возглавил университет в 1937 году, когда ему было всего тридцать пять лет. Невысокий крепыш, этот молодой уроженец небольшого индианского городка был наделен колоссальной энергией и даром предвидения великого будущего для своего университета, который до этого в академическом отношении был карликом среди других университетов Большой Десятки.
За тридцать лет застоя, начавшегося в 1910 году, президент Уильям Брайан не обеспечил постройки ни одного большого общежития. Поэтому Уэллс решительно взялся за преобразования, принимая новых сотрудников и используя федеральные средства, выделяемые на борьбу с Депрессией, чтобы развернуть строительство — в том числе великолепной аудитории на четыре тысячи мест. Поиск новых кадров для естественнонаучного факультета Уэллс поручил заведовавшему магистратурой и аспирантурой Фернандусу Пейну, чьи возможности до этого не использовались в полной мере. Настоящий уроженец Индианы, Пейн, как и почти все старшие сотрудники Индианского университета, поехал за степенью доктора философии[7] на восток и защитил диссертацию в Колумбийском университете, где в лаборатории Томаса Гента Моргана только что начались исследования дрозофилы — крошечной плодовой мушки. Пейну не повезло: он вернулся в Индиану совсем незадолго до того, как Морган и его студенты Альфред Стёртевант и Кальвин Бриджес начали свои эпохальные опыты по картированию локусов, в которых располагаются гены на хромосомах дрозофилы.
Хотя Пейн так и не стал большим генетиком, он знал, кто в науке занимается делом. Он предложил работу большим талантам, пока еще не открытым и недооцененным ведущими научными учреждениями. Из женского колледжа Гаучер в Балтиморе в 1938 году он переманил на отделение ботаники известного цитолога Ральфа Клеланда. Через год после этого он привел в отделение зоологии выдающегося протозоолога Трейси Соннеборна из Университета Джонса Хопкинса. Затем, в 1943 году, отделение бактериологии пополнилось итальянским ученым Сальвадором Лурия, врачом, который стал изучать генетику вирусов. В 1946 году Пейн продемонстрировал еще более эффектное достижение, убедив уже тогда всемирно известного специалиста по генетике дрозофилы Германа Мёллера вступить в ряды сотрудников Индианского университета.
Когда Пейн принимал на работу Соннеборна и Лурия, его нисколько не беспокоило их еврейское происхождение, из-за которого Соннеборн не смог получить постоянной ставки в Университете Джона Хопкинса, а Лурия не был приглашен преподавать в Колледж терапевтов и хирургов Колумбийского университета, где ему дали временную ставку, когда он во время войны прибыл в США как беженец. Мёллер, тогда работавший вместе со Сьюаллом Райтом, крупнейшим американским генетиком, был неудачником вдвойне. Он не только был евреем. Переехав в начале 1930-х из Техаса в Москву[8], он заработал репутацию крайне левого, каких не берут на работу в приличные места. Вернувшись в Америку в 1940 году, он смог получить временную должность в колледже Амхерста лишь благодаря вмешательству своего друга Гарольда Плау. Он обращался за помощью и ко многим другим друзьям, но ни один из ведущих университетов не предложил ему работы, несмотря даже на то, что к тому времени Мёллер стал убежденным противником советского правительства. Поэтому он с большим облегчением принял предложение стать профессором в Индианском университете. Вскоре Мёллер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, и у университета появилась еще одна причина гордиться ученым.
В Блумингтон я добрался на поезде железнодорожной компании Мопоп. Железная дорога Мопоп имеет особое значение для истории штата Индиана, а ее первые пути проходили неподалеку от фермы Глисонов возле Ла-Порта, где выросла моя бабушка. Она видела, как по этим путям ехал траурный поезд Линкольна, медленно пересекавший Средний Запад в направлении Спрингфилда в штате Иллинойс, где президент был похоронен. Я устроился жить и столоваться в Роджерс-центре, простом послевоенном комплексе общежитий, расположенном в одной миле к востоку от центра кампуса. Его двухэтажные корпуса были построены слишком быстро для того, чтобы нести ту печать неувядающего изящества, которая так характерна для домов из индианского известняка. Моя стипендия в 900 долларов с лихвой покрывала плату за проживание и еду, так что у меня даже оставалось достаточно денег, чтобы иногда сходить в кино или в ресторан.
В университете тогда училось около двадцати тысяч студентов. Все выпускники средних школ Индианы имели возможность пойти учиться или туда, или в соперничавший с Индианским Университет Пердью, специализировавшийся на инженерии и сельском хозяйстве и расположенный в ста милях к северу. Власти штата считали своей обязанностью обеспечить всех желающих хорошим образованием. Но каждый год около половины студентов первого курса бывали отчислены, не доучившись до второго. Причиной была низкая успеваемость, хотя значительное число студенток переходило в другие учебные заведения из-за того, что их не принимали ни в одно подходящее женское студенческое общество.
Стареющие лаборатории зоологии и ботаники, основанные в восьмидесятых годах XIX века, совсем не соответствовали задаче продвижения генетики. Однако Ральфу Клеланду, перешедшему в 1938 году на отделение ботаники, пришлось обходиться тем, что есть. Трейси Соннеборну, пришедшему через год, повезло больше: ему выделили помещение в довольно новом химическом корпусе. Сальвадор Лурия, появившись в 1943 году, получил новую лабораторию отделения микробиологии, расположенную на чердаке построенного в начале века Кирквуд-холла, первоначально предназначенную для физических и химических работ, на других этажах к тому времени изучали иностранные языки и диетологию. Для Германа Мёллера в 1946 году была в спешке устроена лаборатория в полуподвале столь же устаревшего корпуса физиологии. Мне как студенту первого курса магистратуры выделили стол на верхнем этаже зоологического корпуса, где старый лифт работал на канатах.
На первом этаже зоологического корпуса располагались помещения Альфреда Кинси, весьма почитаемого за работы по орехотворкам и до недавнего времени читавшего курс эволюции. Однако к 1947 году Кинси сосредоточился исключительно на проблематике человеческой сексуальности, что тогда было смелым шагом, особенно для университета, расположенного почти что на Юге. К счастью, в опубликованной незадолго перед тем книге Кинси, где обобщались результаты его исследований, было так много статистики, что она могла служить скорее слабительным, чем возбуждающим средством. Впоследствии в ответ на упреки критиков в игнорировании эмоциональных аспектов сексуальности созданный Кинси Институт человеческой сексуальности собрал предназначенную строго для служебного пользования библиотеку эротической литературы. Это привело к неприятностям, когда некоторые книги, закупленные во Франции, были конфискованы американской таможней и так и не были возвращены, чтобы служить целям науки, несмотря на все прошения Германа Уэллса.
На следующий день после прибытия я выбрал для себя курсы на ближайший семестр. Естественно, я записался на углубленный курс Мёллера по генетике — "Мутации и гены". Кроме того, Фернандус Пейн советовал мне как можно скорее пройти курс Трейси Соннеборна по генетике микроорганизмов — на отделении зоологии он был самой яркой из молодых звезд. Но в том семестре он читал лишь вводный курс генетики, и я записался на курс вирусологии, который вел Сальвадор Лурия. До меня вскоре дошел ходивший среди преподавателей слух, что Лурия отвратительно обращается со своими студентами. Но я беспокоился по этому поводу лишь до нескольких первых его лекций, которые оказались просто завораживающими. Другой мой выбор встретил меньше понимания со стороны моих кураторов с отделения зоологии: я записался на "Углубленный математический анализ" — это обычно выбирали только физики и математики. Но я опасался, что, не пройдя этот курс, я никогда не наберусь решимости продвинуться дальше в изучении физики, и это помешает мне заниматься продвинутыми методами исследования гена. По иронии судьбы читать этот курс должен был Лоуренс Грейвс — находившийся в годичном отпуске сотрудник Чикагского университета, где я ни за что бы не осмелился выбрать один из его курсов. Но в менее сильном Индианском университете мне не предстояло соперничать с математическими гениями, а кроме того, оценки теперь не имели для меня большого значения.
Требуемым учебником по курсу Мёллера была внятная и по сей день не потерявшая актуальности книга "Введение в современную генетику" (1939) английского биолога Конрада Хэла Уоддингтона.
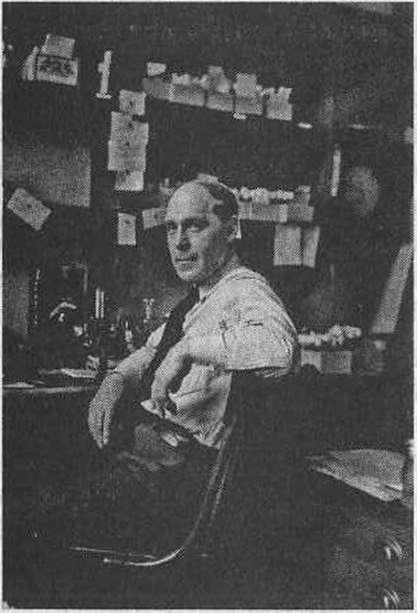
Герман Мёллер в 1941 году.
Однако самую суть этого курса составляла рассказываемая Мёллером на лекциях история его научной карьеры, начиная от студенческих лет, проведенных в "мушиной комнате" Колумбийского университета, в 1910 и 1915 годы. Мёллер был невысоким полноватым человеком и телосложением сам напоминал дрозофилу, а его лекции были потоками сознания, а не подготовленными выступлениями. В его эмоциональных речах толковые рассуждения о проблемах генетики перемежались, например, подробностями о том, как он был разочарован, когда его не сразу взяли в лабораторию Моргана, или о том, что коллеги не придавали его идеям должного значения. Еще менее увлекательны были его практикумы, на которых мы беспорядочно знакомились с рядом все более и более запутанных генетических скрещиваний. Чему это должно было нас научить, оставалось загадкой, и все указывало на один неизбежный вывод: время дрозофилы как модельного объекта прошло. И действительно, вскоре другой объект занял ее место в качестве основного средства изучения генов. Курс вирусологии, который читал Лурия, открыл для меня будущее, на пороге которого стояла тогда генетика. Ключевую роль суждено было сыграть микроорганизмам, чей короткий жизненный цикл позволяет проводить генетические скрещивания и анализировать их результаты за несколько дней, а не недель или месяцев. Лурия был особенно увлечен теми возможностями, которые обещали исследования кишечной палочки (Escherichia coli) и паразитирующих на ней вирусов — бактериофагов (или фагов, как их обычно называют для краткости). В 1943 году, вскоре после прибытия в Блумингтон, Лурия, которому был тогда тридцать один год, первым последовательно продемонстрировал, что Е. coli и ее фаги дают целый ряд легко идентифицируемых спонтанных мутаций. Лишь через три года после этого, в 1946 году, Джошуа Ледерберг, бывший тогда студентом-медиком и работавший в лаборатории Эдварда Тейтума в Иеле, показал возможность генетической рекомбинации между разными штаммами Е. coli. В тот же год Альфред Херши из Вашингтонского университета обнаружил генетическую рекомбинацию у фагов кишечной палочки Т2 и Т4 и вскоре подготовил первые генетические карты фаговых хромосом.
До первой лекции Лурия я совершенно не представлял себе, что такое вирусы. Вскоре я уже знал, что это небольшие возбудители инфекций, способные размножаться только в живых клетках. Вне клетки вирус совершенно не активен. Но как только он попадает в клетку, начинается процесс размножения, ведущий к сборке сотен или тысяч новых вирусных частиц следующего поколения, идентичных исходной материнской частице. В отличие от бактерий вирусы нельзя наблюдать в обычный микроскоп. Их размеры и форма стали известны лишь после изобретения намного более мощных электронных микроскопов, впервые сконструированных в Германии перед войной. Первые исследованные с помощью электронного микроскопа фаги имели неожиданную форму, напоминающую головастиков с многогранными головами, к которым прикреплялся более тонкий, похожий на хвост придаток. За двадцать с лишним лет до этого Мёллер высказывал предположение, что вирусы в действительности представляют собой голые хромосомы, которые некогда приобрели специальные структуры, помогающие им передаваться от одной клетки к другой. Эта гипотеза как будто подтверждалась сделанным в середине тридцатых годов открытием, что ДНК, которая, как вскоре выяснилось, входит в состав всех хромосом, входит и в состав фаговых частиц. Еще большее значение имело сделанное в 1944 году Освальдом Эвери и его коллегами из Рокфеллеровского института в Нью-Йорке открытие, что ДНК способна передавать генетические маркеры от одних клеток к другим у возбудителей пневмонии. По-видимому, это означало, что генетические особенности фагов тоже частично, если не полностью, определяются их ДНК.
Лекции Лурия особенно увлекали меня еще и тем, что на них он часто рассказывал о своем сотрудничестве в последние шесть лет с немецким физиком Максом Дельбрюком, идеи которого о природе гена, высказанные в середине тридцатых, легли в основу книги Шрёдингера "Что такое жизнь?". Теперь же Лурия и Дельбрюк пытались узнать, как единственная вирусная частица дает начало сотням идентичных потомков, чтобы через это приблизиться к пониманию того, как из гена получаются идентичные ему копии. Лурия и Дельбрюк считали, что если разобраться в размножении фагов, то нам станет понятен и фундаментальный механизм копирования генов.
Главным требованием курса Лурия была семестровая работа, в качестве темы которой я выбрал действие ионизирующего излучения на вирусы. В 1938-1940 годах Лурия использовал рентгеновские лучи для оценки размеров фагов, которых в то время еще нельзя было наблюдать в микроскоп. Он работал тогда в Париже, куда бежал из Италии после того, как Муссолини, заискивая перед Гитлером, впервые начал серьезные преследования итальянских евреев. Поскольку единственного акта ионизации достаточно, чтобы убить фага, минимальный размер фага можно было рассчитать исходя из зависимости числа убиваемых вирусных частиц от дозы рентгена. Этот подход, основанный на так называемой теории попаданий, был уже использован ранее, в 1935 году, Максом Дельбрюком для оценки размера генов дрозофилы, так что мне было нетрудно найти достаточно материалов для своей семестровой работы, ведь никаких оригинальных мыслей от меня не ожидали. Больше беспокоило меня, что мне снизят оценку за плохой почерк, но в итоге я получил "отлично".
Совсем не так легко давался мне матанализ, учебником по которому служил "Углубленный курс математического анализа" гарвардского математика Дэвида Уиддера. К счастью, Грейвс вскоре понял, насколько слабее в математике были его студенты из Индианы по сравнению с теми, кого он привык учить в Чикагском университете. Курс, который поначалу казался неподъемным, в итоге пошел легче и ближе к концу даже приносил удовлетворение. Кроме того, мне помогало присутствие на занятиях маленькой изящной блондинки, с которой я сверял ответы на домашние задания в буфете здания Студенческого союза. Оценки В было для меня более чем достаточно, чтобы продолжить этот курс и в весеннем семестре. Успешно пройденный серьезный математический курс был для меня большим шагом вперед, кроме того, он позволил мне удержаться среди растущего числа физиков, переключавшихся в те годы на биологию в стремлении раскрыть тайны гена.
Совсем не удивительно, хотя и приятно, было то, что я получил А+ по экологии животных. Вел этот курс Ламонт Коул, специалист по математической экологии, недавно приглашенный Фернандусом Пейном, чтобы расширить круг экологических проблем, которыми занимались в Индианском университете, до этого сводившийся преимущественно к экологии рыб. Мне очень нравилось подробно изучать адаптацию животных к среде обитания, а также совершать еженедельные полевые экскурсии и знакомиться на них с высокоспециализированными приспособлениями некоторых видов к своим экологическим нишам. Во время экскурсии в одну из известняковых пещер, которыми изрезана гористая местность в окрестностях Блумингтона, вооружившись несколькими шахтерскими фонарями, мы протискивались через узкие щели в полости, иногда обширные, с подземными водоемами, в которых мы искали слепых пещерных рыб. В отсутствие света здесь отсутствовало и давление отбора, отсеивающего мутантов, лишенных не только пигментации чешуи, но и зрения. Именно исследованиями слепых пещерных рыб прославился известный зоолог из Индианы Дэвид Старр Джордан. Настоящий харизматический лидер, он возглавлял университет до 1891 года, когда его выбрали первым президентом Стэнфордского университета. Однако ко времени моего обучения в Индиане Джордана здесь в основном помнили в связи с его шуткой, что каждый раз, запоминая имя одного студента, он забывал название одной рыбы.
Традиционный для Индианского университета уклон в изучение рыб был связан с обилием водоемов, на просторах Индианы. Их были тысячи — от крошечных фермерских прудов до огромных озер шириной во много миль, вдоль берегов которых стояли многочисленные домики для туристов. Когда я был ребенком, родственники моей матери по линии Глисонов иногда возили нас на рыбалку на озера в окрестностях Мичиган-Сити, где в удачные дни нам удавалось наловить, а потом зажарить больше солнечников и окуней, чем мы могли без особых усилий съесть. В другие дни клева не было, и мы возвращались домой в расстроенных чувствах. Департамент охраны природы штата Индиана стал помогать университету в поддержании биологической станции на озере Вайнона, где единицей измерения улова рыбы служил "удочко-час". Хотя в окрестностях были и озера, обычно дававшие по меньшей мере несколько рыб на одну удочку в час, там было и весьма удручающее озеро Оливер, где требовалось больше десяти часов, чтобы поймать хотя бы одну рыбу.
К тому времени я регулярно, по три раза в день, пешком проходил две мили, отделявшие мое общежитие в Роджерс-центре от естественнонаучного комплекса. Общежития были переполнены, в Роджерс-центре всех селили по двое, и те из нас, кто был связан с лабораторной работой, старались приходить в общежитие только для сна. Во время своих пеших прогулок я любил проходить по Джордан-авеню, где находились самые милые женские студенческие общества и где можно было увидеть девушек намного красивее тех, которых я встречал в естественнонаучных корпусах. Время от времени, чтобы отдохнуть от домашней работы или подготовки к экзаменам, я отправлялся на экскурсии за птицами с Палмером Скааром, тоже студентом первого курса магистратуры, не хуже меня знавшим местные виды птиц. Но лучше всего был баскетбол. На самой первой игре сезона команда Индианского университета вполне предсказуемо разгромила команду соседнего Университета Де По. Большинство игр с командами других университетов Большой Десятки были, напротив, весьма драматичны, вплоть до напряженных завершающих минут последней четверти. Очень увлекательными, хотя и требующими куда больших интеллектуальных усилий были неформальные вечерние семинары по генетике простейших, которые по пятницам стал устраивать у себя дома Трейси Соннеборн, чтобы заинтересовать новую порцию студентов магистратуры исследованиями своей лаборатории.
Чем больше я узнавал о бактериофагах, тем больше манила меня тайна их размножения, и еще до окончания первой половины осеннего семестра я уже знал, что не хочу делать диссертацию у Мёллера. Работа Мёллера, на глазах теряющая актуальность, не привлекла и никого другого из новых студентов, даже тех, кто выбрал Индианский университет из-за того, что там работал этот знаменитый ученый. Большинство из них покорила заразительная увлеченность Трейси Соннеборна крошечными одноклеточными инфузориями из рода Paramecium. Однако для меня, стремившегося исследовать фундаментальную природу гена, парамеции никак не могли конкурировать с фагами. Поэтому, преодолевая смущение, мне пришлось сказать Соннеборну, что я буду работать с Лурия, хотя я и боялся, что теперь он больше не пригласит меня на свои пятничные семинары по простейшим. Но он со всей учтивостью ничем не показал, что обижен моим решением, и сказал, что я могу по-прежнему приходить, если мне это интересно.
Как только начался весенний семестр, я начал учиться заражать культуры Е. coli фагом Тг и подсчитывать число бактерий, внутри которых размножались фаги. Кроме того, мне очень повезло подружиться с тридцатитрехлетним Ренато Дульбекко, который, как и Лурия, получил степень доктора медицины в Турине и прошлой осенью приехал в Индиану, чтобы научиться работать с фагами. Его семья по-прежнему оставалась в Италии, и Ренато почти все время проводил в лаборатории, всегда готовый дать мне необходимый совет, когда результаты моих подсчетов оказывались не такими, как я ожидал.
Моя учебная нагрузка в весеннем семестре была невелика, и я стал ассистировать на курсе орнитологии, где моя помощь, учитывая ихтиологический уклон отделения зоологии, была определенно нелишней. Среди сотрудников отделения не было настоящего орнитолога, поэтому курс по птицам вел Билл Рикер, лучший ихтиолог университета. Курс орнитологии давно имел репутацию легкого. Любой, кто ходил на полевые экскурсии, мог рассчитывать хотя бы на удовлетворительную оценку С, поэтому его, чтобы набрать требуемое число естественнонаучных курсов, выбирали студенты-физкультурники с нового отделения здравоохранения и физической культуры. Отделение это было образовано годом раньше, чтобы предотвратить повторение самой ужасной трагедии в истории университета: Роберт Херхенмайер, лучший футболист, когда-либо учившийся в Индиане, благодаря которому университетская команда осенью 1945 года в первый и последний раз выиграла чемпионат Большой Десятки по футболу, следующей весной был исключен за неуспеваемость. Однако для виду студенты нового отделения все же должны были пройти несколько курсов вместе с неспортсменами. В итоге мне доверили помогать двум мускулистым парням определять птиц, увиденных ранее на экскурсиях, проходивших по утрам в субботу, чтобы не дать новым студентам завалить комплексный экзамен в конце года. Я был вознагражден за труды тем, что увидел ряд птиц, которых почти невозможно было встретить в Чикаго, таких как кентуккский масковый певун, воробей Бахмана и хохлатая желна — самая эффектная из всех птиц, встречающихся на юге Индианы.
Первая задача, которую в лаборатории поставил передо мной Лурия, состояла в том, чтобы установить, могут ли фаги, инактивированные рентгеном, по-прежнему проходить генетическую рекомбинацию и производить жизнеспособное рекомбинантное потомство, свободное от поврежденных генетических детерминант, имеющихся у материнских фагов. Двумя годами ранее Лурия открыл, что фаги, инактивированные ультрафиолетом, способны к такой рекомбинации, когда два фага или больше заражают одну и ту же клетку Е. coli. Лурия привез Дульбекко из Италии как раз для проведения дальнейшего анализа этой "множественной реактивации", и теперь он надеялся, что я расширю рамки его открытия, используя для генетического повреждения вирусов рентгеновские лучи. Уже с первого эксперимента у меня стали получаться положительные результаты, и Лурия регулярно просматривал мои лабораторные записи, чтобы убедиться, что я все делал правильно.
Эксперименты пришлось ненадолго прервать, когда настала моя очередь выступить с лекцией перед преподавателями отделения зоологии. От всех студентов требовалось прочитать такую лекцию во время первого года магистратуры — ради тренировки, полезной для дальнейшей карьеры, которая с большой вероятностью будет связана с преподаванием. Поскольку я поступил на специальность "Зоология", я подготовил лекцию, в которой пересказывались выводы из книги английского орнитолога Дэвида Лэка "Дарвиновы вьюрки". Перед самой войной Лэк некоторое время жил на Галапагосских островах, продолжая исследования птиц, которые начал столетием раньше Чарльз Дарвин, благодаря им усомнившийся в неизменности видов.
За неделю до своей лекции я впервые встретился с Максом Дельбрюком. Он возвращался из Принстона, где гостил у своего кумира — датского физика-теоретика Нильса Бора, и заехал на несколько дней к Лурия, чтобы узнать, как идут эксперименты по множественной реактивации. Макс оказался прямой противоположностью тому лысеющему, немного полноватому немецкому профессору средних лет, которого я ожидал увидеть. Придя впервые в квартиру Лурия, который жил в нескольких кварталах к югу от главного кампуса, я лицом к лицу столкнулся с человеком, который больше напоминал такого же студента, как я. Макс, которому был тогда сорок один год, приехал в Соединенные Штаты в 1936 году, когда ему было тридцать. Как настоящий представитель немецкой протестантской университетской элиты, он поначалу увлекался астрономией. Но к двадцати годам, как раз когда рождалась квантовая механика, его интерес переключился на теоретическую физику. Получив степень доктора философии в двадцать четыре года в Гёттингене, он проработал несколько лет под опекой Бора в Копенгагене — столице мировой теоретической физики. Вернувшись в 1932 году в Берлин, чтобы работать у великого химика Отто Гана в Институте химии Общества кайзера Вильгельма, Дельбрюк познакомился с русским генетиком Николаем Тимофеевым-Ресовским, который в то время вместе с физиком Карлом Циммером использовал рентгеновские лучи для вызывания мутации у дрозофил. Из плодотворного общения всех троих возникла их эпохальная статья "О природе генных мутаций и структуре гена", идеи которой и легли в основу книги Шрёдингера "Что такое жизнь?".
Чтобы сделать в Германии академическую карьеру, Дельбрюк должен был демонстрировать нацистским бюрократам свою идеологическую лояльность. Не справляясь с этой задачей, в 1936 году он ухватился за предложение, поступившее от Фонда Рокфеллера, которое привело его на работу в Калифорнийский технологический. Томас Гент Морган и его коллеги Альфред Стёртевант и Кальвин Бриджес, к тому времени тоже уже знаменитые, работали там с 1929 года. Но, приехав в Пасадену, Дельбрюк нашел работу с дрозофилами скучной и вместо нее в подвале биологического корпуса занялся вместе с физхимиком Эмори Эллисом изучением фагов. Когда началась война, он, будучи иностранцем и уроженцем Германии, не мог участвовать в военных исследованиях. Вместо этого, по-прежнему получая финансовую поддержку Фонда Рокфеллера, он стал преподавать физику в Университете Вандербильта. Его сотрудничество с Лурия началось вскоре после того, как тот приехал из Италии в Нью-Йорк. Летом 1941 и 1942 годов они проводили исследования в Биологической лаборатории в Колд-Спринг-Харбор на Северном берегу Лонг-Айленда.
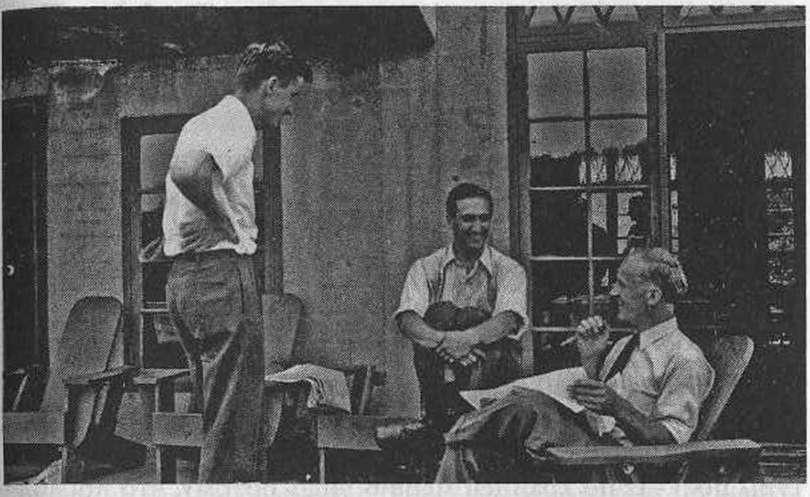
Макс Дельбрюк с Сальвадором Лурией и его коллегой Фрэнком Экснером на симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор в 1941 году.
После этого на зиму Лурия приезжал в Нэшвилл, где работал по гранту Фонда Гугенхайма, пока в начале 1943 года не получил ставку в Индианском университете.
За ужином Дельбрюк и Лурия радостно рассказывали про свое сотрудничество, особенно про Колд-Спринг-Харбор. Лурия уже говорил мне, что собирается проводить там следующее лето, и пригласил Дульбекко и меня поехать вместе с ним. Дельбрюк тоже собирался вернуться в Колд-Спринг-Харбор, что он делал каждое лето начиная с 1941 года. Я с интересом узнал от Дельбрюка о его летнем курсе по фагам, начатом в 1945 году. Предыдущим летом ради этого курса в Колд-Спринг-Харбор приезжал Лео Силард, венгерский физик, чье имя будет навсегда связано с именем Энрико Ферми, вместе с которым Силард осуществил в 1942 году в Чикагском университете первую поддерживаемую ядерную реакцию. Следующий день после этого ужина Лурия и Дельбрюк провели за разговорами о фагах, после чего они играли в парный теннис вместе со мной и Дульбекко. При этом я остро почувствовал, что мне нужно усиленно тренироваться, если я хочу когда-нибудь играть с Дельбрюком один на один.
В конце мая в Блумингтоне уже началось настоящее лето, и днем температура в лаборатории Лурии на чердаке, где плохо работали кондиционеры, нередко поднималась так высоко, что агар в чашках Петри подолгу не хотел застывать. Продолжать эксперименты в этом семестре не было большого смысла, даже когда температура ненадолго упала. Кроме того, мне нужно было готовиться к комплексному экзамену по математике. За "Углубленный анализ" я не переживал. Грейвс сообщил нам, что все студенты магистратуры получат по крайней мере В лишь потому, что продолжили курс — все студенты колледжа к тому времени уже выбыли. Но "Дифференциальные уравнения" профессора Кеннета Уильямса — это совсем другое дело. Все знали, что по-настоящему он давно уже увлечен другим — Гражданской войной и своими книгами о ней, которые принесли ему немалый успех. У меня с ним не было взаимопонимания, я находил его неприятным и занудным и с облегчением ушел от него с оценкой В-.
В прекрасном настроении я заехал ненадолго домой, после чего отправился в Колд-Спринг-Харбор — свою первую поездку на Восточное побережье. Этот год превзошел мои самые лучшие ожидания, ведь я был теперь в гуще событий в увлекательных поисках природы гена. Я полностью осознал, как много мне дало обучение в Чикагском университете, где я научился быть прямолинейным и называть вещи своими именами. Не то чтобы я превосходил других студентов магистратуры по врожденным способностям, но мне легче, чем другим, давалось оспаривание разных идей и общепринятых истин, касалось ли дело политики или науки. Никогда не забывая усвоенную от Роберта Хатчинса истину, что в научном мире полно посредственности, я всегда заботился о том, чтобы выбирать такую работу, которая будет способствовать моей научной карьере и не будет обучением бессмыслице.
Усвоенные уроки
1. ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ МОЛОДОГО НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Чем старше будет ученый, которого вы выберете в руководители вашей диссертации, тем больше шансов, что вы займетесь работой в области, лучшие времена которой прошли, возможно, еще до вашего рождения. Даже если зрелый ученый еще не выжил из ума, он нередко работает над тем, чтобы класть новые кирпичи в стены здания, в котором и без того уже достаточно комнат. Вне всякого сомнения, именно так обстояли дела с Германом Мёллером, когда он стал работать в Индианском университете. Хотя из его лекций студенты магистратуры могли узнать немало полезного, лучшая пора тех исследований, которыми он занимался, давно прошла, и поэтому у тех, кто у него работал, не было явных перспектив для успешной научной карьеры. Напротив, молодого профессора обычно нанимают не за громкое имя, а за то, что он представляет новое направление научной деятельности, которого раньше не было в том отделении, куда его взяли на работу, и которое, есть надежда, будет бурно развиваться еще хотя бы лет десять. Кроме того, молодые ученые обычно руководят меньшими исследовательскими группами, чем ученые преклонного возраста, вокруг которых склонны собираться как средства, так и закоснелые умы. Я, вне всякого сомнения, выиграл от того, что стал первым аспирантом Сальвадора Лурия и мне не приходилось делить его внимание с другими аспирантами. Лурия тогда лишь ожидал рождения своего первого сына, и заботы семейного человека не отнимали у него много времени, поэтому даже по выходным он нередко бывал у себя в лаборатории, и его работа продвигалась так быстро, насколько это вообще было возможно.
2. ОЖИДАЙТЕ, ЧТО У МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ БУДЕТ РЕПУТАЦИЯ ЗАНОСЧИВЫХ ЛЮДЕЙ
Те, кто не принадлежал к близкому кругу Сальвадора Лурия, нередко ехидно отзывались о том духе собственного превосходства, который демонстрировала группа по бактериофагам, сформировавшаяся вокруг него и Дельбрюка. Склонность Лурия иногда бесцеремонно отвергать ту или иную научную проблему как ерунду, не стоящую семинара, неизбежно вызывала неприятие коллег, привыкших к местным хорошим манерам, в соответствии с которыми добрососедские отношения запрещали слишком строго судить друг друга. Но даже самый учтивый из интеллектуальных новаторов неизбежно представляет угрозу для тех, кто хочет мыслить по-старому. Новаторство мало чем поможет вашим подопечным, даже если вы считаете, что ваш путь сулит больше успеха, чем старые подходы, но не говорите этого вслух. А за пределами узкого круга последователей интеллектуальных первопроходцев неизбежно считают в лучшем случае людьми заносчивыми, а в худшем — психами. Работайте головой и делайте собственные выводы.
3. РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР ЗА СЧЕТ КУРСОВ, КОТОРЫЕ ВАС ПОНАЧАЛУ ПУГАЮТ
В колледже я боялся, что из-за моих ограниченных математических способностей я смогу стать максимум натуралистом. Когда я решил заняться генами, природа которых, несомненно, таилась в их молекулярных свойствах, то понял, что у меня не осталось иного выбора, кроме как бросить вызов своей слабости. Я знал, что математика лежит в основе всей физики и что описать силы, задействованные в трехмерных молекулярных структурах, можно только с помощью математических методов. Лишь выбрав курсы высшей математики, я мог добиться достаточно свободного владения ею и работать на переднем крае интересовавшей меня области, даже если бы я никогда не приблизился к переднему краю математики. Поэтому оценки В, полученные на экзаменах по двум действительно сложным математическим курсам, принесли мне больше уверенности, чем любые отличные оценки, которые я наверняка получил бы на биологическом курсе, каким бы продвинутым он ни был. Хотя мне никогда не пришлось использовать все изученные мной аналитические методы, но анализ распределения Пуассона, который требовался для большинства экспериментов с фагами, вскоре перестал вызывать у меня чувство неполноценности и стал приносить моральное удовлетворение.
4. НА УСТНЫХ ЭКЗАМЕНАХ ОКУПАЕТСЯ СКРОМНОСТЬ
На втором курсе магистратуры мне предстоял традиционный устный экзамен для проверки базовых знаний в своей области. После него предстояло сосредоточиться на исследованиях по теме диссертации. Этот экзамен длился два часа — за это время многое не обсудишь, а так как я знал, кто из профессоров будет входить в состав экзаменационной комиссии из трех человек, то мог заранее определить круг вопросов, которые мне могли задать. Но даже в такой ситуации устный экзамен остается одним из немногих испытаний в магистратуре, где вас могут ухватить за слабое место: экзаменаторы, если захотят, могут задать едва ли не любой вопрос. Поэтому отвечать на устном экзамене лучше всего так, как вы бы отвечали автоинспектору, остановившему вас за превышение скорости. Если у вас есть склонность дерзить, вам стоит показать, что вы нервничаете, потому что малейшие признаки самоуверенности могут вдохновить экзаменатора на то, чтобы попытаться сбить с вас спесь, из-за чего вам придется пересдавать часть экзамена через несколько месяцев.
5. ИЗБЕГАЙТЕ УГЛУБЛЕННЫХ КУРСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПУСТОЙ ТРАТОЙ ВРЕМЕНИ
После того как была сформирована комиссия из трех человек, которой предстояло принимать у меня экзамен, я встретился с членами комиссии, чтобы обсудить, какие углубленные технические курсы мне нужно будет сдавать. Учитывая, что я теперь работал с фагами, размножающимися в бактериальных клетках, я никак не мог сказать недавно взятому на постоянную работу специалисту по физиологии растений Ирвину (Ганни) Гансалусу, что я мог обойтись без изучения ключевых ферментативных процессов бактериального обмена веществ. Специально для меня одного он устроил небольшой практический курс, по которому я получил А, как обычно и бывает в таких случаях. Но когда добрейший Ральф Клеланд, специалист по генетике растений, предложил мне продолжить изучать его скучный курс цитологии, по которому в тот осенний семестр планировалось проходить гистологические методы, я прямо заявил, что считаю этот курс для себя пустой тратой времени. Всегда изысканно вежливый, Клеланд был явно огорчен, но возражать не стал. Вернувшись со мной после этого в лабораторию, Лурия устроил мне разнос и потребовал, чтобы я никогда больше не выказывал преподавателям своего неуважения. Но Ганни встал на мою сторону, чем привел меня в восторг, сказав, что я продемонстрировал интеллектуальную прямоту вроде той, какая была, как утверждают, свойственна в молодости Роберту Оппенгеймеру.
6. НЕ ВЫБИРАЙТЕ САМИ ТЕМУ ВАШЕЙ ПЕРВОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Когда я только начал проводить первые эксперименты, я был слишком наивен для того, чтобы найти для себя подходящую исследовательскую задачу, и даже для того, чтобы сделать разумный выбор из того, что предлагают другие. Поэтому я начал с изучения проблемы, которая интересовала Лурия. Он сразу проявил заинтересованность в моих результатах и проследил за тем, чтобы были сделаны все контрольные эксперименты. Более того, Лурия благоразумно дал мне для начала задачу, выполнение которой не имело принципиального значения для его собственных исследований, поэтому на меня никогда не давила необходимость поспеть со своими экспериментами в срок, чтобы не расстроить его планы. Мои первые эксперименты, к счастью, дали положительные результаты, а Лурия любезно отказался ставить себя в соавторы тезисов, обобщающих достижения первых месяцев моей работы, которые я послал в Генетическое общество. Вскоре я уже сам планировал направление своей экспериментальной деятельности и за последующие два года несколько раз менял его. Две журнальные статьи, обобщавшие результаты, полученные мной в ходе работы над диссертацией, тоже вышли только под моим именем, несмотря на то что Лурия изрядно помог мне. Он заново переписал многие фразы из моего текста, прежде чем его прочитали другие члены комиссии, и в итоге мои статьи оказались намного лучше. Несмотря на столь важную для меня помощь, Лурия дал мне почувствовать свою ответственность за эти статьи со всеми их достоинствами и недостатками, почувствовать, что я не работаю ни на кого, кроме себя.
7. КРУГ ВАШИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАМНОГО ШИРЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ
Когда работа над диссертацией начинает идти полным ходом, она может показаться чем-то вроде марафона, требующего полной отдачи. Но я получил во время обучения в Индианском университете немало полезного опыта и благодаря отличным курсам, которые я выбирал, работая над диссертацией. Когда мои эксперименты не приносили желаемых результатов, У меня всегда оставались другие стимулы. Мои любимые курсы требовали написания объемных семестровых работ и заставляли меня читать оригинальные статьи по вопросам, в которые я в противном случае едва ли стал бы влезать. Особенно большое влияние на мое интеллектуальное развитие оказала объемная работа, написанная по предложению Трейси Соннеборна, о спорных результатах экспериментов на зеленой водоросли хламидомонаде немецкого специалиста по биохимической генетике Франца Мёвуса. Пройденный недавно курс научного немецкого позволил мне прочитать его работы в оригинале, в том числе и опубликованные во время войны и не получившие широкой известности. Хотя результаты, полученные Мёвусом, подвергались сомнению, потому что статистика была близка к идеальной, Соннеборн был интуитивно склонен верить Мёвусу, изящно продемонстрировавшему, как гены управляют ферментативными реакциями. Я полагал, что нашел новый способ интерпретации данных Мёвуса, и, как и Соннеборн, хотел доверять его результатам. Позже Трейси включил часть анализов из моей семестровой работы в большой обзор, посвященный работам Мёвуса, но, к нашему общему ужасу, через несколько лет было установлено, что Мёвус подделал свои результаты. В таком исходе было мало приятного, но, по крайней мере, это дало мне ценный урок того, как опасно в науке выдавать желаемое за действительное. Такие уроки лучше получать из чужих работ, чем из своих собственных.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 1. Навыки, усвоенные в детстве
Глава 1. Навыки, усвоенные в детстве Я родился в 1928 году в Чикаго, в семье, верившей в книги, птиц и Демократическую партию. Я был первенцем, а через два года после меня на свет появилась моя сестра Бетти. Родился я в больнице Св. Луки, поблизости, если ехать на машине, от
Глава 2. Навыки, приобретенные студентом колледжа
Глава 2. Навыки, приобретенные студентом колледжа Я начал учиться в Чикагском университете летом 1943 года. Начав обучение летом и продолжая заниматься летом в последующие годы, я имел неплохой шанс получить степень бакалавра прежде, чем мне исполнится восемнадцать лет и
Глава 4. Навыки, воспринятые в группе по фагам
Глава 4. Навыки, воспринятые в группе по фагам Я приехал в Нью-Йорк в середине июня 1948 года ночным поездом из Чикаго по Пенсильванской железной дороге. Прибыв на Пенсильванский вокзал, этот шедевр неоклассического стиля работы Маккима, Мида и Уайта, я перенес свои вещи на
Глава 5. Навыки, переданные амбициозному молодому ученому
Глава 5. Навыки, переданные амбициозному молодому ученому Вернувшись осенью 1948 года в университет Индианы, где атмосфера была не такой интеллектуально насыщенной, я начал эксперименты, основу для которых Лурия заложил в 1941 году. Тогда Лурия заметил, что фаги, взвешенные в
Глава 7. Навыки, свойственные преподавателю без постоянной ставки
Глава 7. Навыки, свойственные преподавателю без постоянной ставки В Гарварде, где я начал работать с осени 1956 года, считалось, что это лучший университет в Соединенных Штатах. Несомненно, что это был старейший университет с самым большим бюджетом, и у него были все
Глава 11. Навыки, востребованные академической профнепригодностью
Глава 11. Навыки, востребованные академической профнепригодностью С момента присуждения Нобелевской премии меня грела мысль, что меня ждет большее, чем обычно, повышение ежегодной зарплаты. За последние два года я дважды получил прибавку к ежегодной сумме в 1000 долларов,
Глава 13. Навыки, необходимые для общения с университетскими коллегами
Глава 13. Навыки, необходимые для общения с университетскими коллегами К середине 1960-х направление исследований, которые проводились на четвертом этаже в моей лаборатории и в лаборатории Уолли, все больше устремлялось в сторону проблемы регуляции работы генов
Глава 5 Письма и телеграммы, полученные мною от Лёни
Глава 5 Письма и телеграммы, полученные мною от Лёни Нужно сказать, что за время своих съемок в кино в 70-е годы Лёня мне написал и отправил много писем и телеграмм, которые дополнят мои записи и, надеюсь, смягчат некоторые мои чересчур резкие и эмоциональные откровения в
Учеба в аспирантуре ВКШ КГБ СССР
Учеба в аспирантуре ВКШ КГБ СССР Изумительным периодом жизни каждого ученого становится обучение в аспирантуре. Что же тогда говорить об исключительно благоустроенной, высокооплачиваемой возможности, предоставленной системой социализма и руководством КГБ СССР,
ГЛАВА 13 Где наши мечты обогнали мои навыки
ГЛАВА 13 Где наши мечты обогнали мои навыки Происходило что-то странное — в этом у меня не было никакого сомнения. Просто поначалу я не мог определить, что это такое.Члены моей команда были довольны — им «посчастливилось» найти работу, которая не требовала особых навыков: