Введение
Введение
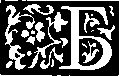 урные события английской буржуазной революции середины XVII в. были уже позади, когда Толанд вступил в жизнь. Его детство и юношеские годы пришлись на период реставрации Стюартов, вернувшихся к власти в 1660 г. Зрелые же годы философа протекли в эпоху, наступившую вслед за так называемой «славной революцией» 1688—1689 гг. Напомним, что это был бескровный государственный переворот, в результате которого в Англии утвердилось контролируемое парламентом правительство Вильгельма III Оранского, ставленника «наживал из землевладельцев и капиталистов» (1, 23, 735)[1].
урные события английской буржуазной революции середины XVII в. были уже позади, когда Толанд вступил в жизнь. Его детство и юношеские годы пришлись на период реставрации Стюартов, вернувшихся к власти в 1660 г. Зрелые же годы философа протекли в эпоху, наступившую вслед за так называемой «славной революцией» 1688—1689 гг. Напомним, что это был бескровный государственный переворот, в результате которого в Англии утвердилось контролируемое парламентом правительство Вильгельма III Оранского, ставленника «наживал из землевладельцев и капиталистов» (1, 23, 735)[1].
Заключив взаимовыгодный компромисс за счет народных масс, господствующие классы получили дополнительные возможности для обогащения, укрепления своих позиций и влияния. «Политические трофеи — доходные и теплые местечки — оставлялись в руках знатных дворян-землевладельцев при условии, что они в достаточной мере будут соблюдать экономические интересы финансового, промышленного и торгового среднего класса» (1, 22, 310). И хотя английская буржуазия не могла пока еще претендовать на ведущую роль в политической жизни страны, она была вполне удовлетворена своим общественным положением. Земельная же аристократия со своей стороны прекрасно понимала, «что ее собственное экономическое процветание неразрывно связано с процветанием промышленного и торгового среднего класса» (там же).
Таким образом, «славная революция», возвестившая о вступлении Великобритании в эпоху капиталистического развития, привела политическую надстройку общества в соответствие с экономическим базисом. Используя парламент, ставший носителем реальной власти, имущие классы начали проводить ту внутреннюю и внешнюю политику, которая наиболее полно отвечала их эгоистическим интересам. Подавление и эксплуатация трудящихся, экспроприация крестьянства, принуждение к труду бедняков, налоги и поборы с населения, торговые войны и колониальные захваты — таковы основные звенья этой политики.
У кормила правления находились в то время две политические партии, сменявшие одна другую: виги и тори. Первые стояли ближе к обуржуазившейся дворянской аристократии, к крупной торговой и финансовой буржуазии. Вторые — к земельным собственникам из числа средних и мелких помещиков (сквайров). Борьба между вигами и тори составляла содержание внутриполитической жизни Англии на протяжении долгих лет. Особенно острый характер носила она в конце XVII и в начале XVIII в. В конечном итоге верх в этой борьбе взяли виги, и это не случайно. Как пишет известный английский историк, «политика вигов, а не политика тори должна была выиграть... благодаря непрерывному процессу экономических изменений, которые вели с неизменно ускоряющимся темпом к аграрному и промышленному перевороту, оставившему лишь очень немногое от того, чем характеризовались старые пути развития страны» (54, 275).
Следует помнить, однако, что и виги и тори представляли лишь верхушку английского общества, тогда как абсолютное большинство населения не имело по сути дела политических прав. Только в 1832 г. была проведена парламентская реформа избирательной системы, которая дала возможность средней и мелкой буржуазии участвовать в парламентских выборах и избирать своих депутатов. Политическое же бесправие трудящихся масс сохранилось и в XIX в.
Наряду с государственным аппаратом на страже интересов господствующих классов находилась англиканская церковь. Являясь государственной церковью Англии, она пользовалась большим влиянием и значительными привилегиями. Внутри англиканской церкви существовало два подразделения: высокая церковь, сохранившая близость к католицизму и связанная преимущественно с дворянством, и низкая церковь, связанная более тесно с буржуазией. Что касается пуританизма, бывшего идеологией буржуазной революции середины XVII в., то после переворота 1688—1689 гг. он не получил полного признания и вынужден был довольствоваться положением терпимого, но нежелательного религиозного течения. (Принятый в 1689 г. «Акт о веротерпимости» признавал право пуритан, оформившихся в ряд сект: пресвитериан, баптистов, квакеров и др., отправлять свой культ, но лишал их многих гражданских прав, например права занимать государственные посты. Эти ограничения имели вполне определенный классовый смысл, поскольку пуританские секты состояли главным образом из народных масс.) К числу так называемых нонконформистов, т. е. лиц, не принадлежащих к государственной англиканской церкви, относились и приверженцы двух наиболее радикальных протестантских сект: унитарии и социниане. Они отвергали догмат троицы, божественность Христа, догматы о грехопадении и искуплении, отстаивали идею единого бога, отождествляя его зачастую с мировым разумом, выступали за широкую веротерпимость. Не удивительно, что сторонники этих сект подвергались гонениям, а их деятельность находилась под запретом. (Легализация унитариев и социниан произошла только в 1813 г.)
С еще большим ожесточением преследовались деисты. Мы подошли здесь к характеристике того идейного направления в духовной жизни английского общества XVII—XVIII вв., которое самым непосредственным образом связано с деятельностью и творчеством Джона Толанда и его единомышленников.
Деизм (от лат. deus — бог) возник в начале XVII в. в русле идейных течений, которые выражали устремления прогрессивных слоев к секуляризации общественной жизни и сознания, искоренению религиозной нетерпимости и фанатизма, освобождению философии и науки от пут схоластики. Родоначальником английского деизма считается Герберт из Чербери, автор «Трактата об истине» (1624), в котором он изложил свою религиозно-философскую концепцию. Сущность этой концепции состояла в постулировании ряда принципов или общих понятий, которые должны быть положены в основу «разумной религии». Вот эти принципы: существует бог, или верховное существо; бога следует почитать; добродетель и благочестие суть важнейшие способы почитания бога; необходимо сожалеть о своих поступках и раскаиваться в них; как в земной, так и в загробной жизни каждому будет воздано по его заслугам (см. 67, 291—300). Отличительными признаками указанных принципов Герберт считал, во-первых, их априорный характер, во-вторых, непосредственную достоверность и убедительность, в-третьих, общепризнанность. В религиозных общих понятиях, или принципах, утверждал Герберт, отражено истинное представление о боге, с которым согласуются все вероисповедания. Все остальное содержание положительных религий, или религий откровения, должно быть отброшено как неистинное, как результат всевозможных наслоений и искажений, ответственность за которые несет духовенство.
Как видно, христианский бог лишался Гербертом не только триединства, но и своих обычных атрибутов (всемогущества, всеведения и т. п.), превращался в безличное разумное начало, утрачивал способность обнаруживать себя в мире (посредством откровения, чудес и т. п.) и тем более постоянно воздействовать на него, управлять им. Это был разрыв с теизмом (от греч. theos — бог), в основе которого лежит представление о личном боге как творце и вседержителе. Принципы Герберта означали также отказ от религиозной обрядности, культа и церковной организации. Центр тяжести переносился на нравственное поведение человека, а богопочитание сводилось лишь к признанию некоего верховного существа и следованию добродетели. Вместе с тем нетрудно заметить, что религиозно-философская концепция Герберта содержала еще отдельные мистические элементы: веру в бессмертие души и загробное воздаяние. Следует также иметь в виду, что Герберт не исключал возможности вмешательства бога в жизнь людей, признавал, хотя и с оговорками, откровение, отвергал атеизм, заявляя, что религиозность, вера в бытие божие, изначально присуща людям, является «таким же необходимым признаком человека, как и разумное мышление» (там же, 273).
Дальнейшее развитие английского деизма шло в двух направлениях. Первое из них представляли деисты-идеалисты: Ч. Блаунт, М. Тиндаль, Т. Уолластон и др. Как и Герберт, они выводили существование бога из некоторых априорных принципов, присущих якобы от природы человеческому сознанию. При этом они также критиковали христианство с рационалистических позиций и противопоставляли ему «естественную религию», сводившуюся в основном к богопочитанию и нравственным наставлениям. Поскольку деисты-идеалисты считали «разумную», или «естественную», религию извечной и необходимой, они выступали против атеизма и атеистов, осуждали неверие точно так же, как и безнравственность.
Второе направление английского деизма представлено философами-материалистами. Отталкиваясь от общего всем деистам положения о существовании «разумной первопричины» (intelligent first cause), они пытались сочетать деизм с материалистическим миропониманием. При этом деисты-материалисты опирались на успехи естествознания того времени, использовали труды таких корифеев науки, как Коперник, Галилей, Ньютон.
В итоге в Англии возникла специфическая «деистская форма материализма», на существование которой обратил внимание Ф. Энгельс (см. 1, 22, 311). К указанной форме принадлежали последователи Гоббса и Локка — английские философы конца XVII — начала XVIII в., ставшие наиболее радикальными критиками религии и церкви, занимавшие передовые позиции в идейной борьбе послереволюционного периода. Они называли себя свободными мыслителями (free-thinkers) и представляли прогрессивные демократические круги английского общества, которых не мог удовлетворить классовый компромисс 1688—1689 гг.
Помимо двух разновидностей деизма — материалистической и идеалистической — в духовной жизни Англии значительным влиянием пользовались и некоторые другие круги. К ним следует отнести в первую очередь лиц, группировавшихся вокруг издателей популярных нравоучительных журналов «The Tatler» и «The Spectator» (издававшихся в начале XVIII в.) Р. Стила и Д. Аддисона. Принадлежа к партии вигов, они использовали печать для критики тористской оппозиции, выражавшей интересы земельных собственников. В то же время они нападали и на радикально-демократические круги, представленные деистами-материалистами. Последние же подвергались нападкам и со стороны писателей и публицистов, примыкавших к тори.
Речь идет о лидере тори Болингброке (1678—1751) и знаменитом сатирике Свифте (1667—1745). Склонявшийся сам к деизму, Болингброк третировал «свободных мыслителей» за их демократизм, за то, что они пытаются снять религиозную узду с простого народа. Деизм Болингброка являлся, по выражению Энгельса, «аристократическим эзотерическим учением» (там же), т. е. был рассчитан на привилегированные и образованные круги общества. Народные же массы, по мнению Болингброка, обязаны были следовать установленной религии и во всем подчиняться духовенству. «Что религия необходима для укрепления государства и что она является одной из его опор, нельзя отрицать, я полагаю, не противореча как разуму, так и опыту»,— писал Болингброк (18а, 292). Что касается Свифта, то он занимал в сущности антиклерикальные позиции. Его, известная «Сказка бочки» (1704)—пародия на евангельские притчи — вызвала возмущение англиканской церкви. Но, будучи сам священнослужителем и принадлежа формально к высокой церкви, Свифт вынужден был время от времени выступать против нонконформистов и деистов. К этому его толкали также дружба с Болингброком и тесные связи с партией тори.
К плеяде английских вольнодумцев, деистов и материалистов наряду с Коллинзом, Кауардом, Додуэллом принадлежал и Толанд. Более того, он был признанным лидером «свободных мыслителей», идейным вождем этого движения и вместе с тем наиболее крупным представителем философского материализма в рассматриваемый период. Следует также иметь в виду, что мировоззрение Толанда не вмещалось в рамки деизма. В своем духовном развитии он сделал большой шаг в сторону преодоления ограниченности деистской формы материализма и замены ее той исторической формой материализма и атеизма, которая была выдвинута и обоснована впоследствии великими французскими материалистами.
Понятно, что философские взгляды Толанда несут на себе печать исторической и классовой ограниченности. Деизм даже в его материалистической разновидности оставался учением, которое сохраняло идею бога. Это относится и к пантеизму (от греч. pan — все, theos—бог), который отождествлял бога с природой и элементы которого были усвоены Толандом в ходе его духовной эволюции. И все же свободомыслие Толанда, опиравшееся на философский материализм, содержало отчетливо выраженную атеистическую тенденцию, несмотря на то, что последняя ослаблялась влиянием деизма и пантеизма.
Толанд не принадлежал к мыслителям, стремившимся выработать философскую систему. Не было у него и таких капитальных трудов, как, например, «Левиафан» у Гоббса или «Опыт о человеческом разуме» у Локка. Его философские воззрения и взгляды на религию изложены в ряде произведений, довольно значительно отличающихся друг от друга по своему характеру и содержанию. У этих произведений различная судьба: одни получили признание и известность, другие подверглись забвению. Но в целом философское наследие Толанда сохраняет свою ценность и значение и представляет серьезный вклад в развитие материализма, в критику религии.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Русскому народу история отвела роль первопроходца. На протяжении многих сотен лет русские открывали новые земли, обживали их и преображали своим трудом, отстаивали с оружием в руках в борьбе с многочисленными врагами. В итоге русскими людьми были заселены и
4.1 ВВЕДЕНИЕ.
4.1 ВВЕДЕНИЕ. Шаг вперед, два шага назад и новое мышлениеМы не можем избавиться от прошлого, от нашей истории. Это — наши узы человеческие. Всю жизнь мы, советские люди, изучали главы коммунистической библии, ветхие и новые заветы, основополагающие труды Владимира Ленина,
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Однажды мне сказали, что бывший танкист-гвардеец Иван Аверьянович Старостин, к которому я ходил записывать фронтовые истории, встречался с Лидией Андреевной Руслановой, что слушал её концерт в 1943 или 1944 году. Иван Аверьянович прошёл всю войну от Ржева до
Введение
Введение Всеволод Михайлович Гаршин, любимый писатель русской интеллигенции восьмидесятых годов, — одна из самых трагических фигур эпохи безвременья, черной эпохи всемогущего ханжи и мракобеса Победоносцева и его венценосного покровителя, тупого жандарма Александра
Введение
Введение Обычные суждения о Свифте. – Портрет Свифта. – Пылкость и рассудительность. – Надгробная надпись на его могиле. – Saeva indignatio и virilis libertas как основные черты его характера, деятельности, произведений.Кто не читал, по крайней мере в дни детства и юности,
Введение
Введение Биографические сведения о Данте очень и очень скудны. Главным источником и пособием для биографа гениального творца «Божественной Комедии» являются прежде всего собственные его сочинения: сборник «Vita Nuova» («Новая Жизнь») и его великая поэма. Тут можно
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В этой книге предпринимается попытка проследить пути компьютерного андеграунда и воссоздать, основываясь на реальных фактах, картину киберпанк-культуры. Это причудливая смесь современнейших технических знаний с моралью изгоев. Как правило, в книгах о
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Я написал эту книгу.Зачем?На этот простой вопрос нет простого ответа. Многие подумают: кому могут быть интересны события, даже не совсем банальные, жизни одного человека во время самой кровопролитной в истории человечества войны, в которой было убито 50 миллионов
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Искусство — это та могучая сила, которая во все времена объединяет народы в их общем стремлении к прекрасному. Иногда искусство воплощается в монументальных творениях, как правило, безымянных, иногда в произведениях, созданных одним творцом, таким, как Рубенс,
Введение
Введение Первые слова – это слова благодарности тем людям, которые помогали мне в работе над этой книгой и вдохновляли на труд. Это, прежде всего, мои учителя, и, в первую очередь, И. Ф. Бэлза, блестящий исследователь творчества М. А. Булгакова, выдающийся исследователь
Введение
Введение Посмертный успех Стига Ларссона и его цикла «Миллениум» достиг беспрецедентного уровня, а мировые тиражи его книг исчисляются миллионами. Пришло время воздать должное жизни и работе этого интересного, отважного, но склонного к саморазрушению человека.
Введение
Введение Биография Бэкона не будит в душе нашей никаких возвышенных чувств, не вызывает ни умиления, ни благоговения. Мы проникаемся только холодным почтением к его умственным силам и стараемся отдать ему справедливость за оказанные человечеству услуги. Услуги эти
Введение
Введение Немного найдется писателей, которые оказали бы такое глубокое и плодотворное влияние на своих современников, на монархов и государственных деятелей, на последующие поколения и даже на положительное законодательство почти всех стран Европы, какое, несомненно,
Введение
Введение «Ничто я не люблю так, как процесс воспоминаний и сами воспоминания», – написал в 1984 г. Жак Деррида, повествуя о своем близком друге, умершем незадолго до этого, философе Поле де Мане. В то же время Деррида признался: «Я никогда не умел рассказывать истории». Эти
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ Семейными династиями в царской дипломатии никого не удивить — особенно много их появилось в XIX веке, и особенно часто мы их встречаем среди остзейских немцев[1]. Но чтобы целое семейство дипломатов — и каких! — появилось уже во времена и при жизни Петра I, да ещё