Фотография 37. 1979 год
Фотография 37. 1979 год
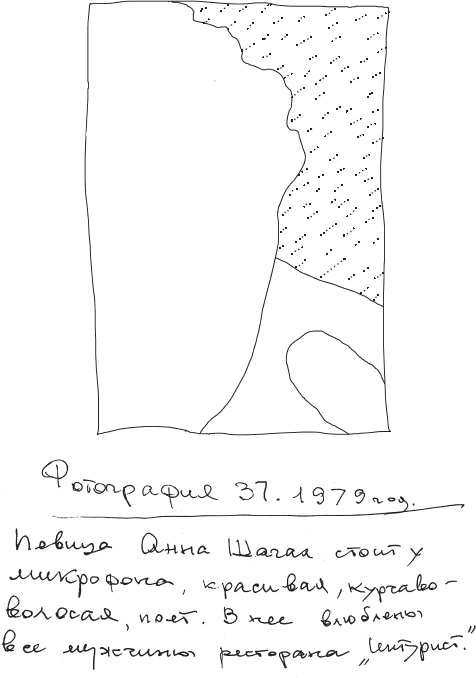
Из окон “Интуриста”, огромного стеклянного куба в начале улицы Горького, видны кремлевские башни, часть Мавзолея, где по воскресеньям выстраивается километровая очередь, чтобы поклониться человеческому божеству, умершему много-много лет назад.
Ленин лежит на втором этаже Мавзолея, в мраморном зале, и в полуприглушенном свете выглядит очень даже живо. Слышу его шепот: “Ираклий, что ты потерял здесь? Беги в “Интурист”! Там бурлит жизнь! Там девочки!” В зале душно. Я понимаю, что вождь не мог ничего подобного прошептать, но мне понравился его озорной совет бежать в гостиницу “Интурист”, где в дверях высится швейцар Степан по кличке Циклоп. Если удачно проскочить мимо него, попадешь в вестибюль, там толкаются столичные и провинциальные длинноногие девочки, а в ресторане этажом выше репетирует оркестрик, который называется “Ненужные вещи”, у микрофона стоит рыжая Анна Шагал, сводящая меня с ума… И не только меня. Пленниками Шагал являются Саша Кайдановский, Сережа Соловьев, братья Ибрагимбековы Максуд и Рустам, великий сердцеед Датун Мачавариани, Жора Гигинеишвили… Кто-то из этого списка из-за Шагал даже стрелялся с кем-то из этого списка на Воробьевых горах. Я знаю кто, но не скажу.
…Сыплет густой снег. Кремлевские голубые ели превратились в белые тени. Сбежав от знакомых, простоявших всю ночь в мавзолейной очереди, я рванул через Красную площадь, Манеж, обогнув угол ресторана “Националь”, и оказался перед входом в “Интурист”. Швейцар Степан, большущий, длиннорукий мужчина, разговаривал с кем-то из иностранцев и не заметил, как я, тщательно стряхивая снег, вошел в вестибюль. Гардеробщица Тася, которая нравилась всем японским туристам своей узкоглазостью и пышногрудостью, берет мое осеннее пальто, уместное в Батуми, а не в тридцатиградусной Москве. Она шепчет: “Один перс уехал в свою Персию и оставил мне плащ с мехом кролика, мех сыплется, но тепло. Могу не за дорого…” Я вошел в ряды гардероба и вышел в длинном до пят плаще с капюшоном. Таисия посмотрела на меня и сказала: “Ку-клукс-клан”…
Жизнь в гостинице “Интурист” накладывает на человека инфернальный отпечаток. Любой гость столицы попадал в другой мир, немного зазеркальный. Здесь можно в лифте купить американские джинсы Levi’s, при этом опытный фарцовщик Шура Антонович так управится движением лифтовой кабины, что вы успеете натянуть джинсы, сторговаться и выйти на двенадцатом этаже, где бар, а в баре дефицитное чешское пиво. Шура Антонович, человек хоть и аполитичный, но все-таки спросит: “Зачем мы штурмовали дворец Амина? Ведь на носу Московская Олимпиада!”
В “Интуристе” останавливались знаменитые персоны: итальянский режиссер Федерико Феллини, монгольский маршал Чойбалсан, певец Адриано Челентано, писатель Жорж Сименон (поселился инкогнито), Сергей Параджанов (когда он был при деньгах). Гостиницу облюбовали подпольные советские миллионеры. В последнее время зачастили представители международных олимпийских комитетов (Московская Олимпиада на грани срыва). Здесь собираются профессиональные картежники, шулера, выигрывающие и проигрывающие десятки тысяч за ночь. И главное, сюда слетаются “ночные бабочки”, назовем их проще – проститутки. Никакие красотки “Мулен Руж” и “Крейзи Хорс” не сравнятся с девочками, гуляющими в вестибюле “Интуриста” с рассеянной полуулыбкой на губах, сидящими на диванах у лифтовых дверей почти на каждом этаже. Среди них есть великие личности, например Скалолазочка Рита Старостина, известная тем, что когда с ней уединился в своем номере певец – то ли Челентано, то ли Тото Кутунио, а может, не они, а М. – не буду расшифровывать любимца советских ткачих, бетономешальщиц, пастушек и хлопкоробок, – кто-то из них наслаждался Ритой, и вдруг громкий стук в дверь номера люкс и женский крик: “Знаю, ты в номере с этой сучкой, открой, или я выбью дверь!” Хозяин номера открыл окно, увидел далеко внизу улицу Горького. С ужасом прошептал: “Жена!” – и посмотрел на голую Риту. Та сказала: “Тысячу зеленых, и я исчезну”. Певец безропотно дал тысячу зеленых. Рита, голая, перелезла через окно (где было время одеваться?!) и пошла по внешнему карнизу, которого практически не было. Здание “Интуриста”, если кто помнит, являлось гигантским двадцатидвухэтажным стеклянным кубом. Скалолазка Рита прошла по несуществующему карнизу и влезла в чье-то открытое окно. Продолжение этой истории рассказывал замечательный прожигатель жизни, журналист Датуна Мачавариани, так как открытое окно было окном его номера. “Я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая перешагивала из ночи в мой номер. Хозяйка ноги держала в зубах платье, колготки, что-то еще… “Жена этого импотента свалилась, как снег на голову”, – беззлобно улыбаясь, она села на край моей кровати… В лунном свете Рита одевалась, я хотел ее обнять, но она сказала: “Датуна, сегодня я устала, вот тебе двести долларов, дай поспать”.
“Ночных бабочек” в гостинице было много. Среди них и высокие профессионалки, и только что сошедшие с поездов юные провинциалки с Урала, из Приднестровья, с Байкала, из Сибири, мечтающие выйти замуж за Андрея Миронова, за внука Брежнева, за сыновей поэта Михалкова.
В ресторанах “Интуриста” часто звучали марши Мендельсона. Здесь сливались в страстных объятиях представители Победившего Социализма и люди Загнивающего Запада.
Я постоянно прокрадывался мимо цербера, улыбался ему заискивающе: “Это я, Ираклий, свой”. Тот всматривался секунду в меня и ленивым жестом впускал в рай. Помню и радость от сознания, что я законный жилец гостиницы, что у меня в кармане позвякивает тяжелый медный ключ от номера 716. Такое бывало несколько раз, когда, приезжая из Тбилиси в Москву, у меня не было возможности остановиться у Василия Валерьяновича – моего двоюродного дяди. Он был профессор-психиатр со странностями. Жил постоянно в больнице Ганнушкина среди своих сумасшедших, был гостеприимным человеком, и я не раз гостил в его двух комнатах под крышей психбольницы. Но когда комнаты были заняты очередными Дульцинеями (медсестрами, молодыми врачихами-практикантками), профессор отвозил меня к Анфисе Никаноровне, администратору гостиницы “Интурист”, давней своей подруге, а она никогда не отказывала “племяннику любимого психа”.
Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые… Хрущевские, брежневские, андроповские годы. Жизнь была прекрасна! Кафе “Молодежное”, где играл саксофонист Козлов, ночные купания в прудах ВДНХ, пластинки Луи Армстронга, Ната Кин Колла, Дейва Брубека, Майлса Девиса, купленные у интуристовских фарцовщиков, ресторанные залы гостиницы, где за соседними столами сидели Хемингуэй – не сам “Большой папа”, но в таком же свитере, с такой же бородой, с такой же улыбкой удачливого охотника на львов – кто-то. Рядом Мэлор Стуруа, забежавший в Москву на три дня. Через стол от них Сергей Параджанов во главе компании похожих на Че Гевару и Фиделя Кастро армянских художников – это Алик Джаншиев, Дильбо и другие. Параджанов рассказывает, как на Тишинском рынке у цыганки купил серьги-стекляшки и подарил жене главного редактора Госкино, выдав их за серьги с раскопок дохристианских колхов. Художники слушают Сергея и пялятся на Сильвану Пампанини и Антонеллу Луальди, которые дуют на горячие пельмени и спрашивают Сергея Федоровича Бондарчука: “А где жил Мастер со своей Маргаритой?” Я тоже сижу где-то в зале, ем знаменитые пельмени “Интуриста” и пожираю глазами Луальди.
Но главное – в ресторане “Интуриста” пела Анна Шагал, выпускница музыкального училища города Адлера. В первый же вечер провинциальная певица голосом чуть с хрипотцой и манерами, напоминающими Анну Герман, полюбилась ресторанному залу и самим оркестрантам. Что-то необычное было в ее внешности: дейнековско-спортивное тело, черное платье и короткая стрижка рыжих волос.
Луальди с Пампанини мелькнули красотой, как миражи в пустыне, а Анна Шагал каждый вечер была на сцене и пела. Я стал ее фанатом. Никогда до этого не дарящий букеты цветов, я тратил все деньги на двадцать семь крупных красных бутонов, которые выбирала мне гостиничная цветочница Эльза, говоря: “Ираклий, ты сошел с ума, она разорит тебя”. Анна Шагал была чуть косоглаза, и в этом был особый шарм. Каждому в нее влюбленному (Саша Кайдановский, Саша Абдулов, Сергей Соловьев, Датуна Мачавариани, Жора Гигинешвили, футболист Кипиани и др.), (повтор) казалось, что она пела и смотрела только на него, улыбалась только ему…
С помощью Анфисы Никаноровны Тушиной, которую в “Интуристе” все за глаза звали “Железная Туша”, я стал работать в “Интуристе” переводчиком с французского. Откуда французский у тбилисского бездельника и лоботряса? Мне повезло с бабушками. У меня их было три, и одна из них была правнучка Жан-Батиста Мондино (того самого теолога, автора “Иных направлений”). Летом бабушка Жозефина забирала меня в Сухум, где жила одна с десятью кошками. Кошки учили меня сказкам Шарля Перро, а бабушка зубрила со мной книгу “Женщины в жизни Наполеона”. Эти летние уроки французского не прошли даром. Наполеон, на которого я ничем не походил: ни ростом, ни умом, ни отвагой, – зародил во мне комплексы перед женщинами на всю жизнь. Но сказки Шарля Перро, стихи Артура Рембо помню по сей день наизусть.
Московская Олимпиада требовала увеличения числа переводчиков. “Железная Туша” взяла на себя ответственность за отсутствие у меня диплома Института иностранных языков. Не было тайной, что она любила Василия Валерьяновича и делала добро его племяннику, решившему остаться в Москве.
Однажды я пригласил Анну Шагал в зал Чайковского – Василию Валерьяновичу дали билеты, он не смог пойти. И вот мы с Анной слушаем барабанщиков из Новой Зеландии. Барабанщики создали в зале головокружительную вибрацию, Анна вцепилась в мои пальцы…
Раскрою тайну дуэли на Воробьевых горах – стрелялся я. Оставлю в тайне – с кем. Пистолет был один. Кто-то из дуэлянтов стрелял в противника с двадцати шагов, промахнулся. Потом пистолет перешел в руки другого. Тот выстрелил в воздух. Помирились. Поехали в “Интурист”. Денег не было ни у меня, ни у соперника, ни у секундантов… Пили пиво, слушали пение Шагал, из-за которой один из дуэлянтов должен был лежать бездыханный в кустах Воробьевых гор. Веришь ли ты мне, Чанчур, читая эту дуэльную историю? Думаю, нет. Эпоха дуэлей давно испарилась. Не буду тебя убеждать. Но если бы ты видел Анну Шагал, то не усомнился бы, что из-за нее мог стреляться и твой папа, совсем-совсем не дуэлянт. Вот тут в моей истории появляется еще один важный персонаж – замдиректора гостиницы “Интурист” Тимофей Андреевич Головин, недавно переброшенный с высот партийного аппарата в гостиницу “на понижение”, как шептали злопыхатели. Тимофей Андреевич – бывший Физкультурник, с большой буквы. Тот, кто на довоенных парадах шел по Красной площади во главе колонны дискоболов, футболистов, бегунов, держа на вытянутой руке развевающееся красное знамя, и улыбался глядящему с Мавзолея Иосифу Сталину, человеку-богу, который ласкал, обнимал добрым взглядом каждого человека в колонне. Тимофей Андреевич и в свои немолодые годы был мускулист, силен, усат. Усы – его тайная гордость, он знал, что похож на главного усоносца в мире.
В ресторане на утренней репетиции оркестрика “Ненужные вещи”, когда Головин вправлял мозги музыкантам, выглядящим неподобающе и поющим непонятно что, замдиректора увидел и опешил от вида дейнековской красоты рыжей певички. Кровь забурлила в бывшем физкультурнике. Он мгновенно составил план завоевания “этой рыжей девки”. У главы французской делегации коммунистов, приехавшей на помощь в подготовке Московской Олимпиады, он вытребовал женский каракулевый полушубок от Диора, духи от Живанши, зимние полусапожки от Сен-Лорана и прочие мелкие аксессуары, типа “ленты, кружева, ботинки”.
Делегация коммунистов давно уехала назад во Францию, но глава ее Гийом Врангель-Бостель, отпрыск старорусских эмигрантов, владелец фирмы “Кофе-Какао-Бостель-Врангель”, остался в Москве, поил всех сладким, густым, пахучим какао, заключал контракты. К нему приехала жена, тоже русская, Лиза Сологуб. Они посещали Третьяковку, подвалы художников нонконформистов, бассейн на “Кропоткинской”, Большой академический театр СССР. Лиза, балерина-любитель, стала брать в Большом уроки классического танца (это был новоявленный бизнес – в Большом учили танцевать любителей-иностранцев, как правило богатых). Когда Лизе Сологуб и трем японским балеринам-любителям разрешили танцевать на главной сцене Большого (конечно же, днем, при пустом зале), Лиза от переизбытка чувств заплакала, никак не могла успокоиться, заплакали и ее соученицы-японки. Стоят не очень стройные в балетных пачках женщины и плачут. Чуть успокоившись, они вчетвером протопали “Танец маленьких лебедей” под музыку П. И. Чайковского. Я был переводчиком японок, знавших хорошо французский, сидел в огромном пустом зале вместе с Анной Шагал. Зрелище было трогательным, немного смешным.
Раз мой рассказ о гостинице “Интурист” и ее обитателях – это “вспышки памяти”, – то вот еще комическая, точнее трагикомическая, история. Из Грузии регулярно, раз в три-четыре месяца, в Москву приезжал богатый человек Илья Ильич Паписмедов, директор кахетинского винного завода. Он останавливался в “Интуристе” вместе с сыном Зозо. Сын Зозо страдал заторможенностью. В Москве ему делали процедуры с какими-то швейцарскими медикаментами. Зозо, двухсоткилограммовый юноша, после процедур мгновенно оживал. До этого молча глядящий в одну точку, он обретал дикую энергию и требовал у папы невесту. Что-то вроде “хочу женщину” из “Амаркорда” Феллини, но обязательно в белой фате невесты.
Одна из “ночных бабочек” гостиницы Люся Аршинова во время приезда Паписмедовых превращалась в невесту для Зозо. Съезжались гости (папа Паписмедов щедро оплачивал это шумное событие), в ресторане играли свадьбу. Зозо был счастлив. Проходила брачная ночь, потом брачная неделя, потом Паписмедовы уезжали, до следующего приезда через четыре-пять месяцев, когда кончалось действие “энергетика”… Я спрашивал своего дядю Василия Валерьяновича, можно ли надеяться на швейцарское лекарство. Он ответил: “Нужно надеяться на Люсю Аршинову”.
А сейчас за столом гуляла веселая свадьба, сидели друзья папы Паписмедова, администраторы гостиницы, “ночные бабочки”. Все знали условия этого спектакля, все хорошо играли свои роли. Анна Шагал пела. Я смотрел на нее влюбленными глазами, замдиректора Тимофей Андреевич Головин смотрел на певицу, как Серый Волк на Красную Шапочку. Серый Волк был зол, он получил отказ, Анна не приняла подарки, экспортированные у французских коммунистов. Более того, когда, заперев рыжую певицу в своем кабинете, Головин ударил ее, чтобы напугать, чтобы она с покорностью принялась исполнять все его капризы, неожиданно замдиректора получил такую оплеуху, что еле удержал свое тренированное тело в равновесии. После чего Тимофей Андреевич стал вести себя непредсказуемо галантно. В тот день он с улыбкой открыл дверь кабинета, отпустил Красную Шапочку на волю. Через день пришел к ней на съемную квартиру с огромным букетом роз, увидел меня, который чинил в ванной Анны ржавые краны. У меня сантехнические дела не очень-то клеились, Тимофей Андреевич, засучив рукава, долго что-то винтил, крутил, зажимал и добился мощной струи в рукомойнике и отменного слива бачка. Анна не возвращалась. Я чувствовал себя неловко при большом начальстве, тот предложил выпить, мы раскрыли принесенный замдиректора коньяк “Камю”. Тимофей Андреевич разлил “Камю” в большие граненые стаканы. Произнес тост за Анну. Мы выпили. Неожиданно, без всякого повода, замдиректора гостиницы стал избивать переводчика с французского. Бил очень жестко. Потом словно очнулся, пришел в себя. “Извини. Со мной бывает…”
Старый физкультурник ушел, не дождавшись Анны, оставив меня в недоумении. Я злился на себя… Почему я не ответил на его удары?! Даже если я не был знаменосцем на Всесоюзном параде физкультурников, у меня есть мое достоинство?! Или я трус, слизняк?!
Затем была словесная перепалка в отделе кадров гостиницы в связи с приемом в штат переводчика Квирикадзе И. М. Анфиса Никаноровна с трудом отстояла меня. Более того, я стал работать с индивидуальными туристами. Первым из них был черный священник из Французской Гвинеи Патрик Варенни, который приезжал в Москву по не совсем обычному делу. Священник узнал, что в России у него растет двадцатидвухлетний сын. Но как его найти, Патрик не знал. Сын родился после Всемирного Московского фестиваля молодежи 1957 года и был один из тысяч детей фестивальной любви… Патрик Варенни попросил меня помочь разыскать сына, у него были какие-то телефоны, какие-то имена. Я превратился в Шерлока Холмса и по крохам фактов обнаружил сына. У парня были родители, папа Степан Мамулин, мама Тося Шаляпина. Священник, услышав имя Тося, нервно затряс головой. “Да-да, Тося, Так ее звали…” На глазах черного священника выступили слезы. Семейство Мамулиных работало в фотоателье у кинотеатра “Космос”. Заранее сообщать о себе Патрик Варенни не велел. Зайти в ателье священник не решался. Мы сидели на сырой скамье в сквере перед стекляшкой. Большой, как стог сена, гвинейский священник мерз, хотя светило мартовское солнце. Из дверей ателье вышел черный парень, крупный, курчавый, пошел в сторону пивного ларька. По пути к нему присоединилась девушка. Они встали у прилавка, взяли пиво и сосиски, отошли к каменному столу. Подошли Патрик и я. Взяли пиво и сосиски, встали у стола рядом. Черный парень обратил внимание на черного священника, под навесом пивной больше никого не было, кроме нас.
“Что я ему скажу? Он не знает моего языка… Что? Знаешь, я ему ничего не скажу, только вот чокнусь кружкой”.
Священник так и сделал. Отец и сын улыбнулись друг другу. Отец зашептал что-то из Библии. Сын растерянно слушал… Я выпил пиво, пошел к буфетчику, налил еще, почему-то не мог смотреть на стоящих у соседнего каменного стола. Буфетчик, наливая пиво, глядел в их сторону, хохотнул и крикнул: “Влад, он молится, что ли?”
Черный парень засмеялся: “Черт его знает! Вроде!”
Священник в ту ночь улетел из Москвы во Французскую Гвинею. Мне хотелось спросить, почему он не сказал сыну о себе, но не решился…
Вскоре случилась странная, сюрреалистическая история. Мой далекий родственник из Сухума Кирилл Яковлевич Прыгун приехал в столицу с тем, чтобы отбыть в Израиль на постоянное жительство. Поселился в “Интуристе”. Ходил по Москве, разглядывал ее, улыбался, не замечая, что за ним шагают по пятам два высоких, бритых наголо парня. Кирилл Яковлевич зашел в зоопарк и там…
Часа два спустя Кирилл Яковлевич Прыгун в баре на двенадцатом этаже “Интуриста”, нервно кусая губы, шептал мне в ухо: “Все мои деньги, все, что я продал, все превратил в три бриллианта по пять карат, и два по четыре карата, и к ним еще два изумруда… Обернул их оберткой конфет “Раковая шейка” и держал в кармане. Эти типы останавливают меня около слона, ну там, где слон ходит. Показывают красные книжки, мол, КГБ. Я сдрейфил, говорю с ними, а сам незаметно кидаю конфетку в траву… Они говорят, отойдем… Обыскивают, явно знают, что ищут… Я узнал одного, сухумские такие, полубандиты… Не находят… Я радуюсь, правильно, что выкинул, вернусь – подберу… И вдруг вижу хобот, слоновий хобот, он дотянулся до моей конфетки – и в рот…”
Кирилл Яковлевич плачет. Что делать? Бриллианты в пять карат в животе у слона из Московского зоопарка. Через неделю надо уезжать в Израиль. Кирилл Яковлевич договорился с ухаживающим за слоном лимитчиком Глебом напоить животное слабительным. Четыре дня и четыре ночи мы с Прыгуном дежурили, сменяя друг друга в слоновьем загоне, следили, как лимитчик протирает слоновое дерьмо. Иногда протирали сами. Обследовав досконально пудов пять, влив еще слабительного, увы, мы не нашли бриллиантов и изумрудов. Кирилл Яковлевич Прыгун уезжал с серым, потухшим лицом. Анфиса Никаноровна, знавшая тайну Прыгуна, поцеловала его, зашептала: “Кир, руки есть, ноги есть, голова есть, жопа есть, еще столько всего в жизни высрется!”
Пожелавшая выучить французский Анна Шагал предложила мне делить с ней двухкомнатную квартирку в Газетном переулке.
В период поисков бриллиантов в пять карат она спрашивала своего квартирного соседа: “Что за дикая вонь? Давай я тебя помою!” Загнав под душ и натерев каким-то дезинфицирующим раствором, долго меня мыла. Отношения наши были не совсем обычными, мы были как брат и сестра, как любовники, как партнеры, чтобы поплакать в жилетку… Во французском посольстве в отделе культуры работал Лоран Данилю. Он приглашал на кинопросмотры, там мы с Анной посмотрели “Завтрак у Тиффани” с Одри Хепберн. Анна вновь выламывала в темноте мои пальцы. Отношения героев фильма были похожи на наши.
Наступила странная пора. Приближающаяся Олимпиада внесла в жизнь гостиницы “Интурист”, ее работников, постояльцев множество заметных и незаметных правок. Оркестрик “Ненужные вещи” был изгнан, Анна Шагал стояла теперь на ресторанной сцене с юношами в серых, аккуратных костюмах и пела светлые, ясные песни. “Ночные бабочки” куда-то упорхнули в темноту. Говорили, что их увезли за сто первый километр от Москвы. По улице Горького пронеслись факелоносцы с олимпийским огнем, зажженным в далекой Греции.
“Ленты, кружева, ботинки, что угодно для души?” – поется в детской песне. Тимофей Андреевич Головин, как опытный физкультурник-донжуан, добился-таки победы, дотянулся до роскошного тела Анны Шагал. Жениться на ней он не мог, действующая жена была высокой партийной номенклатурой. Он приходил к Анне на квартиру, оставался на ночь. Я слышал их любовные битвы. Как две большие рыбы, они бились хвостами об стену, французский переводчик морщился от каждого удара. Думал: “Ворвись, выволоки его на лестничную площадку, избей, смой потом, смой кровь с кафельных стен и пола…”
Я не врывался в соседнюю комнату, не выволакивал на лестничную площадку старого физкультурника, не избивал его до крови, с кафельных стен и пола нечего было смывать. Я, стиснув зубы, молчал, слушая звуки за стеной.
Странную историю рассказал мне швейцар гостиницы Степан, тот, который долгие годы по своему настроению то впускал меня, то превращал свои длиннющие руки в шлагбаум. Помню, рядом со входом в гостиницу был приклеен листок “Моральный кодекс строителя коммунизма”. Сколько раз ожидая, когда длиннорукий отойдет со своего поста, я делал вид, что внимательно вчитываюсь в этот “моральный кодекс”, непонятно почему приклеенный на фасаде “Интуриста”.
Теперь, будучи штатным переводчиком с французского, распив с ним бутылку кахетинского вина в камере хранения, мы подписали пакт о мире. Гигант оказался говорливым страдальцем. Вот что рассказал он, крепко сжав мое плечо:
“Вчера вернулся домой чуть раньше обычного. В квартире пусто. Хотелось есть. Поставил на огонь сковородку, разбил пять яиц, обнаружил бутылку немецкого пива. Посмотрел на часы, вроде жена Лиза должна уже быть дома… Яичница шипела, но я услышал еще какие-то звуки. Звуки шли из спальни. Голос Лизы: “Ой, ой! Пощади, милый, пощади… У-у-у…” Потом ее смех. “Боже, как хорошо!” Я схватил раскаленную сковородку, ногой распахнул дверь спальни и оказался в темноте. На кровати смутно белело мужское тело. Под ним угадывалось женское… Самое белое – мужской зад. Я по нему раскаленной сковородкой. Мужчина взвыл. Я ударил еще, еще, еще. Бросил сковородку в барахтающиеся тела и выбежал из спальни. Мне стало противно… Кричал мужчина, кричала Лиза. Видимо, раскаленная сковородка соскользнула с ягодиц мужчины ей на живот…
Я выскочил на лестничную площадку. Поднялся лифт. В кабине посмотрел на себя в зеркало. Из глаз лились слезы. “Лиза, тварь!.. Я же…” Лифт спустился на первый этаж. Первой, кого я увидел, была моя Лиза. Она улыбнулась радостно, взяла за руку. Я спросил: “Ты откуда?” – “С работы…” Я ткнул пальцем вверх: “А там… Ты…”
Жена продолжала говорить что-то радостное: “Пойдем в магазин? Я забыла утром сказать – сегодня приезжают моя сестра и ее жених…” – “Жених?..” – “Они решили перебраться из Смоленска в Москву… Может, они уже и у нас. Я ключи оставила им под половиком… Ты что?” – “Ничего… Я…”
В магазине Лиза купила рыбу, соленых огурчиков, грибов маринованных… Мы вернулись в дом. Сели в лифт. Неожиданно я нажал на кнопку “стоп”, ничего не говоря жене, побежал вниз по лестнице. Что мне делать? Боюсь домой идти! Ираклий, что делать? А? Вы, горские люди, решительные!”
Это он говорит мне?! Неделю слушаю любовные стоны за стеной…
Я вдруг представил, как врываюсь с раскаленной сковородкой в комнату Анны Шагал. Как вопит Тимофей Андреевич Головин, вопит рыжая певица.
Московская Олимпиада вот-вот должна открыться, а я оказался прикованным к Большому театру СССР. Прибыли новые люди, не умеющие танцевать, но мнящие себя танцорами-любителями.
Я пас замечательных четырех южных кореянок, толстого арабского мальчика Азамата, который кружил бесконечные фуэте и носил на вытянутых руках миниатюрных кореянок, часто падая и роняя их. Азамат был похож на толстого мальчика из фильма “Корабль плывет”, того, кто берет уроки фехтования. Азамат был сыном одного из арабских шейхов. Ему лично принадлежали в Аравийской пустыне сто семьдесят нефтяных вышек! Что началось, когда это узнали “ночные бабочки” гостиницы “Интурист”! Их же почти всех на время Олимпиады сослали за сто первый километр, и почти все они какими-то правдами и неправдами вернулись в гостиницу. Азамат (имя лермонтовского героя) выглядел пухлым четырнадцатилетним мальчиком, а было ему двадцать четыре, и он бредил балетом (не фехтованием, не гонками на верблюдах, не соколиной охотой, а балетом). Ночью у дверей его номера люкс ставили два стула, на один садился слуга Азамата Фаруджи, на другой – мощная горничная Марфа Поперечная. Проститутки пробирались и в Большой театр. Загадка, как они оказывались в залах, где шли репетиции. Я испортил отношения с большинством из “бабочек”. “Этот мерзопакостный грузин прячет нашего душку-арапчонка!” И вдруг… арапчонок уезжает в Аравию и увозит с собой Анну Шагал! Он женился тайно на Анне, сделал ей визу в собственном (папином) посольстве и после выпускного балетного вечера, где он кружил свои знаменитые фуэте, улетел с законной женой, рыжей бестией, зеленоглазой Шагал, моей самой большой любовью в двадцатом веке!
Сергей Параджанов был на одном из тренингов танцоров – любителей. Он видел Азамата и сказал: “В глазах этого пончика видны сабли, а твоя Анна (он ухмыльнулся) – она Шагал, Шагал… Вслушайся в эту фамилию… Никаким законам земного притяжения она не подчиняется. На картинах ее дедушки (Анна не была внучкой Марка Шагала) женщины и мужчины летают в небе…” Я спросил Сергея: “А зачем ей этот балерун?” Он ответил: “Он будет танцевать “Танец с саблями” Арама Хачатуряна”. Сергей смеялся в своей манере нагнетать абсурд…
Для меня наступил траур. Олимпиада открылась. Спортсмены прыгали в высоту, в длину, тройными прыжками, прыгали с шестом, бежали, догоняя друг друга, метали диски, ядра, бросали друг друга в нокаут, кто-то побеждал, кто-то проигрывал. В гостинице каждый день взлетали брызги шампанского, праздновали победу то турки, то немцы, то греки, то французы. Я сидел один в своей комнате, когда приходил со стадиона “Лужники”, куда водил интуристов. Искал фотографию Анны, не находил ни у себя в комнате, ни у нее. Мне надо было посмотреть на Анну. Фотограф Филя Пешков, работник органов, снимал все, что происходило на территории гостиницы “Интурист”: вестибюль, ночной клуб, парикмахерскую, кухню, подсобные помещения. Вместе со мной он пересмотрел свою фототеку – нигде не обнаружил Анну Шагал.
Филя сознался мне: “Знаешь, почему ее нет нигде? Фотопленка ее не любит… Я получил заказ снять ее с этим Азаматом. В конторе мгновенно узнали об их контактах – между нами, ладно? В спальне азаматовского номера люкс есть возможность снимать… Я снимал, когда они баловались в постели, на диване, на ковре… Ну, сам понимаешь… Компромат!” Он вынул пакет новых фотографий: “Смотри, на месте Анны свечение”.
Я увидел на постели толстого, плотного тюленя, обнимающего свечение. То же самое на другой фотографии. Азамат и флю!
Не люблю мистики, не люблю паранормальные явления. Наверное, такое бывает? Помню, Никита Михалков рассказывал, что, когда снимал “Рабу любви”, он сделал фотопробы Наташе Лебле. На всех фотографиях вместо Лебле получалось флю-свечение… Михалков объяснял это тем, что она сама не хотела сниматься в фильме…
Много медалей! Много рекордов! Олимпиада завершалась. Я в “Лужниках”. Огромный Мишка выплыл из ангара, проплыл в шаге от меня. Я протянул руку и потрогал его. Игрушечный Мишка ростом в три этажа! Он смотрелся как чудо. И вот чудо стало медленно взлетать. Мне захотелось схватиться за Мишкину лапу. Запрыгнуть на нее. Но я упустил момент. Он улетел без меня. У всех слезы на глазах. И у меня. На другой день я в “Интуристе”. В вестибюле гвалт. Корейские балерины уезжают. Прощаемся. Многие уезжают.
Я зашел в туалет. Стою у писсуаров. В зеркале замечаю знакомую фигуру Тимофея Андреевича Головина. Увидев меня, физкультурник улыбнулся, подошел к соседнему писсуару:
“Бл…на, уехала! Изменить родине ради сотни скважин… Пусть подавится, сука, этой нефтью… Тварь! Бл… на!” Весело, с хохотком старый физкультурник подставил руки под струю рукомойника. Первый удар получился у меня не очень удачный, второй бросил замдиректора гостиницы на кафельный пол. Я поднял его, прислонил к рукомойнику и ударил головой в квадратный подбородок. Он вновь упал, вроде потерял сознание. Я мыл руки и смотрел на забрызганный кровью кафель. Один к одному картина в моем воображении совпала с реальностью. Но надо уходить, я перешагнул через физкультурника, тот что-то говорил мне, я не слушал, вышел. Вестибюль гостиницы “Интурист” продолжал гудеть, выносили чемоданы, саквояжи, сумки. Гостиничный вор по кличке Привидение пил яблочный сок и внимательно смотрел на горы багажа. Анфиса Никаноровна улыбнулась мне: “Приехала одна парижанка, бывшая русская, восемьдесят лет, какие-то мемуары у нее. Ты же литературой интересуешься… Ее любил Маяковский. Дать тебе ее?” Я кивнул в знак согласия. Парикмахер Баграт, наткнувшись на меня, сказал: “Ты записан, помнишь? В одиннадцать, завтра”. Я кивнул в знак согласия…
Швейцар Степан посмотрел на меня и сказал: “Три дня держу для тебя письмо и не даю, расстроишься, но вижу, что ты больше сюда не вернешься”.
Я удивился проницательности Степана. Он вынул из кармана листок, я раскрыл его и прочитал: “Не могу обходиться без вещей, до которых мне нет никакого дела. Нефть – это так интересно…”
Я двинулся медленным шагом к выходу из гостиницы, а на самом деле побежал сломя голову, навсегда…
Я ничего не понял в том послании, тогда тридцать четыре года назад. И сейчас не очень понимаю…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
13. Фотография на память
13. Фотография на память Госпожа Брандейсова, замрите и смотрите сюда! – Щелк, вспышка.Павел фотографирует нас с Йожи у окна с бегониями. Они разрослись в новой квартире, заняли чуть ли не весь подоконник.Прощальный снимок.Но я не прощаюсь. Здесь не пересечемся – там
Игры и фотография
Игры и фотография Меня всегда удивляло, как легко давались мне спортивные игры. Еще большим сюрпризом оказался для меня необычайный мой успех в двух играх. Одна называлась файвз, другая — сквош.Файвз — игра, про которую, наверное, многие из вас и не слыхивали, — в Рептоне
Фотография
Фотография Ваня рос на свободе — ничто не сковывало его любознательность, инициативу и фантазию. Пищу уму давали не только книги — мальчик пытливо вглядывался в мир, кипевший вокруг. Пробираясь на высокие обрывы Оредежа, он подолгу разглядывал красный песок, который
ФОТОГРАФИЯ ПОД ДРЕВОМ
ФОТОГРАФИЯ ПОД ДРЕВОМ С хаоса и тьмы начинается автобиография Набокова: «Колыбель качается над бездной». Бездна, которая существовала до нас с вами, и бездна, к которой мы с вами «летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час». И наша жизнь между ними —
Фотография
Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и, когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил
Фотография
Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил
Фотография
Фотография Идя плечом к плечу с товарищами, я видел, как многие из них, выйдя на обочину дороги, останавливались и смотрели в сторону Ленинграда. Они молча прощались с родным городом, с боевыми друзьями-ленинградцами.Первые километры, пройденные по освобожденной земле…
Фотография 4. 1956 год
Фотография 4. 1956 год На лацкане пиджака бумажная роза с вклеенным профилем усатого вождя. В тот год в Грузию приехал китайский генерал Чжу Дэ. Он был другом и соратником Мао Цзэдуна. Мы, съехавшиеся отовсюду школьники, студенты, заводские парни, девицы с чайных плантаций,
Фотография 5. 1963 год
Фотография 5. 1963 год Я и мои друзья носили тогда прически а-ля Элвис Пресли. СССР вроде и не существовал для нас: мы отдельно, он отдельно. Ночами мы слушали “Голос Америки”, записывали на магнитофон Фрэнка Синатру, Ната Кинга Коула, божественную Эллу Фицджеральд и бога
Фотография 11. 1962 год
Фотография 11. 1962 год Мой папа бредил Пеле. Ожидалось первенство мира по футболу в Чили.К нам в Анару приехали два представителя Всесоюзной федерации физкультуры и спорта с путевками на футбольный чемпионат. Путевки были проданы семерым счастливчикам, в том числе и моему
Фотография 14. 1993 год
Фотография 14. 1993 год Прошли годы, я окончил ВГИК.С Федерико Феллини я столкнулся в перегруженном лифте гостиницы “Москва” в начале шестидесятых. В то утро я в ресторане “Арагви” ел хаши. Трудно объяснить незнающему, что это такое: густой бульон, в нем – коровьи потроха,
Фотография 13. 1955 год
Фотография 13. 1955 год Это она повела меня в секцию бокса. Офелия была возлюбленной чемпиона СССР по боксу в тяжелом весе Алеко Микаэляна, с которым недавно рассталась. Офелия почему-то решила, что ее племянник должен стать боксером. Не просто боксером, а чемпионом СССР,
Фотография 14. 1993 год
Фотография 14. 1993 год Шесть часов утра. Калифорнийская осень. Мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Квирикадзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…Когда-то, очень-очень давно, живя в городе Анара, мы с папой пошли во
Фотография 15. 1949 год
Фотография 15. 1949 год Фотография эта попала ко мне случайно. Будучи в Маффете, я зашел к директору маффетской птицефермы Таро Пааташвили, с которым когда-то ходил в секцию бокса. У нас был один тренер – моя тетка Офелия Миндадзе. Я приехал к Таро расспросить о его деде,