Багдасаряны
Багдасаряны
Рота лейтенанта Николая Перелешина занимала оборону на кирпичном заводе, между селениями Гнаденбург и Раздольное. Заводик стоял совсем близко от южного берега Терека, на окраине селения, откуда хорошо были видны занятая гитлеровцами станица Павлодольская, постройки машинно-тракторной станции на противоположном берегу.
Место для обороны оказалось удобным. Заводской двор был забит высокими штабелями кирпича, из которого бойцы Перелешина соорудили противотанковые завалы, отличные пулеметные гнезда, просторные блиндажи с рельсовыми перекрытиями.
Между Павлодольской, где уже стояли фашисты, и кирпичным заводом, в котором расположилась рота Перелешина, протекал Терек. В задачу роты входила оборона небольшого, протяженностью в шестьсот метров, берегового участка — полосы речных камней с песчаными холмиками, негусто поросшими вербой и дубняком.
Лейтенант Николай Перелешин, окончивший пехотное училище до войны, был в боях под Харьковом, где получил серьезное ранение, потом лежал в госпитале и только в конце августа принял роту. Грубоватый и резкий, он не терпел никаких нарушений уставных правил и строго взыскивал за малейшую провинность. В роте многие его побаивались.
Политрук роты, пожилой и спокойный Григор Левонян, до войны работал воспитателем в детском доме, и эта профессия выработала в нем мягкость и уравновешенность. Политрук видел, что Перелешин, подчас не разобравшись как следует, кричит на бойцов, но пока ничего не говорил лейтенанту, думая, что тот остепенится и «войдет в колею».
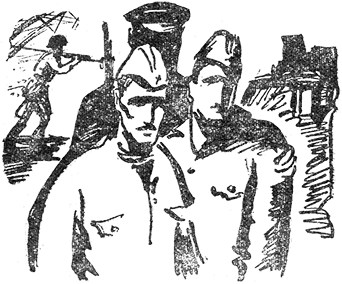
Личный состав роты сразу же не понравился Перелешину: за исключением полутора десятков вернувшихся из госпиталя кадровых бойцов, в роте не было обстрелянных людей, она состояла из зеленой молодежи, призванной недавно из горных районов Армении. Когда Перелешин приехал в Малгобек, где тогда находилась его рота, он ужаснулся: перед ним стояли в самых вольных позах, сутулясь или засунув руки в карманы, совсем молодые парни. Перелешин громко поздоровался с ними, они хором прокричали что-то по-армянски, а некоторые в знак приветствия даже сняли шапки.
Лейтенант, удивленный и раздосадованный, посмотрел на политрука.
— Что это такое? — спросил он.
Политрук Левонян, который привел это новое пополнение в Малгобек, ответил не смущаясь:
— Ты не сердись, лейтенант. Ребята сегодня получат обмундирование и сразу другой вид примут.
— А по-русски они говорят? — упавшим голосом обронил Перелешин.
— Говорить почти не говорят, но процентов на десять понимают, — объяснил Левонян.
Подозвав широкоплечего старшину украинца, Перелешин сказал:
— Сегодня же остричь их и переодеть. Завтра я проверю, что они знают…
На следующий день новобранцы стояли перед лейтенантом наголо остриженные, в новеньких мешковатых гимнастерках, в пилотках, в тяжелых солдатских ботинках, с винтовками в руках. Они выглядели лучше, но после стрижки казались похудевшими и застенчивыми.
Понаблюдав, как под командой старшины парни выполняют ружейные приемы, перестраиваются и маршируют, Перелешин немного успокоился, но все же его сердце сжалось от предчувствия, что молодые бойцы подведут его в первом же бою.
Он остановил роту, подошел к правофланговому (политрук Левонян шел следом за лейтенантом) и спросил высокого юношу, у которого из широкого ворота гимнастерки выпирала худая шея:
— Как фимилия?
Политрук из-за спины Перелешина быстро перевел вопрос.
— Саакян! — довольно бодро ответил юноша.
— А твоя фамилия? — спросил лейтенант второго бойца.
— Саакян! — последовал ответ.
— А твоя?
— Саакян!
Перелешин кинул через плечо политруку:
— Что они, все Саакяны? Целая рота Саакянов?
— Нет, зачем же? — обиделся политрук. — По фамилии Саакян в роте числится семнадцать человек. А есть Петросян, Симонян, Багдасарян, Геворкян, Назарян. Этих тоже по нескольку человек.
— Как же это получилось?
— Они из одних селений, там живут все их родственники.
— Как же я их различать буду? — ужаснулся Перелешин.
— Ничего, лейтенант, привыкнешь. Научим их русскому языку, натренируем немножко, и все будет в порядке…
Через две недели после этого разговора рота Перелешина покинула Малгобек, двое суток простояла на ферме овцеводческого совхоза, потом была отправлена на передовую — оборонять береговой участок кирпичного завода между селениями Гнаденбург и Раздольное.
Территория завода была уже пуста. Ценное имущество, как видно, успели эвакуировать, а рабочие разошлись по домам. Перелешин приказал оборудовать командный пункт в глубоком мрачном подвале, над которым высилась целая гора плотно утоптанной глины. В подвале поставили телефон, сделали деревянные нары. Здесь же поселились Перелешин и Левонян.
Они вдвоем осмотрели участок обороны, отметили на карте каждую извилину довольно пологого берега, кустарники, окраинные дворы Гнаденбурга — все, что могло оказаться важным и удобным для обороны.
Перелешин решил расположить два взвода на самом берегу реки, а третий — на территории завода. Первый взвод отрыл себе окопы между кромкой берега и надречными дворами селения, соединенными с окопами глубокими ходами сообщения. Этим взводом командовал младший лейтенант Геворк Саакян, только что прибывший в роту из училища.
Второй взвод старшины Вдовиченко, здоровенного флегматика украинца, окопался в зарослях ивняка у самой воды и был соединен ходами сообщения с заводским двором. Перелешин уважал Степана Вдовиченко за его огромную физическую силу, за то, что старшина был отличным служакой и требовательным командиром. Поэтому второй взвод и был направлен им на участок, который казался ему наиболее опасным.
Третий взвод — им командовал старшина Никифор Голоблев, бывший моряк, — занял территорию завода и должен был стать главным опорным пунктом роты.
У Саакяна и Вдовиченко было по одному станковому пулемету, по одному миномету и по два расчета противотанковых ружей. У Голоблева — два пулемета, два миномета и четыре расчета ПТР. Кроме того, Перелешину была придана одна противотанковая пушка, ее расположили чуть правее завода, так, чтобы артиллеристы могли наблюдать за противоположным берегом реки и, если понадобится, бить прямой наводкой. Орудийным расчетом командовал молодой сержант Семен Шустиков, бывший слесарь Кировского завода.
В тот день, когда рота Перелешина заняла кирпичный завод, фашистский головной танковый отряд из дивизии генерала Вестгофена выскочил на разъезд Черноярский, расположенный по железнодорожной линии Прохладный — Моздок, примерно в двадцати километрах от завода. На следующее утро танкисты Вестгофена были уже в станице Павлодольской, стоявшей на северном берегу Терека, прямо против кирпичного завода.
За два часа до этого взвод Саакяна пропустил через Терек на Гнаденбург бойцов отходившего от железной дороги пехотного батальона. Бойцы переправлялись на самодельных плотах, они были оборваны, забрызганы грязью, и их появление смутило необстрелянных людей Саакяна.
Коверкая русские слова, один из бойцов взвода спросил:
— Как там дела?
Хмурый сержант с перевязанной рукой, который переправлял людей через реку, сердито отрубил:
— Сегодня сам узнаешь, как дела, и не раз маму вспомнишь…
В девять часов утра на заводском дворе разорвался первый снаряд, пущенный гитлеровцами по Павлодольской.
— Ну, политрук, теперь начинается, — сказал Перелешин Левоняну.
Они стояли на площадке высокой заводской печи, где за массивной кирпичной стеной и рельсовыми укрытиями располагался наблюдательный пункт.
— Я пойду к Геворку, — сказал Левонян.
— Зачем?
— Надо поговорить с ребятами.
— Беседу проводить? Газеты читать? Им сейчас не до газет… — пробурчал Перелешин.
Левонян нахмурился. Он давно заметил, что лейтенант несколько пренебрежительно относится к мероприятиям, которые он проводит во взводах. Обычно политрук отмалчивался, но сейчас, перед лицом близкой опасности, он счел нужным сказать:
— Нет, Николай, не газеты читать, а поговорить с людьми по душам и хотя бы в первые минуты побыть рядом с ними. Они живые люди, и у них есть страх…
— Иди! — махнул рукой Перелешин.
Он уже не слышал, что говорил Левонян. Припав к объективу стереотрубы, он смотрел на вражеский берег. Из-за длинного сарая, белевшего на окраине Павлодольской, ударил шестиствольный миномет. Мины не долетели до южного берега и упали в воду, взметнув белые гейзеры пены. По дороге из Ново-Осетиновской в Павлодольскую промчались, оставляя за собой клубы пыли, тяжелые грузовые машины с прицепами, на которых темнели длинные понтоны.
— К переправе готовятся, паразиты! — с тоской и злобой сказал Перелешин.
Оставив у стереотрубы наблюдателя, лейтенант сбежал по кирпичным ступеням вниз и стал звонить в батальон, чтобы Павлодольскую накрыли огнем.
— Их там собралась чертова куча! — кричал он в трубку. — Дайте раза два по сараю восточнее станицы! За сараем у них «ванюша»!
— Ладно, ладно, Перелешин, — хрипло гудел командир батальона, — сейчас свяжусь. Ты смотри в оба, особенно ночью…
Два вражеских танка выскочили из станичной улицы к самому берегу, постреляли минут пять и ушли. Во взводе Саакяна защелкали противотанковые ружья и дробно застучала длинная пулеметная очередь.
Услышав стрельбу, взбешенный Перелешин покрутил телефон и закричал в трубку:
— Ты чего там стреляешь? Раньше времени обнаружить себя хочешь?
— Фашистские танки, товарищ лейтенант, — оправдывался испуганный криком Саакян.
— Ну и черт с ними! Что они, через реку поплывут, что ли? Прежде чем что-нибудь делать, головой надо думать…
— Есть, головой думать, товарищ лейтенант! — отозвался Саакян.
Гитлеровцы к переправе пока не приступали. Обнаружив место расположения саакяновского взвода, они обрушили на селение Гнаденбург шквальный огонь тяжелых минометов и пушек. Перелешин сам побежал в этот взвод. Не стесняясь присутствия бойцов, лейтенант закричал еще издали:
— Какому вас черту учили в училище? Обнаружили себя, теперь получайте!
Красивый Саакян, с темными усиками над детскими губами, зарделся от стыда:
— Виноват, товарищ лейтенант…
— Головой думать надо! — перебил Перелешин. — Ваше дело — следить за противником и, если он попытается наводить переправу, воспрепятствовать этому огнем, а вы палите в белый свет, как в копейку. Во-первых, без переправы танк вам не опасен, во-вторых, вы отсюда ни черта ему не сделаете вашими ружьями. Понятно?
— Понятно, товарищ лейтенант.
Бойцы, припав к стенке окопа, не сводили глаз с сердитого лейтенанта, ожидая, что он обрушится сейчас на них.
— Ну, а вы, орлы? — закричал Перелешин. — Дрожите небось?
Услышав в голосе лейтенанта нотки смешливости, бойцы заулыбались. Но Перелешин тотчас же нахмурился и, скользнув взглядом по фигурам парней, закричал:
— Почему поясные ремни распустили, как бабы? А обмотки? Не можете с обмотками обращаться? Если еще раз замечу кого-нибудь в таком виде, голову оторву! Сегодня у вас обмотки размотаются, а завтра вы мне танк противника пропустите! Надо следить за собой, тогда вы и за врагом следить будете…
Фашисты все время вели беглый минометный огонь по селению, осколки с резким вжиканьем разлетались над головами; бойцы прижимались к земле, и многие из них побледнели от страха. Перелешин видел это и своими грубоватыми замечаниями по поводу распустившихся обмоток хотел им внушить, что вокруг ничего страшного нет, что в окопах всегда так будет и что на такие пустяки, как огонь противника, не стоит обращать никакого внимания.
Так прошло четверо суток. Днем и ночью стоял в степи гул пушечной канонады, земля сотрясалась от частых бомбовых разрывов, черный дым густой тучей навис над изрезанной окопами и воронками равниной, над станицами и над потемневшими лесами Черных гор.
В ночь на пятые сутки гитлеровцы начали скрытно подвозить к берегу понтоны. Разведчики второго взвода обнаружили это. Сержант Шустиков выпустил в темноте по северному берегу десять снарядов и разогнал вражеских понтонеров. Тогда фашисты обрушили на южный берег весь огонь своих пушек и стали бомбить береговую полосу, селение и кирпичный завод, чтобы под прикрытием огня построить переправу.
Взлетали вверх вырванные с корнями деревья, тяжелые булыжники, длинные бревна перекрытий и блиндажей, рушились кирпичные заводские стены, белые домики селения, и всюду стоял едкий, густой дым и кисловатый запах сгоревшего металла.
Больше всего пострадал взвод младшего лейтенанта Саакяна — половина его бойцов выбыла из строя. Но ни один из юношей не дрогнул, не побежал, не оставил окопа. Короткие часы «огневого крещения» уже успели превратить их в солдат, умеющих подавлять в себе чувство страха.
Гитлеровцам все же удалось построить на реке понтонный мост. Правда, это им дорого стоило: пушка Шустикова, пулеметчики и минометчики Вдовиченко и Голоблева, несмотря на бешеный огонь вражеской артиллерии, десятками сметали фашистских солдат с низких понтонов, топили их в терских волнах, разносили в клочья на берегу, где они накапливались для атаки. Однако, несмотря на потери, фашисты соорудили мост, по которому ринулись на южный берег их первые танки…
Лейтенант Перелешин больше всего боялся появления танков. Он хорошо знал, что при встрече с танками самое главное — устоять, выдержать, подавить в себе невыносимо гнетущее желание бежать из окопа. Он знал это и боялся, что его «мальчики» не выдержат страшного испытания.
Правда, в окопах были противотанковые ружья, гранаты, зажигательные бутылки, но что все это стоит без сильной человеческой воли, которая в состоянии подавить даже страх смерти?
— Не устоят наши орлы! — с тревогой говорил Перелешин политруку.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что тут нужна большая душевная сила…
Политрук неуверенно успокаивал:
— Выстоят…
— Выстоят! — оборвал Перелешин. — Ты-то сам знаешь, что такое танковая атака?
— Нет, Николай, не знаю, — простодушно соглашался политрук, — но я буду среди ребят…
Когда наблюдатели доложили, что гитлеровцы, несмотря на огонь, заканчивают наводку моста, Перелешин и Левонян побежали к берегу. Лейтенант повернул на левый фланг, к Саакяну, так как знал, что враги прежде всего полезут к селению, а политрука Левоняна послал к Вдовиченко.
Было раннее сентябрьское утро. Красноватое солнце уже поднялось довольно высоко над береговым кустарником, и по всей долине розовели тающие полоски тумана. Небо было чистое, глубокое, такое, какое только бывает осенним утром. Но все вокруг гремело, бушевало. Фашисты вели из Павлодольской беглый минометно-артиллерийский огонь, готовя танковую атаку.
Пригнувшись, лейтенант Перелешин вскочил в окоп. Бойцы оглянулись и, увидев лейтенанта, стали незаметно поправлять пояса; красивый Геворк Саакян, с побледневшим лицом, в измятой расстегнутой шинели, стоял в правом углу окопа, напряженно всматриваясь в смутные, подернутые туманом очертания берега.
— Товарищ лейтенант, на северном берегу работают танковые моторы, — ломким, срывающимся голосом закричал он. — Видно, противник готовится…
— Застегните шинель и не кричите! — перебил Перелешин. — Бронебойщики на месте?
— Так точно!
— Приготовьте гранаты и зажигательные бутылки, — коротко и жестко сказал лейтенант. — Я пойду к бронебойщикам, а вы оставайтесь тут. Из окопа не выпускать ни одного человека. Первого же бегущего расстрелять на месте. Если это не будет сделано, танки раздавят вас всех. Понятно?
— Понятно, товарищ лейтенант.
— Ну вот, действуйте!
Гнездо первой пары бронебойщиков было выдвинуто метров на сорок вперед. Нахлобучив фуражку, Перелешин съежился и, не оглядываясь, побежал по узкому ходу сообщения. Где-то справа разорвалась мина. В лицо Перелешину ударила туча песку. Он сплюнул и побежал быстрее.
Бронебойщики стояли спиной к ходу сообщения, прижавшись друг к другу. Длинное, неуклюжее ружье лежало между ними на бруствере. На дне окопчика зеленели ивовые прутья с увядшими, растоптанными листьями; в земляной нише поблескивали сваленные грудой большие медные патроны; на патронах лежали фляги и замотанный в промасленную тряпку кусок хлеба.
Увидев командира роты, бронебойщики испуганно вытянулись.
Перелешин скользнул взглядом по их смущенным лицам и спросил:
— Как фамилия?
— Багдасарян, товарищ лейтенант, — торопясь, ответил один из парней, стоявший ближе к Перелешину.
— А твоя?
— Багдасарян, товарищ лейтенант, — как эхо повторил второй парень.
— Братья?
Бронебойщики переглянулись и ответили в один голос:
— Нет…
Перелешин потрогал рукой ружье и, прижавшись плечом к брустверу, бегло осмотрел ориентиры. До Терека было метров триста. Между рекой и гнездом бронебойщиков высились две старые вербы.
«Сто пятьдесят метров», — мысленно отметил Перелешин.
Еще ближе, метрах в семидесяти от гнезда, чернела глубокая бомбовая воронка. Совсем близко, метрах в двадцати, валялось корявое, покрытое зеленым мохом бревно, должно быть, занесенное сюда еще весенним разливом.
— Я останусь с вами, — сказал Перелешин, посматривая на парней. — Сейчас пойдут вражеские танки. Стрелять надо спокойно. Когда танки дойдут до тех двух деревьев, — раздвинув два пальца, он показал рукой, — переведите прицел. Дойдут до воронки — стреляйте в последний раз, прячьте ружье в окоп и берите гранаты. Понятно?
— Понятно, товарищ лейтенант, — ответили бронебойщики.
Фашисты усилили огонь. В промежутках между частыми разрывами слышен был ровный и звонкий гул танковых моторов. Заслонив южный конец понтонного моста завесой огневого вала, гитлеровцы готовились к решающей минуте.
«Эх, дать бы сюда штук пять самолетов!» — с тоской подумал Перелешин.
Он всматривался в побледневшие лица бронебойщиков и в сотый раз спрашивал себя: выдержат или не выдержат?
Вдруг вражеские пушки сразу умолкли, точно кто-то смахнул их с берега. Наступила зловещая тишина.
«Сейчас!» — мелькнула у Перелешина короткая, как молния, мысль. Парни беспокойно оглянулись.
— Боец Багдасарян! — почти спокойно сказал Перелешин. — Поправьте пилотку и смотрите вперед, а не назад. Сзади все в порядке…
Парни механическим движением поправили съехавшие на затылок пилотки и приникли к ружьям. Ровный голос лейтенанта подействовал на них, как ледяное прикосновение, и они, повинуясь этому странно успокаивающему голосу, заглушили в себе лихорадочную дрожь и смотрели вперед, туда, где вот-вот должны были показаться стальные чудовища.
На одно мгновение встревожила Перелешина мысль о том, что он поступает неправильно, оставаясь здесь, с бронебойщиками, что его место позади, там, откуда нужно руководить боем, но он понимал, что, если эти два парня дрогнут и побегут, не выдержав первого удара, все будет кончено, потому что паника охватит их товарищей, и тогда уже никто не остановит обезумевших людей.
Подобно приближающемуся урагану, загрохотали танки. Вот их тяжелые гусеницы уже застучали по мосту. Скрежет, лязганье, захлебывающиеся пулеметные очереди разорвали тишину. У самого берега сверкнули вспышки пламени.
«Это пушка Шустикова, — отметил Перелешин. — Нервничает, дурак, и стреляет раньше времени…»
Парни снова оглянулись. В их глазах стояло выражение ужаса.
Перелешин положил им на плечи тяжелые руки.
— Идут вражеские танки! — закричал он протяжно. — Не торопитесь и цельтесь лучше!
Из розового приближающегося тумана вынырнули черные силуэты танков. Справа, из кустарников, где оборонялся взвод Вдовиченко, нестройно защелкали противотанковые ружья. Неподалеку разорвался снаряд. Ветер донес до окопчика сладковатый запах жженого металла и селитры.
Припав к ружью, боец выстрелил один раз, потом второй, третий…
— Не торопись! — закричал Перелешин. — Целиться надо!
Боец, выждав секунду, выстрелил еще раз. Башня переднего танка, выползая из тумана, неуклонно двигалась вперед. Перелешин мучительно боролся с желанием выхватить у смуглого парня ружье и стрелять самому, но он подавил в себе это желание и захрипел над самым ухом бойца:
— Спокойнее, спокойнее!
Боец отмахнулся локтем и припал к ружью. Один за другим грохнули два выстрела. Передний танк замер. Из темного полукружья его приземистой башни вырвалась беловатая струйка дыма.
— Молодец, Багдасарян! Есть один! — восторженно крикнул Перелешин.
— Давай зажигательные! — гортанно крикнул парень.
Второй номер выбросил на бруствер два патрона с ярко-красной полоской. С металлическим карканьем щелкнул затвор.
Танки, слева и справа обходя подбитый головной танк, быстро приближались к старым вербам. Уже со всех сторон посвистывали пули. Подхваченные взрывами снарядов, взлетали вверх камни. Полыхнув клубами багрового черного дыма, дрогнул и остановился танк, который шел справа.
«Это Шустиков долбанул», — подумал Перелешин.
Но огонь Шустикова не остановил фашистов. Пять танков, скрежеща по камням, шли прямо на окопчик. Уже хорошо были видны острые траки их гусениц, тонкие стволы пушек, черные, обведенные белыми полосами кресты на броне. У воронки танки разделились: три, обогнув ее, устремились к селению, а два шли на окопы Саакяна.
Бронебойцы все еще стреляли.
— Прячь ружье, бери гранаты! — закричал Перелешин.
Парни нырнули в окоп. Ствол ружья больно ударил Перелешина по колену. Лейтенант схватил две связки гранат и, размахнувшись, бросил под гусеницы ревущего танка. Раздался оглушительный грохот. Второй танк, огромный, пышущий жаром, пронесся над окопчиком, руша камни, рыча траками и разбрызгивая горячее масло.
— Кидай ему в зад! — прохрипел засыпанный землей Перелешин.
Но танк, подбитый пушкой Шустикова, уже вертелся в десяти шагах от окопчика. Из открывшегося люка стали выпрыгивать танкисты.
Один из бойцов поднял тяжелое ружье, выстрелил и пригвоздил к земле бегущего фашиста. Еще двух почти в упор застрелил из пистолета Перелешин.
Второй боец, белый как мел, лежал на дне окопчика, подогнув колени и зажимая руками шею. Между скрещенными пальцами текла кровь… Боец боязливо посмотрел на лейтенанта черными, влажными глазами, ожидая разноса за ранение.
Но грозный лейтенант вдруг опустился на колени, вытер, размазывая грязь, свой потный лоб, наклонился и поцеловал бойца в щеку и в губы. Потом он поцеловал второго парня и сказал хрипло:
— Молодцы Багдасаряны! Орлы! Представляю к награде. Танковую атаку отбили!
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК