На Туапсинском направлении
На Туапсинском направлении
В один из холодных осенних дней (к сожалению, я не запомнил точной даты) я ехал на мотоцикле по Новороссийскому шоссе, потом свернул в горы, чтобы посетить батарею, о людях которой мне много говорили в штабе армии. В сумерках мы заблудились на скрещении двух дорог, потом, в довершение этой неприятности, мой шофер наскочил на пень и что-то сломал в мотоцикле. Пришлось, проклиная свою судьбу, идти пешком по тропе. Когда мы прошли километров шесть, таща за собой мотоцикл (благо, тропа шла вниз), нас остановил патруль краснофлотцев. На мой вопрос, в распоряжение какой части мы попали, статный старшина в бескозырке ответил мне, что тут стоит батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Кузьмина.
Я уже слышал о Кузьмине и поэтому решил переночевать у него, а с рассветом двинуться дальше. Меня проводили в командирский блиндаж, убранство которого ничем не отличалось от сотен других блиндажей. При свете подключенной к аккумулятору автомобильной лампочки сидел у стола молодой человек. У него было красивое, чуть удлиненное лицо, прямой нос с едва заметной горбинкой, гладкие, тщательно расчесанные на пробор волосы. Ничто в этом человеке не обличало моряка: он был одет в защитную гимнастерку пехотного офицера, в петлицах которой красовались капитанские «шпалы»; на груди его сверкала начищенная медная пряжка портупеи, — пехотинец! Но вот едва заметные детали: прокуренная маленькая трубочка, чуть-чуть выше, чем обычно, приподнятый над воротом гимнастерки белый воротничок, тщательно отшлифованные ногти, пуговицы с якорями на карманах — все это говорило, что передо мной моряк.
Я поздоровался и назвал себя. Офицер привстал, протянул мне руку и сказал:
— Капитан-лейтенант Олег Кузьмин.
На столе у Кузьмина я заметил испещренную цветными пометками карту, циркуль, выписки из статьи Энгельса о горной войне, книгу французского подполковника Абади «Война в горах» и несколько чертежей и схем.
— Я интересуюсь горной войной, — сказал Кузьмин, заметив мой взгляд, — и уже успел полюбить горы. Между горами и морем есть, как мне кажется, что-то общее: то ли это дикость и свежесть, то ли размах и величие. Во всяком случае, я полюбил горные операции.
Когда мы познакомились ближе, Олег Кузьмин сообщил мне, что батальон морской пехоты, которым он командует, на рассвете начнет наступление на хорошо укрепленную фашистами высоту.
— У меня с противником равные шансы, — сказал Кузьмин. — Высоту занимает вражеский батальон, которому неоткуда ждать помощи, так как высота, как вы видите на карте, расположена несколько в стороне от очагов боевых действий и не имеет достаточных путей подвоза. Мне тоже придется управляться самому. Словом, на доске одинаковое количество фигур. На рассвете я сделаю первый ход.
Я взглянул на карту. Вражеская оборона представляла собою замкнутую окружность: склоны высот были кольцеобразно опоясаны тремя линиями окопов, на вершине расположились блиндажи, землянки и командный пункт батальона.
— Это точная схема? — спросил я.
— Очень точная, — усмехнулся Кузьмин, — тут у меня несколько суток работали шесть групп лучших разведчиков.
— Каков же ваш план?
Кузьмин пыхнул трубкой, пустил несколько затейливых колец густого дыма и концом трубки коснулся карты.
— Я ударю с трех сторон. Час назад группа автоматчиков Жукова отправилась вдоль реки в тыл к гитлеровцам. К рассвету она обойдет высоту и будет ждать в засаде, чтобы отрезать противнику пути отхода и ударить ему в спину. На правый фланг вражеского батальона уже вышли автоматчики Вяземского, чуть левее продвигается рота Евстафьева. Прямо в лоб пойдет рота Васильева, ее поддержат пулеметчики Мамаева. Таким образом, я окружу высоту мелкими группами и по сигналу начну бой…
План Кузьмина мне понравился не только свежестью замысла, рассчитанного на уничтожение равного по силам, но обладающего крепкими позициями противника, но и той законченностью, тщательностью, с какой он был разработан. Кузьмин предусмотрел каждую мелочь: пути подхода были хорошо разведаны и обозначены, стрелки получили точные задачи, минометчики — точные ориентиры и сигналы к открытию и переносу огня, все было расставлено на свои места, и все подготовлено к бою.
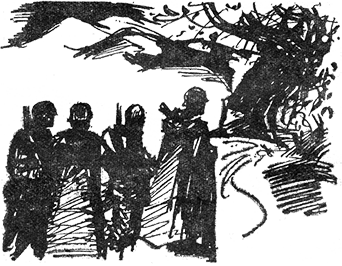
В эту ночь мы почти не спали. Мне удалось вздремнуть часок на походной койке гостеприимного хозяина, но потом меня разбудил негромкий голос Кузьмина. Капитан-лейтенант разговаривал по телефону. Это был короткий, отрывистый разговор намеками — видно было, что Кузьмин доволен продвижением своих групп на исходные рубежи и уверен в успехе.
В третьем часу ночи заспанный ординарец принес термос с горячим кофе и тарелку с гренками. Мы курили, пили кофе, говорили о литературе, о музыке, спорили о системах пистолетов, и Кузьмин ни разу не вспомнил о предстоящей операции. Но я понимал, что он все время думает о бое и не только мысленно представляет этот бой, но и разыгрывает различные его варианты. Это было заметно по тому, как нетерпеливо посматривал он на ручные часы, сосредоточенно насвистывал или, рассеянно отвечая мне, бросал взгляд на карту.
Ровно в половине пятого он поднялся, надел фуражку, сунул в карман брюк трубку, положил карту в планшет и сказал:
— Пора. Поедем на командный пункт. Через час начнем.
Неподалеку от блиндажа нас ждали кони, запряженные в рессорную тачанку. Кузьмин на секунду включил фонарик, мы уселись, кучер-краснофлотец причмокнул губами, и тачанка, мягко покачиваясь, покатилась куда-то вправо. Вначале мы ехали довольно быстро, потом начался крутой подъем, кони пошли медленнее. Над нашими головами шумели ветви деревьев, неподалеку слышались одиночные винтовочные выстрелы, изредка над высотой, лежащей левее, вспыхивали осветительные ракеты и трещали пулеметные очереди.
— Боится атаки, — сквозь зубы буркнул Кузьмин, — подходы проверяет…
Командный пункт Кузьмина оказался на высоком выступе скалы, поросшей тощими елями, орешником и дикой грушей. Отсюда до занятой фашистами высоты было не более ста двадцати метров. В узкой расселине скалы, слегка подправленной кирками саперов, сидел телефонист; на камнях, прикрыв голову изодранным бушлатом, спал связной; по тропинке, между елями, медленно расхаживал часовой с автоматом.
В течение пятнадцати минут Кузьмин говорил по телефону с командирами рот, потом зажег трубку, взглянул на часы и взял у телефониста длинный ракетный пистолет.
— Через три минуты, — сказал он, раскуривая трубку.
Мы выбрались из расселины и стали под елью. Уже рассвело. Небо было чистое, бледно-голубое в зените, розоватое на востоке, холодное и спокойное. Прямо перед нами темнела безымянная высота, та самая, которую сейчас должны были штурмовать моряки Кузьмина; на лесистых склонах высоты, точно комки ваты, белели клочья тумана, между деревьями виднелись чуть колеблемые нагревающимся воздухом дымы, — очевидно, вражеские солдаты разожгли в блиндажах печи. Левее высоты, внизу, мерцала речка, а правее, повитые облаками, синели предгорья Большого хребта. Было тихо. У подножия высоты дважды татакнул пулемет.
Кузьмин поднял вверх ракетный пистолет и выстрелил. Светло-зеленая ракета, оставляя за собой полоску белого дыма, легко понеслась к небу, на мгновение замерла в какой-то точке, потом описала светящуюся кривую и погасла за скалами.
Я следил за ракетой, ожидая, что вот в эту самую секунду, когда она исчезнет, тишина осеннего утра расколется частыми выстрелами, грохотом взрывов. Но — странно! Ракета исчезла, а вокруг все еще стояла непонятная, невыносимая тишина. Мне казалось, что эта тяжелая тишина будет длиться вечно и я всегда буду слышать, как над моей головой шелестят ветви деревьев, как в лесной чаще шуршат крылья хлопотливых птиц и журчат горные родники. И только когда под нами в ущелье грохнули выстрелы, застрекотали пулеметы и где-то за елями хлестко и зло ударила пушка, я взглянул на часы и удивился тому, что между исчезновением зеленой ракеты и этим бушующим грохотом прошло всего три с половиной минуты.
Я еще не видел впереди ни одного человека и не мог разобрать в хаосе взрывов, откуда и кто стреляет, но Кузьмин — это было заметно по его нервному лицу — видел все как на ладони.
— Мамаев выскочил раньше времени, — отрывисто бросил он и сейчас же повернулся к телефонисту: — Давайте Мамаева!
Через минуту он уже кричал в телефон:
— Почему заминка? Минировано? Проделайте проходы и не задерживайтесь! Следите за Евстафьевым. Пошел вперед? Поддержите его левый фланг.
Он бросил трубку и, опустившись на колени, приник к большому биноклю: по движению его бровей, по коротким усмешкам, по тому, как он одобрительно кашлял, видно было, что он замечает все то, чего я не вижу, что ход боя он держит в своих руках.
Позвав связного, Кузьмин бросил:
— Быстро к Васильеву. Пусть подвинет два миномета правее и откроет путь Мамаеву. Пусть одновременно одним взводом штурмует скалу, перед которой застрял Мамаев. Повторите приказание.
Связной быстро повторил приказание и побежал вниз по тропе. А Кузьмин уже кричал в телефон:
— Не спите, Жуков, начинайте! Что? Не бегут? Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе! Действуйте! Бейте прямо по блиндажам с тыла!
Лежа рядом с Кузьминым и вглядываясь в окутанную дымом высоту, я старался представить, что там сейчас происходит. За деревьями не было видно ни одного человека, но вся высота, казалось, содрогалась и дышала красноватым пламенем. На левом скате загорелся лес, оттуда повалил густой черный дым, там что-то трещало, грохотало, ворочалось. Раздались нестройные крики людей. Выстрелы участились, потом замолкли. Стреляли только справа и за высотой.
— Рота Васильева пошла врукопашную! — закричал Кузьмин.
На склоне, обращенном к нам, послышались взрывы гранат, короткие, захлебывающиеся очереди пулеметов. Кузьмин, склонив голову набок, внимательно слушал. Проходили минуты, стрельба справа разгоралась все сильнее, но дальние выстрелы затихали, их почти не было слышно. Кузьмин нетерпеливо кинул телефонисту:
— Дайте-ка мне Вяземского!
Спокойный телефонист склонился над аппаратом и стал монотонно повторять:
— «Полубак»! «Полубак»! «Полубак»!
— Ну, что вы там? Долго я буду ждать?
— Товарищ капитан-лейтенант, «Полубак» не отвечает, — должно быть, линия перебита.
— К черту с вашими «должно быть»! Давайте Евстафьева!
Телефонист певуче запричитал:
— «Клотик»! «Клотик»! «Клотик»!
Вражеская мина просвистела над нашими головами, зацепила ствол ели, под которой стоял часовой, с треском разорвалась и осыпала нас щепками. Часовой испуганно вскрикнул и схватился за плечо. Кузьмин мельком взглянул на него и сердито бросил телефонисту:
— Вы что там?
— Товарищ капитан-лейтенант, — спокойно возразил телефонист, — «Клотик» не отвечает, должно быть, линия…
— Прекратить объяснения! Мамаева!
Телефонист передал Кузьмину трубку.
— Мамаев? — закричал Кузьмин. — У вас связь с Евстафьевым есть? А с Вяземским? Тоже есть? Передайте Вяземскому, чтоб он поворачивал левее, а не лез на соединение с Жуковым… Понятно? Жуков и без него справится… Пусть держится Евстафьева… А как у вас? Прошли скалу? Хорошо! Жмите, но не отрывайтесь от Васильева!
Пока Кузьмин говорил с Мамаевым, белобрысый телефонист в лихо заломленной бескозырке жадно затянулся папиросой и восхищенно шепнул мне:
— Наш капитан-лейтенант бой разыгрывает, как пианист.
— Почему как пианист? — не понял я.
— Вроде как на клавишах играет.
Действительно Кузьмин не только поспевал за ходом боя, но и безошибочно предугадывал события на каждом участке: вовремя устранял возможные заминки, вовремя нажимал нужную «клавишу», он, казалось, везде присутствовал и все видел.
Бой за высоту длился четыре часа. Солнце поднялось уже довольно высоко, туман в долине исчез. Мимо нас стали проносить раненых. Два моряка-автоматчика провели по тропе группу пленных фашистов. Куда-то поволокли станковый пулемет. Выстрелы стали стихать, слышались только редкие взрывы гранат.
В одиннадцатом часу бой закончился. Моряки разгромили вражеский батальон. Почти никто из гитлеровцев не спасся. Высота была взята. Она стояла, освещенная солнцем, повитая темным дымом, внезапно притихшая. Ротные повара уже поехали туда с кухнями, обозники повезли снаряды и мины.
Кузьмин лежа выслушал по телефону донесения командиров рот, закурил свою неизменную трубку и с наслаждением вытянулся на камнях. При солнечном свете лицо было мертвенно-бледным, а покрасневшие от бессонной ночи глаза полузакрыты: через минуту он уже спал. Телефонист подошел к спящему Кузьмину, снял с себя бушлат и осторожно и нежно прикрыл своего командира.
Обстановка под Туапсе становится все более угрожающей. По всему видно, что фашисты решили взять город любой ценой. Обладая широкой кубанской равниной с десятками прекрасных дорог, они маневрировали крупными массами войск, беспрерывно подбрасывали резервы и, прорвав первый рубеж нашей обороны, растекались по высотам и ущельям; подобно мутному потоку, они просачивались на отдельные тропы, лезли в долины, с отчаянным упорством наступали в лесах.
Правда, сравнительно с кубанскими боями, темпы этого продвижения уменьшились, но наши позиции севернее Туапсе с каждым днем придвигались ближе к городу. Туапсинское сражение подходило к своему зениту.
Фашисты захватили на правом фланге наших войск гору Матазык, вышли на северные скаты горы Оплепен, взяли селение Красное Кладбище, а на центральном участке захватили гору Гунай и хутора Папоротный, Гурьевский, Суздальский. В станице Хадыженской, стоящей от станции Хадыженской на десять километров, гитлеровское командование сосредоточило 97-ю горноегерскую дивизию генерал-майора Руппа, явно предназначая ее для штурма главного Туапсинского шоссе и селения Шаумян, превращенного нами в мощный узел сопротивления.
Выполняя приказ Гитлера и Клейста, генерал Руофф решил прорвать фланги нашей группировки, прикрывавшей Туапсе, выйти в долину реки Пшиш, замкнув клещи в этой долине, отрезать дивизии, обороняющие первый пояс туапсинского рубежа, и после этого штурмовать Туапсе.
Правому крылу предназначенной для этой операции ударной группы Руоффа противостояли гвардейцы полковника Тихонова. Это были отборные, хорошо натренированные, мужественные и стойкие солдаты. Они великолепно дрались в горах и долго сдерживали напор превосходящих сил противника. Особенно показали они себя в рукопашных боях, в лесных засадах и глубоких ночных поисках, в дерзких захватах «языков», в налетах на тылы противника.
К выполнению операции по окружению наших войск севернее реки Пшиш Руофф приступил в октябре.
Перед вечером 13 октября командир 204-го горноегерского полка предпринял атаку высоты, расположенной восточнее Туапсинского шоссе. Оборонявшие эту высоту гвардейцы Тихонова в трехчасовом бою уничтожили свыше двухсот егерей, перешли в контратаку и отбросили гитлеровцев. В разгар боя погода резко изменилась, в долинах встал густой туман, пошел холодный дождь. Лежа в воде, продрогшие гвардейцы отстреливались от фашистов и не отступали ни на шаг. Боеприпасы иссякли, так как посланные Тихонову автомашины с минами, патронами и гранатами застряли на размытой дождем дороге. Но гвардейцы не отступали.
В те дни я имел возможность ознакомиться с очерками немецкого корреспондента обер-лейтенанта Петера Вебера, который принимал участие в наступлении Руоффа и печатал свои корреспонденции в газете «Панцер форан».
«Атака на расположенные уступами влево от шоссе горные позиции потерпела неудачу, — писал Петер Вебер, — и наша попытка повести прорыв по этому пути стоила много крови. Наступать по самому шоссе было невозможно. Значит, оставалось попытаться обойти справа занятые противником вершины и овраги и охватить с фланга врага. Однако наша передовая разведка и тут натолкнулась на сильную линию дотов, расположенных в шахматном порядке и не менее укрепленных, чем позиции справа от шоссе. Командир егерского полка приказывает остановиться перед линией дотов, чтобы найти для прорыва слабое место где-нибудь на центральном участке вражеской обороны. Генерал решает начать прорыв на рассвете и сосредоточить для этого все силы. Егерский полк, находящийся слева от шоссе и понесший серьезные потери, вызван сюда и ночью направлен в обход противника в лесу…»
На рассвете фашисты вновь повели частый минометный огонь. Лес загорелся в нескольких местах, но вскоре полил дождь, очаги пожара погасли, только по склонам высот еще тянулся густой белый дым. Под покровом этого дыма гитлеровские егеря пошли в атаку. Гвардейцы Тихонова яростно отбивали натиск вражеских автоматчиков, но противнику удалось взорвать гранатами четыре дзота и просочиться в глубину нашей обороны.
Пытаясь расширить полосу прорыва, гитлеровское командование беспрерывно подбрасывало к месту боя свежие батальоны и боеприпасы. На стороне фашистов тут было значительное преимущество — наличие хороших дорог. Наши же гвардейцы почти не имели путей подвоза, а машины и телеги с боеприпасами и продовольствием, которые высылались гвардейцам, застревали на размытых дождем дорогах и в лучшем случае доходили с большим запозданием.
И все же гвардейцы мужественно отбивали атаки врага, каждый рубеж держали до последнего защитника. Голодные, продрогшие от частых горных ливней, они сами нападали на фашистов, перехватывали их фланги, мелкими группами заходили в тылы, а если и отступали, то цеплялись за каждую тропу, за каждый выступ скалы, за каждое дерево.
В самый разгар боев наступило резкое похолодание. Днем шли дожди, а к ночи температура падала, лужи затягивались тонкой коркой льда, подымался холодный ветер. В окопах и щелях невозможно было усидеть от пронизывающей тело сырости. Но редевшие с каждым днем полки Тихонова позиций своих не сдавали. Тогда гитлеровцы перегруппировали свои силы и обходным маневром прорвались к Туапсинскому шоссе.
Положение защитников Туапсе значительно ухудшилось. С выходом на шоссе фашисты взяли под жесткий минометный обстрел селение Шаумян, лежащее на ближних подступах к Туапсе. Правда, этот глубокий прорыв таил в себе большую опасность и для гитлеровцев, так как в этом месте образовался очень сложный рисунок фронта: на фланге у противника осталась занятая нами высота 501, а в лесах, за спиной егерей, стали активно действовать отряды наших лазутчиков из окруженных батальонов.
Но гитлеровцы не придавали этому большого значения. Они были уверены в благополучном исходе операции — взятии Туапсе.
«Теперь открылся свободный путь, — писал Вебер, — для последнего, решающего удара по Туапсе. Командование посылает в наступление на горное селение Шаумян новые резервы. С противоположного берега реки (речь идет о реке Пшиш. — В. 3.) наступает наша вторая дивизия… В районе селения Шаумян сошлись наши егеря и стрелки горной дивизии, наступавшей с востока.
Туапсинская оборона прорвана. Падение города неизбежно. Это произойдет в ближайшие дни. Однако упорная битва в лесистых горах еще продолжается…»
Вспоминая кавказскую осень 1942 года, тяжелые, кровопролитные бои, все то, что совершили наши люди в предгорьях Кавказа, я как будто снова переживаю эти дни, вижу пылающие леса, шумные реки, по которым плывут трупы, спотыкающихся на камнях лошадей, угрюмых пленных; я слышу неумолчный грохот пушек, могучее горное эхо, треск ломающихся деревьев…
Сколько тягот перенесли наши воины под Новороссийском, под Крымской, у Горячего Ключа и Волчьих Ворот, под Туапсе и дальше, на перевалах, на Тереке.
Сколько несчастий приносила нам в те дни вода!..
В предгорьях мы мучились от жажды, обсасывали покрытые росой желуди и делили воду, как величайшую драгоценность, делили одной кружкой, чтобы каждому досталась совершенно одинаковая порция: ни больше ни меньше.
В долинах и ущельях все было пропитано водой: в землянках, как в банях, на полу лежали деревянные решетки, а с потолка и со стен днем и ночью сбегали струйки и звонко шлепались крупные капли; окопы, ходы сообщения, воронки от бомб и снарядов, каждая ложбинка, каждая ямка, в которой можно было укрыться от вражеских пуль, — все это было залито водой, и нашим солдатам приходилось часами лежать в воде, в лучшем случае подгребая под себя гальку или подмащивая хворост.
Конечно, у нас умели делать водостоки, дренажи, водосборные колодцы, умели вязать ореховые веники и укладывать их на бревенчатые перекрытия землянок, но всем этим некогда было заниматься в боях или приходилось заниматься очень мало. Поэтому сапоги у нас покрывались сизо-зеленой плесенью, шинели и портянки никогда не высыхали, винтовки ржавели, а хлеб превращался в клейкий комок теста…
Гитлеровские солдаты с трудом выдерживали такие условия, хотя за их спиной во всех направлениях проходили хорошие дороги и они могли подвозить себе все необходимое. Их письма в Германию были полны жалоб. В сентябре 1942 года ко мне попало письмо обер-фельдфебеля Георга Шустера (полевая почта 05601-С), который был под Туапсе и писал жене в Дюссельдорф:
«Мы находимся среди дремучих лесов Кавказа. Селений здесь очень мало. Тут идут тяжелые бои. Драться приходится за каждую тропу, буквально за каждый камень. Солдаты, которые были в России в прошлом году, говорят, что тогда было много легче, чем теперь…
Почти постоянно мы находимся в ближнем бою с противником. То-то будет радость, когда мы выберемся из этих дьявольских горных лесов! Нервы у всех нас истрепаны. И это понятно. Представь: тишина, а потом вдруг раздается ужасный грохот, изо всех лесных закоулков летят камни, вокруг свистят пули. Стрелки невидимы, их скрывает чаща леса. А у нас потери и снова потери…
Да, моя милая Хилли, горы хороши в мирное время, но на войне нет ничего хуже гор. В горах мы лишены танков и тяжелого вооружения. Тут пехотинец действует винтовкой и пулеметом и должен всего добиваться сам. Наши летчики помогают нам, но в этих лесистых горах противник надежно укрыт, и летчики ничего не видят…
Ах, дорогая Хилли, я мечтаю сейчас только о глотке воды! Один глоток, маленький глоточек воды, пусть даже грязной, даже зловонной! На этой отверженной богом высоте нас всех изнуряет смертельная жажда. Внизу, в долине, воды сколько угодно, даже больше чем нужно, но — увы! — там сидят русские солдаты, озлобленные и упрямые, как черти…»
Нашим бойцам приходилось намного труднее, чем фашистскому обер-фельдфебелю, и все-таки мне ни разу не пришлось услышать жалобы. С изумительной стойкостью переносили они нечеловеческие лишения, воля их с каждым днем закалялась все больше и больше, мужество не знало пределов. Даже самые слабые, самые нервные, подчиняясь отважным и сильным, заражались их энергией, стыдились малодушия.
В этом процессе духовной и физической закалки огромную роль сыграли коммунисты-политработники. Свято храня благородные традиции большевистской партии, являя прекрасный образец твердости и бесстрашия, они всюду были в первых рядах, сражались не щадя жизни. В самые отдаленные доты, в окопы и землянки, на высоты, в ущелья, в леса несли они слово партии, и это могучее слово поднимало людей на подвиг, вдохновляло их, укрепляло их дух, звало к победе. Коммунисты-фронтовики объединяли бойцов всех национальностей, воспитывали в людях отвагу, учили тому, как надо преодолевать непреодолимые, казалось бы, трудности…
Когда начинаешь вспоминать все, что нашим воинам довелось пережить в горах, слово «трудности» кажется тусклым, незначительным…
У нас не было дорог. Единственная рокадная дорога — Новороссийское шоссе — постоянно подвергалась массированным воздушным налетам противника. Когда начались дожди, эта дорога, разбитая машинами, стала разрушаться; ее засыпало во многих местах оползнями с гор, вызывавшими смещение дорожного полотна и деформацию ездовой поверхности. Тысячи людей трудились на шоссе днем и ночью, под палящими лучами солнца, под дождем и снегом, в грязи, они спасали своими кирками и лопатами жизнь многим бойцам, находившимся в лесистых горах. Потоки грузов беспрерывно шли по Новороссийскому шоссе.
Однако шоссе это находилось в зоне армейских тылов, то есть на расстоянии пятидесяти-семидесяти километров от переднего края, проходившего в горах. К переднему краю грузы нужно было доставлять через перевалы, большей частью по полному бездорожью, и это был неимоверно тяжелый труд.
Пока саперы и дорожники, пробуя просеки, строили жердевые дороги, перекидывали через овраги сотни мостов, расширяли тропы, бойцы на плечах носили ящики с боеприпасами, мешки с мукой и крупой. Там, где позволяла местность, шли караваны лошадей и ослов, кое-где даже проходили грузовики и обозные телеги, но на многие участки приходилось доставлять грузы на себе.
У нас не хватало поэтому хлеба, а когда мы получали муку, хлеб негде было выпекать, потому что в горах не было ни печей, ни месильных чанов.
Находясь в одной стрелковой дивизии, которая дралась в горах севернее Туапсе, я был свидетелем того, как сержант Егоров изобретал «полковую хлебопекарню». Он обжег большую бензиновую цистерну, вырезал в ней отверстие и поставил цистерну на сложенные двумя стенками камни; между камнями Егоров устроил топку, зажег дрова, заложил в цистерну круглые куски теста и вскоре, торжествующе усмехаясь, протянул нам румяный, с поджаристой корочкой, на диво вкусный хлеб.
«Е-1», как шутя назвали бойцы егоровскую печь-цистерну, буквально через неделю стала известной далеко за пределами дивизии, и скоро на всех высотах весело задымились самодельные печи, сооруженные из бензиновых бочек, цистерн, всяких железных сундуков и т. п. Наиболее изобретательные хлебопеки усовершенствовали «Е-1» каменной «рубашкой», которая долго держала тепло, стали придумывать всевозможные «вентиляторы», регулирующие температуру печей, ускорили выпечку хлеба. Одним словом, даже там, в лесной глухомани, был найден выход из трудного положения.
У нас не хватало, а кое-где и совсем не было свежих овощей. Появились случаи заболевания цингой. Тогда полки стали выделять команды по сбору диких ягод и фруктов: груш, яблок, алычи, шиповника, каштанов, орехов. Ловкие бойцы, рыская в непроходимой лесной чаще, добывали щавель, дикий чеснок и другие полезные травы. Все это шло в солдатский котел.
Лучшие наши снайперы позволяли себе в редкие часы отдыха побаловаться охотой на кабанов и коз. И, надо сказать, появление снайпера, нагруженного разделанной кабаньей тушей, всегда вызывало у бойцов неподдельный восторг. В этот день готовился наваристый, вкусный борщ, настоящее чудо солдатского поварского искусства. Правда, такие дни бывали не очень часто, потому что наши знаменитые снайперы — Вася Проскурин, Федор Петров, Алексей Прусов, Степанченко, Шашин, Чечеткин, Шапошников, Бычков и все другие — были заняты гораздо более опасной и важной охотой на фашистских офицеров.
У нас не хватало обмундирования и особенно обуви. Каменистые тропы в горах, колючие лесные кустарники, залитые водой долины и ущелья в течение месяца превращали солдатские ботинки в сплошную рвань. Бойцы подвязывали подметки сапог телефонным проводом. Каждую убитую или павшую от истощения лошадь немедленно обдирали и из кожи шили «чуни»; такие «чуни» особенно ценили разведчики — в них можно было неслышно подобраться к врагу, они были легкие, прочные и удобные…
Так приходилось воевать в предгорьях Западного Кавказа. И вот, несмотря на все лишения и тяготы, несмотря на все то, что, казалось бы, должно было подорвать у людей силу духа, войска Черноморской группы не только остановили врага по всей линии фронта, но и стали изматывать гитлеровцев беспрерывными контратаками, ночными вылазками и ловкими рейдами в тыл. И с каждым днем укреплялась в защитниках Кавказа горячая вера в победу, непоколебимая преданность Коммунистической партии, ибо все они знали, что партия приведет к победе, чувствовали руку партии во всех приказах и безгранично верили в могучую силу этой руки.
И вот, теперь, перелистывая свои походные дневники, я вижу, как ничтожно мало успел я тогда записать; но даже то, что я успел записать, поражает меня величием человеческих подвигов, и мне хочется назвать героев, тех, которых я видел и знал, и тех, которых я никогда не знал и никогда не узнаю…
Двадцать девятою октября, в самый разгар боев за Туапсе, командир взвода автоматчиков лейтенант Алексей Кошкин получил приказ: выбить фашистов из седловины между горами Семашхо и Два Брата. Эта поросшая густым лесом седловина была укреплена гитлеровцами со всех сторон, а обороняла ее самая отборная рота 500-го офицерского штрафного батальона.
500-й батальон состоял из отпетых людей, громил и головорезов. Фашистское командование бросало батальон на самые опасные и ответственные участки. Не случайно штрафников называли «смертниками» — опознавательным знаком 500-го батальона было изображение жертвенной чаши с кровавым пламенем.
Алексей Кошкин знал, с каким противником ему придется иметь дело. Лейтенант стал кропотливо готовиться к штурму седловины. Он поговорил с разведчиками, точно узнал силы противника, долго сидел над картой, беседовал с жителями селения Анастасиевка, расположенного близ горы Два Брата, потом сам вышел за селение и внимательно осмотрел местность.
Горы Семешхо и Два Брата высились километрах в десяти северо-восточнее станции Кривенковская. Они почти примыкали одна к другой, и разделяла их только узкая седловина, которую и должен был взять Кошкин. Слева обозначалась изжелта-серая вершина Семешхо, справа — более низкая и продолговатая, с двумя горбами, вершина горы Два Брата. Между ними, вся в лиловых тенях, лежала занятая фашистами седловина. Вершины гор тоже были заняты врагом; ударом по седловине наше командование решило разрезать вражескую группировку пополам и этим упредить ее наступление на Кривенковскую и Анастасиевку.
Вечером лейтенант Кошкин говорил с людьми. Он всматривался в лица бойцов и словно взвешивал: удастся или не удастся? И по непроницаемо спокойному лицу самого лейтенанта можно было видеть, что он уверен в успехе.
В ночь под тридцатое Кошкин повел людей к седловине. Бойцы шли по узкой тропе. Ночь была темная. Рядом с Кошкиным шли его друзья: замполитрука Шевченко, замполитрука Кобаладзе, пулеметчики Богданов и Шульга, автоматчики Данилов, Кобелюк, Черномаз, Куликов. За ними двигались остальные. К двум часам ночи они подошли к подножию гор и миновали боевое охранение. Слева и справа лениво перестреливались наши и вражеские пулеметчики.
Но вот бойцы головного охранения заметили впереди, километра за четыре, дымное зарево и языки пламени. Фашистские штрафники, пользуясь удобным направлением ветра, зажгли лес на юго-западных скатах высот, чтобы сделать эти скаты непроходимыми. Как видно, гитлеровцы ожидали штурма и решили обезопасить себя.
— Ну, что будем делать? — спросил Кобаладзе.
— Надо идти, — твердо ответил Кошкин.
— А пройдем?
— Надо пройти…
Взвод двинулся дальше. С каждым шагом дышать становилось труднее. Горьковатый дым тяжелым облаком медленно плыл навстречу, проникал в легкие, разъедал глаза.
— Бегом! — скомандовал Кошкин.
Темнота, торчащие всюду пни срубленных деревьев, разбросанные на пути камни и едкий дым почти не давали возможности одолевать крутой подъем. И все же бойцы, задыхаясь от дыма, закрывая нос и рот рукавами шинели, спотыкаясь и падая, бежали за лейтенантом и приближались к месту пожара.
Впереди засветились горящие деревья. Все было залито красноватым светом, в котором чернели гигантские стволы буков. Миновав полосу дыма, взвод Кошкина ворвался в зону пожара. Дышать стало невозможно, жар проникал в грудь. Бойцы легли на землю, но их тотчас же поднял хриплый властный голос лейтенанта Кошкина:
— Вперед!
Обжигаемые пламенем, люди кинулись за лейтенантом. А он бежал впереди, весь черный, в горящей шинели, откинув левую руку, в которой была стиснута большая противотанковая граната.
Еще пять долгих, невыносимо долгих минут. Взвод выбежал на поляну. Пожар остался позади. Впереди, шагах в сорока, темнели вражеские завалы. Еще две секунды люди успели пробежать без выстрелов. Но вот фашистские завалы загрохотали, вспыхнули пляшущими огнями пулеметных очередей. Люди приникли к земле. И опять их поднял хриплый крик лейтенанта Кошкина:
— За мной! Бей паразитов!
Люди кинулись через полосу вражеского огня и достигли наконец вражеских завалов. Начался рукопашный бой. Освещенные пламенем пожара, неукротимые в своей ярости бойцы бросали гранаты, кололи штыками, били фашистов прикладами, саперными лопатами, ногами, душили, стреляли. Над завалами стоял глухой шум, слышались стоны, скрежет и лязганье металла, отдельные выстрелы, треск ломающихся ветвей…
Через четверть часа все стихло. Седловина была взята. Между стволами поваленных деревьев лежали трупы. Вокруг белели размотанные бинты, клочья каких-то тряпок, обрывки газет. Где-то на поляне кричал тяжелораненый боец. В розовом свете зари темнели перевернутые, засыпанные листьями вражеские пулеметы.
Когда совсем рассвело, над седловиной появились пикирующие бомбардировщики и стали сбрасывать фугасные и зажигательные бомбы. По всему было видно, что гитлеровцы придают седловине первостепенное значение и предпримут отчаянные попытки вернуть ее.
Три дня и три ночи вражеские бомбардировщики засыпали седловину бомбами. Все на ней было изрыто, исковеркано, разнесено вдребезги. А на четвертые сутки офицеры-штрафники начали штурм седловины. Они шли с трех сторон, пьяные, в расстегнутых мундирах, без фуражек, с сигарами в зубах.
Расставив людей, лейтенант Кошкин стал ждать приближения фашистов и, когда они подошли на пятьдесят шагов, приказал открыть стрельбу. Штрафники четыре раза пытались прорваться сквозь огонь, но бойцы Кошкина встречали их гранатами, бросались в контратаки и каждый раз отбрасывали вниз…
На рассвете следующего дня гитлеровцы снова ринулись на штурм. Теперь их было значительно больше, и двигались они, соблюдая все меры предосторожности, прячась за стволами деревьев, проникая в воронки. Их атака поддерживалась частым минометным огнем.
В пятом часу утра положение Кошкина стало угрожающим. Завалы, осыпанные зажигательными пулями, дымились. Один за другим выбывали из строя бойцы. И Кошкин понял, что наступила минута, когда надо или смять наступающих врагов, разметать их ряды, или погибнуть. Командир понял и то, что именно он должен первым встать и кинуться в огонь, в дьявольский свист и грохот, чтобы за ним пошли его усталые, израненные люди.
Он вставил в автомат новый диск, рывком кинул свое тело вперед и, не оборачиваясь, закричал:
— За мной!
Он услышал, как за его спиной закричали бойцы, и тут же упал на колени, словно шагнул в кипящее огненное море: миной ему перерезало обе ноги. Лежа на левом боку, он стрелял короткими очередями и еще успел увидеть, что Шевченко и Кобаладзе ведут людей в контратаку, а здоровенный Черномаз бьет прикладом какого-то фашиста. Но вот группа штрафников кинулась на Кошкина с ножами. Двух он застрелил из автомата, остальные укрылись за камнем.
Он лежал, залитый кровью, с обожженным лицом, и, слабея, кричал ушедшим вперед бойцам:
— Бей гадов!
К Кошкину уже подбегали шесть гитлеровцев. Он подложил под себя противотанковую гранату и стал ждать. А когда гитлеровцы кинулись на него, собрав последние силы, он дернул рукоятку гранаты. Раздался оглушительный взрыв. Враги погибли вместе с Кошкиным. В шестом часу седловина была очищена от противника.
Я стоял у подножия дикого камня, на котором кто-то нацарапал штыком: «Лейтенант Алексей Кошкин 1918–1942…» Рядом со мной стояли Кобаладзе, Черномаз, Данилов, Богданов, Шульга. Они и рассказали мне о смерти своего командира, а я сообщил им, что Алексею Кошкину присвоено посмертно звание Героя Советского Союза…
Я поил коня в прозрачной речке. От потной шеи его шел пар, а с губ падали звонкие капли. Я был голоден и измучен. Услышав шум на тропе, обернулся.
Ко мне приближалась худая белая лошадь, запряженная в снарядную двуколку. Лошадью правил боец азербайджанец с забинтованной рукой, а в двуколке, бессильно откинувшись назад, сидел немолодой боец, до пояса закрытый брезентом.
Ему было лет пятьдесят или около этого. Он сидел в неудобной позе, вытянув поверх брезента желтые руки, на которых запеклась кровь. Его бледное лицо было спокойно, только синеватые губы, опушенные темными усами, дрожали, а в глубоко запавших глазах застыло выражение нечеловеческой боли.
— Откуда вы? — спросил я.
Боец разомкнул сжатые губы и хрипло ответил:
— Четыреста три и три…
Я знал, что на высоте 403,3, севернее Туапсе, с утра шел ожесточенный бой, и мне очень хотелось расспросить, как там идут дела. Но азербайджанец плохо понимал по-русски, а сидевшего в двуколке бойца я не хотел беспокоить, так как видел, что он тяжело ранен.
К моему удивлению, раненый шевельнул рукой, и глядя на меня, сказал:
— Может, у вас будет закурить?
Я поспешно вытащил портсигар, дал ему папироску и поднес зажигалку. Раненый жадно затянулся и, морщась от боли, заговорил.
— Там, кажись, уже кончается дело, — сказал он, — наши пошли вперед. А то, проклятый, никак не давал двигаться. Там у него дзот один был, прямо как заколдованный… строчит и строчит… Кажись, больше десятка уложил. Сержант приказал мне уничтожить этот дзот. Дополз я до него, кинул гранату, он вроде замолк, потом, гляжу, обратно застрочил… Я в него еще одну гранату, потом сразу две… А он, проклятый, разворочен совсем — и все-таки строчит… Гранат у меня больше не было, а наши, гляжу, недалеко, рукой подать… Ну, я глаза закрыл и кинулся на него…
— На кого? — спрашиваю я.
— На пулемет…
— Ну и что?
— Замолчал.
— А вы?
— А меня поранило. Как закрыл я его, слышу — рвануло меня по ногам, вроде как бревном ударило… и в нутро, кажись, попало… потому — в нутре горит…
Ездовой напоил лошадь, взнуздал ее, уселся на угол двуколки и поехал. Я долго следил, как подпрыгивала двуколка на каменистой дороге. Потом пришпорил коня, догнал и, волнуясь, спросил раненого:
— Как вас зовут? Я забыл спросить об этом… и скажите откуда вы?
Раненый спокойно ответил:
— Я сам из города Азова. Фамилия моя Кондратьев, а имя и отчество Леонтий Васильевич…
Через месяц, уже находясь на другом участке Закавказского фронта, я узнал, что рядовому Леонтию Васильевичу Кондратьеву, совершившему высший подвиг самопожертвования, присвоено звание Героя Советского Союза.
С тех пор прошло много дней, но в минуты, когда меня одолевает усталость и мне кажется, что я ослабел, я всегда вспоминаю холодный осенний день в лесу, двуколку и этого немолодого, раненного в живот и в ноги солдата. Я вижу его спокойное бледное лицо, засаленный воротник шинели, руки в запекшейся крови, слышу его короткий рассказ о самом большом и высоком, что только может совершить человек. И, вспомнив Леонтия Кондратьева, я становлюсь сильнее, и мне кажется, что я тоже могу совершить что-то очень большое и важное, что во мне тоже должна быть частица той же неторопливой, спокойной, хорошей силы, как в этом советском солдате, которого я встретил 30 ноября 1942 года…
Да, в советском солдате живет сила, которой дивится весь мир. Эта исполинская сила проявилась и тут, в предгорьях Кавказа, когда гитлеровские войска прорвали нашу оборону и приблизились к Туапсе. Уже фашистские газеты кричали о скорой победе, уже вражеские дивизии приблизились к городу, уже казалось — падение города неминуемо. И все-таки город спасли.
Его спасли советские солдаты — русские, украинцы, грузины, армяне — все, кто в эту осень оборонял туапсинский горный рубеж. Многие из них отдали свою жизнь и умерли так, как умирают настоящие солдаты, — глядя вперед…
И вот я перелистываю свои походные дневники-блокноты, тетради, клочки бумаги, вспоминаю фамилии, лица, отдельные участки обороны, памятные даты и памятные места, — и мне все кажется, что я никогда не закончу перечень человеческих подвигов, что моей жизни не хватит на то, чтобы написать летопись нашей солдатской славы…
В районе гор Гунай и Гейман сражалось стрелковое соединение Героя Советского Союза генерал-майора Провалова. Полки этого соединения были укомплектованы в Донбассе и большей частью состояли из донецких шахтеров-добровольцев. Это были степенные, крепкие, молчаливые люди с сильными рабочими руками, привыкшие к труду и к постоянной опасности. Среди них было много пожилых, солидных, всеми уважаемых мастеров угледобычи, отцов многочисленных семейств, неторопливых, хладнокровных людей; много было и комсомольской молодежи, порывистых, ладно скроенных юношей, готовых по первому приказу своего генерала кинуться в огонь и в воду.
Соединение дралось на широком фронте, протяжением более двадцати километров, и отбивало по пять-шесть атак за сутки. Самые тяжелые дни пришлось ему пережить во второй половине сентября, когда гитлеровцы, ведя в продолжение недели кровопролитные бои, прорвали наш правый фланг, овладели горами Оплепен, Гунай, Гейман и вышли в долину реки Гунайки. Разбросанные по скатам гор, в ущельях и оврагах, подразделения героически сдерживали натиск вдесятеро превосходящих сил противника.
В эти дни капитан-артиллерист, с которым я познакомился на огневых позициях, рассказал мне о подвиге ездового Степана Суворова.
— Три дня тому назад, — сказал капитан, — у нас погиб ездовой четвертой батареи Степан Суворов, и погиб он так, что мы о нем никогда не забудем. Геройски погиб.
Капитан показал мне выцветшую фотографию рабочего-подростка в стеганке и помятой кепке. Фотография была потерта на углах и сломана в двух местах.
— Вот он, Степан Суворов, — вздохнул капитан. — Мы шутя его называли «фельдмаршалом». Так вот, этот самый «фельдмаршал», заменив убитого пулеметчика, один прикрывал отход нашей батареи, один — понимаете, один — держал гитлеровцев свыше четырех часов, пока мы вручную перетаскивали орудия на новые позиции. У него на теле не оставалось ни одного живого места, весь он был буквально иссечен пулями и осколками мин и гранат. Мы нашли его мертвым, привалившимся к пулемету, и не могли понять: как в нем столько часов держалась жизнь, откуда появилась сила, когда успел закалить свой дух этот паренек…
Капитан помолчал, спрятал фотографию и промолвил задумчиво:
— Сегодня нам сообщили из штаба армии, что Степан Суворов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. У нас много таких, как Степан Суворов…
Да, здесь их было много. Шестнадцать автоматчиков старшего лейтенанта Бондаренко, которые обороняли дорогу и уничтожили сотню фашистов; разведчики лейтенанта Бирюкова, которые пробирались по тайным лесным тропам в тыл врага, устраивали засады, рвали связь, совершали налеты на фашистские штабы; снайпер старший сержант Лютый, истребивший своими меткими пулями не один десяток гитлеровцев; лейтенант коммунист Мосин, тридцать два раза водивший в атаку своих солдат и павший на поле боя; мастера-оружейники Деркач, Рыжов, Копоть, которые ремонтировали пулеметы прямо под огнем противника; связисты Кавешников, Кречин, Леонов, Орлов, которые днем и ночью, под дождем и снегом пробирались в самые недоступные места, восстанавливая связь; инженер Голобородько, который со своими бесстрашными саперами под самым носом врага строил искусные препятствия и прокладывал пехоте дорогу в проволочных заграждениях; начпрод Вакс, подвозивший горячую пищу в такие места, куда, казалось бы, птице не долететь; отважный командир батальона капитан — орденоносец Пятаков, который стал непревзойденным мастером смелых лесных засад, горных обходов и охватов и водил свой батальон на самые неприступные позиции гитлеровцев, — таковы были донецкие герои-шахтеры генерала Провалова, оборонявшие предгорья Кавказа.
Мужественно дрались шахтеры с врагом, и ходила среди них ими же сочиненная песня:
Как прощались с женами, надевали ранцы,
Оставляли врубовки, брали автомат, —
Расскажи, товарищ, про луганцев,
Про суровых воинов, про лихих ребят.
Нашей клятвы Родине нерушимо слово,
Закалили местью мы сердца свои,
Храбрость Бондаренко и Пяткова
Нас зовет на новые, грозные бои.
От родного Дона до кавказских склонов
Имена героев всех не перечесть.
Высоко красуются знамена —
Боевая слава, воинская честь.
Назад ни шагу! — таков приказ.
Станет могилой врагу Кавказ.
За нами море не отойдем.
Врагу на горе вперед пойдем…
Генерал-полковник фон Клейст был очень недоволен действиями генерала Руоффа. Вместо успешного захвата Туапсе и выхода к морю группа Руоффа застряла в лесистых горах и топталась на одном месте. Без поддержки танков, которые не могли действовать среди гор и непроходимых лесов, гитлеровские дивизии наполовину утеряли свою боеспособность.
Правда, «ударную группу» активно поддерживала авиация, однако фашистские летчики жаловались, что им приходится действовать «вслепую, так как противник скрыт густыми лесами и поэтому недоступен для воздействия с воздуха».
Вынужденная отказаться от массированного удара, группа Руоффа перешла к медленному «прогрызанию» нашей обороны на отдельных участках и направлениях, как правило, расположенных вдоль горных дорог и троп. План Клейста распался на выполнение частных тактических задач: захват господствующих высот, узлов и дорог, бои в горных селениях, перехват коммуникаций. Вне дорог могли действовать только мелкие группы автоматчиков, преимущественно альпийских стрелков или егерей легко-горных дивизий. Эти группы использовались с целью выхода на фланги и просачивания в стыки.
Гитлеровцы сразу потеряли в предгорьях сплошной фронт и перешли к методическим скачкам, напоминавшим действие разрозненных поршней. Дивизии, против желания командования, дробились во время операций на роты и батальоны, так как большие массы войск не имели никакой возможности развернуться в горах.
В некоторых местах (гора Семашхо) врагам удалось приблизиться к Туапсе на очень короткое расстояние (до двадцати пяти километров), однако, как они не рвались отсюда к городу, их атаки успеха не имели.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
На Берлинском направлении
На Берлинском направлении Из Румынии 9-я гвардейская авиадивизия вновь возвратилась на Украину. Сначала все полки собрались на аэродроме Старо-Константиновка, а затем 100-й гвардейский полк перелетел на аэродром Михайловка под Бродами, расположенный всего в пяти
На Сунженском направлении
На Сунженском направлении Штаб дивизии находился в здании какого-то учебного заведения. Но своим составом дивизия едва могла сравниться с полком. А после того, как при входе в Грозный по ней с математической точностью отработала наша авиация, стала и того меньше.
…В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
…В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ Закрытые грузовики. Мы сидим на удобных скамьях. Охрана слабенькая два-три гестаповца. Да и те, поставив автоматы в угол, посасывают трубки… дремлют.Не выпрыгнуть ли? Выпрыгнуть совсем нетрудно. Особенно в лесу. Пока остановят машину, пока
На берлинском направлении
На берлинском направлении Вскоре после возвращения советской делегации из Ялты в Москву в Ставке Верховного Главнокомандующего рассматривались предложения генштаба о проведении берлинской операции. Сталин утвердил их и приказал дать фронтам необходимые указания о
Май на Мурманском направлении
Май на Мурманском направлении IЭти строки пишутся в маленькой землянке, построенной на склоне горы, среди гранитных скал и мелкого, очень редкого лесочка. Сейчас ночь, но пишешь при дневном свете. Землянка обита внутри фанерой. Горит железная печка, в которую надо
НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ Из резерва — в бой. — Командующий 2-й воздушной армией С. А. Красовский. — Операция «Румянцев». — Благодарность пехотинцев. — Пункт управления штурмовиками. — В наступлении не отставать. — Черный день корпуса. — Полководец
На главном направлении
На главном направлении В конце июня Красная Армия начала наступление за освобождение Белоруссии. Долгих три года многострадальный белорусский народ жил под фашистским игом, неисчислимы бедствия, причиненные республике войной.Отремонтировав поврежденные при работе в
2. НА БЕЛГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
2. НА БЕЛГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ После обращения председателя Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) Иосипа Броз Тито к Советскому правительству с просьбой о вводе на территорию страны Красной Армии Ставка Верховного Главнокомандования решила использовать
На масельгском направлении
На масельгском направлении В этот тихий декабрьский вечер передовая, уставшая от дневной перестрелки, отдыхала. И лишь осветительные ракеты, взлетавшие одна за другой — то с нашей стороны, то с позиций немцев, держали утомленных бойцов в напряжении: казалось, в любой
НА РЖЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
НА РЖЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 29 января, иначе говоря, на четвертый день, как Охлопков из своей винтовки с оптикой уничтожил наблюдателя и снайпера, очень обрадовав этим Михаила Корытова, 1243-й полк при поддержке трех танков, нескольких пикировщиков «ПО-2» снова начал
На Киевском направлении
На Киевском направлении Киевская наступательная операция проводилась войсками 1-го Украинского фронта в период с 3 по 12 ноября 1943 года силами двух армий.38-я и 3-я гвардейская танковая армии, сосредоточенные на ограниченном по размерам лютежском плацдарме севернее Киева,
На Венском направлении
На Венском направлении После взятия Будапешта и разгрома окруженной здесь группировки немецко-фашистских войск наш фронт начал готовиться к наступлению на Вену. Но враг был еще силен; он не только упорно сопротивлялся, но даже сделал отчаянную попытку перехватить у нас
В направлении Цолликона
В направлении Цолликона Как и подозревала ревнивая Ольга Александровна, всё это время, не двенадцать последних лет, а четверть века, богатое, благотворное, тоже почти исключительно эпистолярное общение «двух Иванов» — особое культурное и духовное пространство между
На юго-западном направлении
На юго-западном направлении 10 января 1920 года на базе Южного фронта был создан Юго-Западный (в составе 12, 13 и 14?й армий) под командованием А. И. Егорова.Главком ставил перед фронтом следующие задачи: окончательную ликвидацию деникинских частей на Правобережной Украине,
На южном направлении
На южном направлении Видавший виды транспортный Ли-2, стартовав из-под Воронежа, неторопливо, насколько позволяли не очень-то мощные моторы, шел маршрутом на юг. Внутри, на металлических скамейках, расположились офицеры 4-го штурмового авиаполка, эскадрильи которого,