Глава VI. Характер и взгляды Пржевальского
Глава VI. Характер и взгляды Пржевальского
Любовь к странничеству. – Отзывы о пустыне. – Ненависть к цивилизации и городской жизни. – Мизантропические взгляды. – Взгляды на женщин. – Характер. – Отношения к спутникам и близким людям. – Щедрость. – Недостатки характера.
Самая выдающаяся черта в характере Пржевальского – любовь к страннической жизни. Он был закоренелым бродягой, для которого оседлая жизнь – каторга. Никакие опасности, труды, лишения не могли убить в нем охоты к путешествиям: напротив, она росла и развивалась, превращаясь в почти болезненную страсть. Он с ужасом думал о старости, которая заставит его сидеть дома, и не раз выражал желание умереть в пустыне, в походе. «Прекрасная мати пустыня» манила его с неотразимой силой, и в отзывах его об Азии звучит то же чувство, которое отразилось в песне раскольника-бегуна или удалого молодца, уходящего от людей в чистое поле и темный лес…
«Грустное, тоскливое чувство овладевает мною всякий раз, как пройдут первые порывы радости по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-нибудь незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях действительно имеется исключительное благо – свобода, правда, дикая, но зато ничем не стесняемая, почти абсолютная. Путешественник становится там цивилизованным дикарем и пользуется лучшими сторонами крайних стадий человеческого развития: простотой и широким привольем жизни дикой, наукой и знанием жизни цивилизованной. Притом самое дело путешествия для человека, искренне ему преданного, представляет величайшую заманчивость – ежедневной сменой впечатлений, обилием новизны, сознанием пользы для науки. Трудности же физические, раз они миновали, легко забываются, и только еще сильнее оттеняют в воспоминании радостные минуты удач и счастья.
Вот почему истинному путешественнику невозможно забыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить вновь променять удобства и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь».
Немного найдется людей, так всецело, совершенно, без остатка поглощенных своим делом, как Пржевальский. Путешествие было его стихией. Здоровье его, ослабевавшее при оседлой жизни, поправлялось и крепло в пустыне; любовь к независимости и свободе находили полное удовлетворение в экспедиционной жизни; страстный охотник и натуралист, он не мог и желать большего раздолья, более богатого поприща для наблюдений; наконец стремление к полезной широкой деятельности удовлетворялось сознанием великих и плодотворных результатов, приносимых его экспедициями. О нем нельзя даже сказать, что он любил путешествие: разве рыба любит воду? она просто не может жить без нее…
Это стремление к страннической жизни в значительной степени объясняет воззрения Пржевальского.
Казалось бы, человек, так много поработавший для цивилизации, должен был ценить ее блага. Но Пржевальский относился к ним очень скептически.
«В блага цивилизации не особенно верю. Эти блага ведь сводятся к тому, что горькие пилюли нашего существования преподносятся в капсюлях и под различными соусами, не говоря уже про уничтожение всех иллюзий, которыми только и красна жизнь».
«В Азии я с берданкой в руке гораздо более гарантирован от всяких гадостей, оскорблений и обмана, чем в городах Европейской России. По крайней мере в Азии знаешь, кто враг, а в городах всякие гадости делаются из-за угла. Вы идете, например, по улице, и всякий может оскорбить вас, если при этом нет свидетелей. Воровства в пустынях гораздо менее чем в городах Европы».
И чем более росла его привязанность к пустыне, тем сильнее разгоралась ненависть к цивилизации. Под конец он не мог говорить без отвращения об «извращенной» жизни цивилизованного общества.
«Не один раз, сидя в застегнутом мундире в салоне какого-нибудь вельможи, я вспоминал с сожалением о своей свободной жизни в пустыне с товарищами-офицерами и казаками. Там кирпичный чай и баранина пились и елись с большим аппетитом, нежели здешние заморские вина и французские блюда; там была свобода, здесь позолоченная неволя; здесь все по форме, все по мерке; нет ни простоты, ни свободы, ни воздуха. Каменные тюрьмы, называемые домами; изуродованная жизнь – жизнью цивилизованной, мерзость нравственная – тактом житейским называемая; продажность, бессердечие, беспечность, разврат – словом, все гадкие инстинкты человека, правда, изукрашенные тем или другим способом, фигурируют и служат главным двигателем во всех слоях общества от низшего до высшего. Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душою и сердцем. Нет, видно, никогда не привыкнуть вольной птице к тесной клетке; никогда и мне не сродниться с искусственными условиями цивилизованной, вернее, изуродованной, жизни».
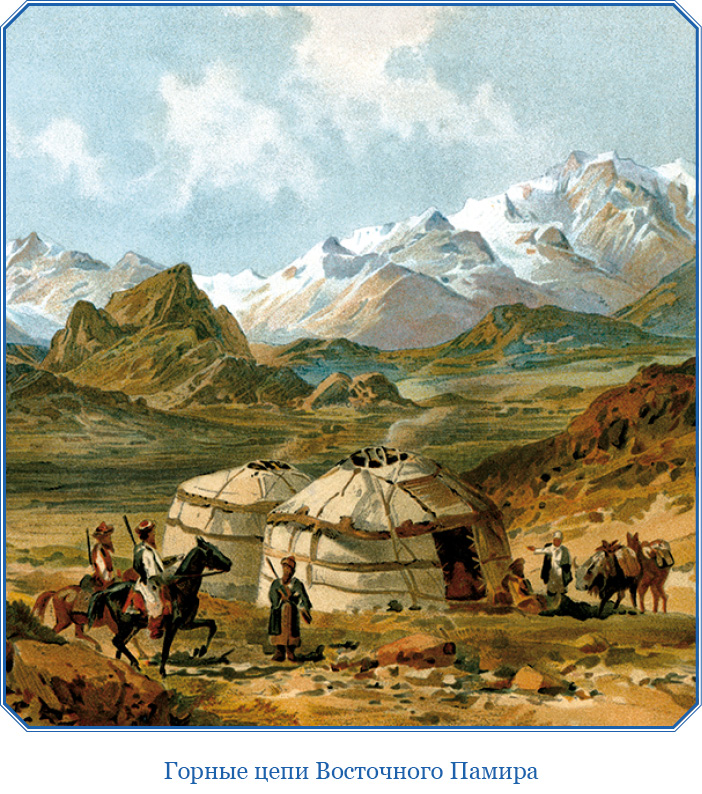
А между тем Пржевальскому нельзя было пожаловаться на несправедливость цивилизованного общества. Заслуги его были оценены быстро и по достоинству. С первой же экспедиции он был признан главой русских путешественников. Правительство, ученые, общественность с замечательным единодушием старались выразить ему свое восхищение. Отношение западных ученых было не менее лестно – книги его переводились на иностранные языки и вызывали восторженные отзывы; немцы сравнивали его с Гумбольдтом; англичане устами Гукера отвели ему место выше Стэнли и Ливингстона; ученые учреждения осыпали его наградами. Таким образом, он на собственном примере мог бы убедиться, что «человеку с душою и сердцем» в нашем обществе можно жить и работать.
Но скучно орлу и в золотой клетке. В рамках цивилизованного общества он чувствовал себя как рыба на берегу; мудрено ли, что оно казалось ему отвратительным? И в этом отношении он напоминает «странника» с его проклятиями «суетному житию» и «прелестному злому миру».
* * *
Питая отвращение к оседлой жизни вообще, Пржевальский в особенности ненавидел ее высшее проявление – город. Еще в детские годы, живя в Смоленске, он всячески старался удрать за город и побродить по лесам и полям. Впоследствии, в промежутках между путешествиями, ему приходилось подолгу живать в Петербурге. Тут он чувствовал себя несчастным человеком во всех отношениях. Его железный организм, шутя переносивший самые каторжные условия страннической жизни, ослабевал в городской духоте и тесноте: тут привязывались к нему головные боли, кашель, приливы крови, обмороки. Суматоха и вечное мельканье, необходимость стесняться и подтягиваться раздражали и угнетали его. «Общая характеристика петербургской жизни, – говорил он, – на грош дела, на рубль суматохи».
«Ну уж спасибо за такую жизнь; не променяю я ни на что в мире свою золотую волю. Черт их дери – все эти богатства, они принесут мне не счастье, а тяжелую неволю. Не утерплю сидеть в Питере. Вольную птицу в клетке не удержишь».
«Ты не можешь вообразить, до чего отвратительно мне жить теперь в этой проклятой тюрьме (Петербурге), и, как назло, погода стоит отличная. Как вы, черти, я думаю, вкусно теперь стреляете вальдшнепов: никто не мешает» (Пыльцову 20 мая 1875 года).
Принужденный волей-неволей проживать по нескольку лет в России, он, как мы уже видели, старался устроить себе жилье, хоть сколько-нибудь напоминающее азиатские дебри. Слобода нравилась ему в особенности тем, что находится в 80 верстах от железной дороги, окружена борами и болотами, а в распутицу по целым месяцам отрезана от мира, так что приходилось сидеть без газет, без писем, даже без провизии. «Если к Слободе проведут железную дорогу, – говорил он, – непременно продам ее и не куплю другого имения в Европейской России, а поселюсь в Азии».
Но и в этом медвежьем углу он не мог усидеть долго, тем более, что окружающая жизнь так же мало нравилась ему, как и петербургская. Вообще, нападая на цивилизацию, он отнюдь не питал пристрастия к дикарям или простонародью. Вот, например, его общий отзыв об Азии: «Для успеха далекого и рискованного путешествия в Азию необходимы три проводника: деньги, винтовка и нагайка. Деньги, потому что местный люд настолько корыстолюбив, что не задумается продать отца родного; винтовка – как лучшая гарантия личной безопасности, тем более при крайней трусости туземцев, многие сотни которых разбегутся от десятка хорошо вооруженных европейцев; наконец нагайка также необходима, потому что местное население, веками воспитанное в диком рабстве, признает и ценит лишь грубую, осязательную силу».
Наилучшие отзывы с его стороны заслужили монголы, имеющие, впрочем, свои недостатки: «ограниченные умственные способности, ленивый и апатичный склад характера, трусость и ханжество». «Притом и у них, как при сложном строе цивилизованного быта, в практической жизни обыкновенно выигрывает нравственно худший человек. Там, как и у нас, прогрессируют порок и проходимство в ущерб добрых сердечных нравственных качеств».
В сущности он понимал превосходство европейца над дикарем и сам не раз восхвалял «могучую нравственную силу европейца сравнительно с растленной природою азиата». Но это в Азии, а попадая в Европу и задыхаясь в условиях цивилизованной жизни, он начинает клясть позолоченную неволю и превозносить несуществующие добродетели первобытного человека.
Отзывы его о крестьянах не менее резки: «В нашей здешней жизни (в Слободе) мало утешительного. Простой народ развращен вконец; пьянство и мошенничество – нормальное состояние нравственности; честность и трезвость – редкие исключения».
«Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи: с каждым днем все хуже и хуже. К чему только это приведет?»

Вообще, если принимать за чистую монету его отзывы о людях, то можно бы счесть его за отчаянного мизантропа. Всех-то он разносил! Общество офицеров и юнкеров, окружавшее его в молодости, – картежники и пьяницы, Амур – «помойная яма», китайцы в Пекине – мошенники, а европейцы – «отъявленные негодяи», вся Азия – «гниль», наше время – «огульно развратное», цивилизованное общество – мерзость, да и мужик – «развращен вконец», словом: «весь город мошенник, один прокурор порядочный человек, да и тот, если сказать правду, свинья!..»
Пуще всего не любил он женщин, называл их фантазерками и судашницами, которые только и занимаются сплетнями; и положительно бегал от них. Живя в Николаевске-на-Амуре, он получил приглашение давать уроки приемной дочери одного из своих сослуживцев, но отказался и удовольствовался тем, что подарил ей свой курс географии с грубой надписью: «долби, пока не выдолбишь». «Моя профессия не позволяет мне жениться. Я уйду в экспедицию, а жена будет плакать; брать же с собою бабье я не могу. Когда кончу последнюю экспедицию, буду жить в деревне, охотиться, ловить рыбу и разрабатывать мои коллекции. Со мною будут жить мои старые солдаты, которые мне преданы не менее, чем была бы предана законная жена».
* * *
Разумеется, нельзя придавать серьезного значения этим пессимистическим взглядам. Они являлись результатом его сангвинического, пылкого характера: замечая дурные стороны той или иной среды, он, не долго думая, разносил ее вдребезги. Размышлять же и разбираться в сложных явлениях жизни, взвешивать pro и contra, отвевать зерно от мякины – не считал нужным, частью вследствие самоуверенности, свойственной сильным людям, частью по непривычке к чисто логическому, отвлеченному мышлению, а главное потому, что и не нужно было ему разбираться в той жизни, от которой он бежал. Бродяге всегда противен оседлый быт. Пустыня, безграничный простор, охота, жизнь, полная приключений и опасностей – вот стихия, в которой Пржевальскому дышалось легко и привольно; попадая в другую обстановку, он задыхался и не спрашивал себя, она ли, эта обстановка, так дурна, как ему кажется, или он сам не подходит к ней.
В сущности же, невоздержный язык и резкие отзывы о людях не мешали ему быть истинно добрым, приветливым, гуманным и постоянным в привязанностях человеком. Мы уже видели, как он относился к юнкерам в Варшавском училище. Отношения его к своим спутникам не менее замечательны. Никогда он не давал им поблажки, дисциплина в его отрядах царствовала неумолимая, – и однако умел же он возбуждать в них беззаветную преданность и усердие «не токмо за страх, но и за совесть». Правда, это напоминает несколько слова солдатской песни о «командире-хвате»: «Он нас не печалит, он нас не гнетет; он за дело хвалит и за дело бьет», – но в то же время свидетельствует о гуманном и справедливом характере. Сношения его со спутниками не прекращались с окончанием экспедиции. Он и потом вел с ними переписку, заботился о них, помогал им деньгами и советами, старался вывести в люди, входил в мельчайшие подробности их жизни.
Ягунова (спутника по Уссурийскому путешествию) он учил географии и истории, поместил в Варшавское юнкерское училище, хлопотал об его успехах; Эклона готовил к экзамену на свой счет и так далее. Письма его к спутникам дышат отеческой нежностью. Вот, например, письмо к Эклону: «Карточек ты делай целую дюжину, если хороши будут. Пожертвуй 5 рублей; после 2 февраля я тебе пришлю денег, а если тебе они нужны, то могу сделать это и раньше. Вообще, ты можешь свободно тратить рублей 20 в месяц и не отказывать себе и в усладах. Погода в Питере подлая, хотя и теплая; в Бресте же действительно скоро наступит весна; в хорошие дни ходи гулять, смотри как природа просыпается после зимы. Вчера получил от Бильдерлинга, хозяина маленькой винтовки, письмо: он дарит мне это ружье, а я передаю его тебе по обещанию. Если ты хочешь шить тонкое платье, то закажи его и напиши мне, в таком случае я вышлю тебе деньги около 10 февраля или на масленице. На масленице непременно кушай блины или польские пончики».
«Жизнь самостоятельная в полку, – писал он в другом письме, – оказала на тебя уже то влияние, что ты сделался в значительной степени moncher’ом. Коляски, рысаки, обширные знакомства с дамами полусвета – все это, увеличиваясь прогрессивно, может привести если не к печальному, то во всяком случае к нежелательному концу. Сделаешься ты окончательно армейским ловеласом и поведешь жизнь пустую, бесполезную. Пропадет любовь к природе, к охоте, ко всякому труду. Не думай, что в такой омут попасть очень трудно; напротив, очень легко, даже незаметно, понемногу. А ты уже сделал несколько шагов в эту сторону, и если не опомнишься, то можешь окончательно направиться по этой дорожке…
«Во имя нашей дружбы и моей искренней любви к тебе прошу перестать жить таким образом. Учись, занимайся, читай – старайся наверстать хоть сколько-нибудь потерянное в твоем образовании. Для тебя еще вся жизнь впереди – не порти и не отравляй ее в самом начале. Где бы ты ни был – везде скромность и труд будут оценены, конечно, не товарищами-шалопаями. Я тебя вывел на путь: тяжело мне будет видеть, если ты пойдешь иной дорогой… Я не говорю, чтобы ты совершенно отказался от удовольствий, но стою на том, чтобы эти удовольствия не сделались окончательной целью твоей жизни».
Любящая натура, которая так ярко отражается в этих письмах, проявлялась и во множестве мелочей, свидетельствующих о его привязанности к близким лицам. Снаряжаясь в экспедицию где-нибудь в Кяхте или Кульдже, заваленный по горло хлопотами, он находил время посылать им подарки, «услады» и тому подобное.
Не имея собственных детей, он привязался к одному мальчику-сироте, сыну соседа по имению, заботился о нем, как отец о сыне, скорбел за каждую плохую отметку, ездил сам в училище к директору, брал мальчика к себе на лето, доставлял ему всевозможные удовольствия, водил с собою на охоту; но так же усердно хлопотал – по-своему – о его моральном воспитании и поручая ребенка вниманию одного из своих знакомых перед отъездом в экспедицию, писал ему между прочим: «в случае же лени в науках, а тем паче невыдержания экзамена, усердно прошу драть и драть».
* * *
Избегая шумной общественной жизни, Пржевальский, однако, не любил полного одиночества. Кружок близких, преданных ему лиц, признававших его господство и подчинявшихся его авторитету, был почти необходимостью для него, особенно в минуты отдыха, которому он предавался с таким же увлечением, как и работе. «Под отдыхом он разумел время полного отрешения от всякой книжной мудрости, и даже от газет, и в это время обильная еда до четырех раз в день, разные лакомства, которые он называл жизненными усладами, состоявшие из ланинских напитков, водянок, фруктовых квасов, наливок, всевозможных фруктов и конфет в невероятно большом количестве» чередовались с охотой, рыбной ловлей, прогулками и пр.
«Запевалой всех начинаний, охот, поездок в лес с самоваром, путешествий на сенокос, устройства фейерверков, хождения на пасеку за медом, устройства рыбной ловли, купаний, обливаний, шутливых декламаций в стихах, им же сочиненных, шутливых разговоров на разные темы – был Пржевальский».
В отношении обстановки и образа жизни был он очень неприхотлив; роскоши не любил, рысаки, бобровые шинели и прочее внушали ему отвращение. Привычка много есть и любовь к «усладам» были, кажется, единственными излишествами, которые он себе позволял.
В начале своей карьеры он хлопотал о деньгах, добывая их даже карточной игрой. Но целью этих хлопот было путешествие, а не нажива. Первая азиатская экспедиция была им совершена наполовину из собственных средств.
Но, обеспечив себе возможность дальнейших экспедиций и спокойной скромной жизни в минуты отдыха, в промежутках между путешествиями, – он перестал хлопотать о богатстве.
Свои великолепные коллекции он подарил Академии Наук; значительные суммы, выручаемые за лекции, жертвовал всегда на благотворительные цели; выдавал пособия и пенсии матери, дяде, няньке и пр. – вообще рука его не оскудевала.
Недостатки его характера – вспыльчивость, известная доза нетерпимости и деспотизма, вследствие чего человеку независимому было бы трудно иметь с ним дело – свойственны большинству людей сильных, как бы самой природою предназначенных к господству над другими. Суровая школа, которую он прошел, упорная борьба, которую ему пришлось выдержать, грубая, пьяная среда, в которой провел он свою молодость, – разумеется, могли только укрепить и усилить эти недостатки.
«Сильные физические побуждения», то есть зуботычина, нагайка, а при случае и винтовка, игравшие такую видную роль в путешествиях, вызывали иногда упреки по его адресу. Но он прибегал к ним только в крайнем случае и не вследствие жестокости, а потому, что успех дела, которому посвятил себя так всецело и беззаветно, ради которого принял столько трудов, лишений и опасностей – зависел, по его глубокому убеждению, от таких мер. Почти все знаменитые путешественники подвергались упрекам в жестокости, и нужно еще доказать, что экспедиция на протяжении нескольких тысяч верст, среди враждебного, подозрительного, часто и прямо разбойничьего населения, может быть совершена, если – по выражению Пржевальского – маленькая кучка путешественников не уподобится ощетинившемуся ежу, который может наколоть лапы, и большому зверю.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава VI. Характер и взгляды Пржевальского
Глава VI. Характер и взгляды Пржевальского Любовь к странничеству. – Отзывы о пустыне. – Ненависть к цивилизации и городской жизни. – Мизантропические взгляды. – Взгляды на женщин. – Характер. – Отношения к спутникам и близким людям. – Щедрость. – Недостатки
Глава VII. Последние дни и кончина Пржевальского
Глава VII. Последние дни и кончина Пржевальского Жизнь по возвращении из четвертого путешествия. – Начало болезни. – Медаль Академии. – Выставка коллекции. – Сборы в пятое путешествие. – Уныние и упадок духа. – Болезнь и смерть. – Заключение. По возвращении из
«Век драконов» и книги Пржевальского
«Век драконов» и книги Пржевальского Когда человек ищет, нужные книги сами идут к нему в руки.В лавке, где продавались дешёвые издания, Ваня разглядел тоненькую десятикопеечную книжицу с завораживающим названием «Век драконов».[9] Подзаголовок гласил: «Моё знакомство с
Глава IV. Философские взгляды
Глава IV. Философские взгляды илософская и общественно-политическая мысль Молдавии конца XVII — начала XVIII в. развивалась в тесной связи с теми (пусть и небольшими) успехами, которые были достигнуты в сфере экономической и культурной жизни страны, с одной стороны, и
Глава V. Общественно-политические взгляды
Глава V. Общественно-политические взгляды изнь и деятельность Н. Милеску Спафария проходила, как уже отмечалось, в исключительно тяжелый для Молдавии период, когда довлевший над ней гнет военно-феодальной Османской империи значительно усилился.Иноземные завоеватели и
Глава III. Философские взгляды
Глава III. Философские взгляды истории философской и общественной мысли Азербайджана М.-Ф. Ахундов открыл новую страницу. С его именем связана целая историческая полоса в развитии духовной жизни народа. Ахундов — великий просветитель, родоначальник философского
Глава 8 Новые взгляды на Кафку
Глава 8 Новые взгляды на Кафку Немногие писатели имели такую же судьбу, как Кафка: оставаться почти неизвестным при жизни и после смерти быстро обрести мировую славу.В случае с Францем Кафкой можно сказать, что судьба не обошлась с ним жестоко, поскольку он был крайне
ДИКАЯ ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ДИКАЯ ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В 1871 году в свой научный поход по Центральной Азии Пржевальский отправлялся с востока — из Пекина. Путь его в Тибет лежал тогда через юго-восточную окраину великой центрально-азиатской пустыни. Теперь, через восемь лет, путешественник вступал
ГЛАВА VII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И КОНЧИНА ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГЛАВА VII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И КОНЧИНА ПРЖЕВАЛЬСКОГО Жизнь по возвращении из четвертого путешествия. – Начало болезни. – Медаль академии. – Выставка коллекций. – Сборы в пятое путешествие. – Уныние и упадок духа. – Болезнь и смерть. – ЗаключениеПо возвращении из
Глава 8. Свободные взгляды
Глава 8. Свободные взгляды Явсегда считала, что женщины подвергаются двойному гнету – дома и в социуме, потому я призывала исправить положение революционным путем, а затем утвердить равные права полов в директивном порядке.На фоне бурно развивающегося феминизма и
Глава восьмая. Военно-теоретические взгляды М. В. Фрунзе и современность
Глава восьмая. Военно-теоретические взгляды М. В. Фрунзе и современность После победоносного окончания гражданской войны главной задачей, которая встала перед Коммунистической партией, было осуществление перехода страны к мирному строительству, восстановление