«Любить этот народ — не в этом ли наша задача?..»
«Любить этот народ — не в этом ли наша задача?..»
Острые голые камни, причудливые уступы, корявая лиственница на вершине — это Яммалахский утес.
Короленко очутился здесь совсем неожиданно, и, как это с ним нередко бывало, решающая минута жизни наступила внезапно для него самого.
Две силы есть сейчас в стране: интеллигенция и народ. Народ признаёт то, против чего борется интеллигенция. Где, где она, пресловутая народная мудрость, таинственная, неопределенная, кто ее выдумал, кто возвел на пьедестал, к чему зовет она? Что он видел в починковских обитателях, что разглядел в амгинских? Ни малейших запросов нравственного или умственного свойства. И на фоне починковских дебрей особенно видна и другая сторона российской жизни — та, где бродят живые нравственные процессы, где люди бьются среди полутьмы всеобщего невежества над их разрешением, и эти люди — интеллигенция. Правда на ее стороне, и он, Короленко, должен вместе со всеми нести эту правду, даже, если понадобится, восставая против целого народа, убеждая его в своей правоте и верности его интересам. И он знает: у него есть орудие для этого — литература.
Он не революционер — это ему ясно. Он принимает правду народнической интеллигенции как самый общий закон, ибо есть пропагандисты, есть террористы, он же не разделяет воззрений ни тех, ни других. Для него теперь неприемлема слепая вера народников в таинственную народную мудрость, ему всегда были чужды методы революционного террора. Он будет искать иной, свой путь.
…На дороге, ведущей на Яммалахский утес, послышался топот и показался верх остроконечного якутского бергеса (шапки). Короленко вдруг страстно захотелось поговорить сейчас с живым человеком.
— Догор! — крикнул он. — Мин нюче сударской. (Друг! Я русский ссыльный.)
Якут спешился, подвязал лошадь и пошел, улыбаясь и протягивая руку, навстречу. Он приехал из Второго Чакырского наслега и очень рад видеть сударского, они все хорошие люди. Неправильно царь сделал, что выслал их с родины в далекую сторону. Короленко почувствовал, как что-то хорошее, нужное вновь начало работу в его душе. Пусть так же наивна, как речи и мысли этого якута, народная мудрость. Любить этот народ — не в этом ли задача интеллигенции?! А он чувствует к народу именно любовь.
Желтое солнце скрылось за краем дальнего леса. Фигура якута потонула в сумерках приамгинских лугов. Быстро темнело, от реки потянуло резкой сыростью, холодом. Взошла луна, освещая бодро идущему к слободе путнику узкую луговую дорогу. «Любить этот народ — не в этом ли наша задача?..»
К Короленко часто приходил в гости Захар Цыкунов, сосед, пашенный.
Жизнь Захара дала писателю материал для рассказа, который должен отразить мысли, чувства, стремления темных забитых Макаров якутских суровых краев.
«Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод… Его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!..»
Захар сидит перед пишущим Короленко. Он голоден, но стесняется попросить еду — знает, что сударские сами живут небогато. Короленко заваривает чай, пододвигает Захару хлеб.
Как объяснить ему, что больше так жить, как он, невозможно?! Написать о нем и о тысячах таких же обездоленных Захаров? Но едва ли они прочтут — они неграмотны. Народ не читает книг… Все равно: его Макар должен — хотя бы и во сне или даже на страшном суде — заявить протест сильным мира сего.
Захар дует на чай и пьет чашку за чашкой, а Короленко пишет и пишет, изредка поглядывая на гостя. Он словно примеривает: решился бы Захар на те обвинения, которые предъявляет старому тойону Макар из рассказа, или нет?
«Как мог он [Макар] до сих пор терпеливо выносить это ужасное бремя своей жизни?.. Он выносил ее лишь потому, что вдали перед ним, как звезда, мерцала надежда; он жив еще, стало быть, может, должен еще испытать лучшее… Теперь он стоял у конца, и надежда погасла… Тогда во мраке сердце его переполнилось слепою яростью, и он стал засучивать рукава, готовясь вступить в драку… Он знал, что при этом ему страшно достанется, но даже в этом находил какую-то жестокую отраду: если так, — пусть же его бьют… пусть бьют его насмерть, потому что и он будет бить… тоже насмерть…»
Короленко пишет.
Когда в сердце одного человека, забитого и несчастного от рождения и до самой смерти, истощается терпение, когда ярость, как буря в пустой степи ночью, начинает бушевать в нем, когда он забывает свой страх перед начальством и перед богом, забывает все, кроме своего гнева, — это значит, что скоро то время, когда легионы Яшек и Макаров скажут свое слово. Но пока стучат только одинокие Яковы, пока Макары терпеливо несут свою ношу, долг писателя заявить о том, что они должны сделать в будущем, когда придет их время.
Короленко сейчас словно въяве видит это время и своего Макара. Не среди угрюмых ленских скал, не в гиблой тундре скажет он слово протеста. Где же? А вот здесь:
«…На равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.
Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.
И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.
И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.
И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.
И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.
И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.
И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце…»
…Один из зимних субботних вечеров был посвящен только что написанному рассказу «Сон Макара».
Аптекман словно собрал воедино все впечатления.
— Ваш рассказ, Владимир Галактионович, настоящий гимн человеческой природе, оправдание высокого звания человека.
Короленко перебрался на житье к Захару Цыкунову — к Макару, как его теперь называли в разговорах товарищи писателя. Захар с женой и маленькой дочкой жили в юрте, прилепленной к стене «амбара» (избы), где поселился Короленко.
Здесь в одиночестве работалось лучше, чем в юр-тешке у товарищей, всегда полной людей, и Короленко со времени переезда к Захару — с осени 1883 года — работал с огромным напряжением.
«Сон Макара» никуда не был отослан. Автор охотно читал его товарищам, шлифовал, но после истории с рассказом «Убивец», затерявшимся в редакции журнала «Русская мысль», решил повременить, не посылать пока своих произведений в столицы.
«Убивец» писался под свежими впечатлениями пути по Сибири. По дороге в Красноярск как-то ночью Короленко разговорился с молодым ямщиком, и тот рассказал ему о своих исканиях правды, которые привели добровольного бродягу в тюрьму. Потом он женился, зажил как будто спокойно, но прошлое, как видно, тревожило этого человека, и он поведал о нем незнакомому внимательному спутнику. Уже в Амге Короленко вернулся к впечатлениям сибирского пути, и в его воображении соединились вместе два образа — простодушного искателя истины и мрачного святоши, старика из секты «покаянников» — его указали Короленко в томской «содержающей». Злобный изувер проповедовал: «Без покаяния нет спасения, а без греха нет покаяния». И он доказывал, что для «спасения» нужен грех. Не потому ли им была организована разбойничья шайка, наводившая ужас на всю округу?..
В этот период Короленко не допускал еще мысли о том, что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Но вот однажды он получил от знакомого письмо, в котором сообщалось: недавно в одном из столичных кружков Глеб Иванович Успенский читал по рукописи его «Чудную», очень лестно отозвался о ней и просил передать автору, чтобы он продолжал писать. Окрыленный, работал Короленко над «Макаром», и все это время ему казалось, что любимый писатель, подвижник и народолюб, стоит над ним как взыскательный судия. В конце концов молодой автор решил, что рассказ Успенский должен одобрить.
Но как можно было писать о якутах и не упомянуть об их очень своеобразной поэзии? Короленко принялся записывать народные предания и песни. Якуты охотно пели при нем, тут же находились переводчики, которые диктовали любознательному «нюче сударскому» содержание импровизаций. Однажды Короленко пришлось даже выслушать своеобразное объяснение в любви. Ссыльные пригласили несколько якутских женщин и девушек, чтобы послушать их песни. Одна из девушек, полненькая смешливая Ленчик, смело глядя на Короленко, запела:
На Камчатке стоит серебряное дерево (береза),
На второй ветке этого дерева сидит тетерев.
Он распустил хвост.
На его хвосте есть загнутые очень красивые перья.
Твоя борода напоминает хвост этого тетерева и лучшие его перья.
Когда ты везешь дрова мимо моего двора,
Я выхожу на поленницу и смотрю на тебя…
Но ты на меня не смотришь, и я вздыхаю.
Короленко смеялся вместе со всеми, смеялась и милая черноглазая певица. Короленко впервые за много лет разрешил себе подумать о том, что в ссылке проходят лучшие годы, оставляя в стороне свойственные этим годам молодые мечты, увлечения, надежды…
Но все на свете кончается, кончился и срок ссылки.
10 сентября 1884 года в десяти верстах от Амги, в Яммалахской пади, под огромной лиственницей, сплошь увешанной якутскими амулетами, состоялось грустное веселье — проводы отъезжающего Короленко. Афанасьева приготовила чай, закуску. Аптекман сказал растроганно уезжающему:
— Если кто-нибудь обрадуется вашему возвращению, то это ваша мать.
Короленко улыбнулся недогадливому товарищу: столько раз был у него в гостях Осип Васильевич, одно время даже жили вместе, а вот карточка Дуни ему ни о чем не сказала.
Нетерпеливо пофыркивают лошади. Пора ехать. Афанасьева не скрывает слез. Мужчины сосредоточенны, хмуры.
Короленко вскакивает в тронувшуюся тележку, снимает фуражку и машет, машет… Вот стоящие под деревом люди стали еле заметны, вот скрылась из глаз и громадная лиственница.
Потянулись по сторонам дороги хмурые осенние леса, надвинулись вершины дальних гор. Из чужих края эти стали знакомыми, и, хотя по-настоящему полюбить Короленко их не смог, он чувствовал сейчас, что сердце щемит и ноет. Или это боль о прожитом, о невозвратно ушедшем — кто знает?.. А сейчас вперед, вперед!
Якутск, Олекминск, Киренск, Верхоленск. Зима гналась по пятам. Приходилось торопиться. Начинались морозы, метели. Хотелось поскорее выбраться из плена здешних гор на сибирские просторы.
В Томске, как и почти во всех крупных городах, где были колонии ссыльных, Короленко читал своего «Макара». Об этом произведении всюду уже знали еще до приезда автора, как знали и о том, что он отказался от присяги. Малознакомые, а то и вовсе незнакомые люди высказывали ему свое уважение, с огромным вниманием слушали его рассказы о Якутии, сердечно напутствовали, провожая в Россию.
Для ссыльных томичан приезд Короленко был целым событием. Приветствовали его писатель Константин Михайлович Станюкович, революционер-народник Феликс Вадимович Волховский.
На вопрос о его дальнейших литературных работах Короленко ответил не сразу.
— Вывезу из тайги могучую сосну, — наконец сказал он полушутливо, полусерьезно, — сделаю из нее музыкальный инструмент, и будет этот инструмент рассказывать о Сибири, ссыльных, о жителях Якутской области…
За три года жизни в Амге Короленко написал и набросал вчерне свыше двух десятков произведений и среди них рассказы «В дурном обществе», «Сон Макара», «Убивец», «Соколинец».
Это было много, очень много, но самым важным было другое: после «Сна Макара», после единодушно одобрительных отзывов о рассказе многих людей Короленко поверил в свои силы, перестал смотреть на свои занятия литературой как на дилетантские упражнения. Сибирская, и в частности якутская, тема оплодотворила его творчество на многие годы.
Кончался 1884 год, кончались ссыльные скитания. Впереди была Россия, новые места, новые люди, работа. Порой Короленко охватывал нетерпеливый озноб— скорей, скорей устроиться, приняться за недоконченные вещи, начать новые!
Как-то особенно звонко, весело, обещающе пели для него ямщицкие колокольцы.
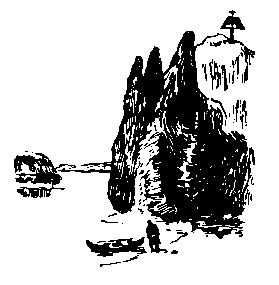
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
«В этот страшный час, в этот жуткий час…»
«В этот страшный час, в этот жуткий час…» Евгению Кропивницкому В этот страшный час, в этот жуткий час Не подымешь рук, не откроешь глаз: На руках висит стопудовый гнет — Вольный волею богатырь-народ, А глаза, глаза, что смотрели в день, Ослепила ночь, придавила
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА Временная неизвестность закончилась приглашением на чашку чая. Через час, прокатившись на такси, я трескал сушки, запивая крепким индийским чаем и слушая Гришино повествование о тяжестях и лишениях его жизни. Но, судя по выхлопу, всё было не так печально.
Задача
Задача Командир отряда майор Рудых вызвал меня и командира роты к себе десятого марта и показав на карте дорогу, идущую меж гор в «зеленую зону» сказал: «По данным агентуры здесь каждую ночь возят оружие». Я это слышал уже не первый раз и с недоверием посмотрел на карту.
Задача трех тел
Задача трех тел Короли и математика — это тема для особых размышлений. Почему коронованные особы порой проявляют такой пристальный интерес к этой науке? Быть может, дело в том, что, как сказал Александру Македонскому один древний философ, «в математике нет царских путей»?
Задача
Задача Мысли шли нескончаемым потоком, Альберт рисовал длинные формулы. Остались позади невыносимые работы Максвелла, и он ясно ощущал: кто-то из этой парочки явно лишний. Вторым был Исаак Ньютон. Учитель на уроке монотонно, словно механически, объяснял ученикам
Глава 9. Арагонский фронт Не числом, а умением. — Федор Конев, его трагическая участь. — Наша достойная смена. — Последние дни в небе Испании. — Оставляем частицу своих сердец. — Счастья тебе, сражающийся народ!
Глава 9. Арагонский фронт Не числом, а умением. — Федор Конев, его трагическая участь. — Наша достойная смена. — Последние дни в небе Испании. — Оставляем частицу своих сердец. — Счастья тебе, сражающийся народ! Хорошо знакомая нам Ла-Сенья встретила нас буйной весной.
Задача у нас одна
Задача у нас одна После трехдневных обложных дождей погода поправилась. Небо поголубело, сквозь поднимающийся туман проглянуло солнце.2 октября в полк поступил приказ: поставить мины в Керченском проливе. Враг интенсивно переправлял морем технику и живую силу, пополняя
Новая задача
Новая задача На батарею мы вернулись возбужденные. Солнце уже скрылось за горизонтом, а васильки в пшенице все еще резко выделялись своими темно-синими глазами, до боли напоминая о мирном времени.Отдаю приказание командирам огневых взводов: в 20.45 открыть огонь по
Эта задача как раз на три трубки
Эта задача как раз на три трубки Но не так уж важно, сколько трубок было у Холмса. Куда интереснее другое: нигде, ни в одном из рассказов, ни разу не упоминается та длинная изогнутая трубка, которую курят почти все кино-Холмсы, включая Ливанова и Бретта — самых знаменитых
ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА
ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА Торжество революционных идеалов не могло быть и не было для Д. Н. Прянишникова сторонним событием. Увы! Именно так — с настороженностью, недоумением и непониманием — встречали революцию многие ученые. Для Дмитрия Николаевича это был долгожданный,
Формальная задача
Формальная задача Видавший виды ГАЗ-АА 6-й батареи тронулся. В кузове находились лейтенант Смольков, сержант Митрошенко — командир отделения связи, разведчики, топографы, телефонисты и радисты, использовавшиеся в отделениях телефонной связи.Кто-то из разведчиков
Боевая задача
Боевая задача Задача нашей батареи была такая: прикрывать полк и непосредственно зенитный дивизион ракетный от низко летящих целей. Ракеты [зенитный комплекс С-75 «Двина»] сами были рядом — метров триста, наверное. Плёнкой накрыты радиоактивной. То ли две, то ли четыре
Трудная задача
Трудная задача Отец по своему положению, как командир специального кавалерийского отряда Красной армии по борьбе с бандитизмом, был независим и мог решать многие вопросы сам. Но суд, расправа и тюрьма находились в руках ЧК и его начальника Лаубэ. Вот он и требовал всегда
Глава XXVIII НАША ЗАДАЧА СЕЙЧАС — УДАРИТЬ ПО КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Глава XXVIII НАША ЗАДАЧА СЕЙЧАС — УДАРИТЬ ПО КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 7 октября 1959 года проводилось второе Национальное совещание ИПРЛ. Как и первое, оно прошло за закрытыми дверями.Значение ИНРА, ставшего главным проводником позитивных изменений в нашем революционном процессе,
ЗАДАЧА
ЗАДАЧА Сейчас у Русских Одна задача, Самая трудная, Большая срочная, Требующая Вычисления Точного, Над которым взрослые, Как дети плачут! Головоломные Числа такие! Решают многие, Но у всех неудача… А условие Этой задачи: «Как спасти