Михаил Глинка Турист из России
Михаил Глинка
Турист из России
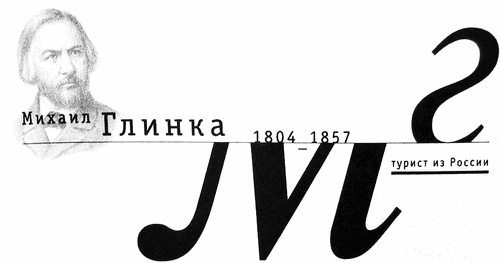
Имя нашего героя служит для многих паролем, пропуском в мир истинных музыкальных ценностей, своего рода тестом на «свой — чужой». Им до сих пор клянутся в любви к России и русской музыке. Его изречения, в том числе и вымышленные, а также его не всегда узнаваемые портреты украшают стены очень многих музыкальных учреждений в России — по крайней мере, в течение последних полутораста лет. Это Михаил Иванович Глинка, основоположник русской классической музыки.
Однако именно эта тяжкая работа (которую для Глинки придумали задним числом и задним же числом записали во все учебники) во многом испортила его мировую музыкальную репутацию за пределами России. Испортила в силу того простого факта, что отечественная культура пока так и не смогла мотивировать свой трепетный пафос по сему поводу и подтвердить его какими-либо объективными данными, которые убедили бы остальной мир в необходимости любить Глинку так же сильно и беззаветно, как это принято у российских почвенников.
А чем на самом деле был занят в свободное от этой вымышленной работы время Михаил Иванович Глинка (к тому же находясь вне пределов России), мы и проследим.
Итак, место действия — город Мадрид, время — 1845 год. Сейчас здесь появится господин Глинка (он же дон Мигель), но не как основоположник русской классической музыки, а как частное лицо. В Испании его никто не знает, у него здесь нет никаких дел, приглашений, запланированных встреч, ни концертов, ни гастролей, ни мастер-классов — короче говоря, он обыкновенный турист. Или почти обыкновенный…
Основная на тот момент работа, по которой Глинку знают в России, уже давно выполнена. Эта партитура, как известно, называется вовсе не Иван Сусанин, а все-таки Жизнь за царя — и это первый настоящий русский «режимный» шлягер. До конца царствования династии Романовых эта опера будет исполняться во все «царские дни» (и в Москве, и в Петербурге) с непременным триумфальным успехом. Примерно такая же судьба постигнет ее и после крушения империи — правда, с сильно измененным текстом и сюжетом: поиски поляками дороги на Москву в глухих костромских лесах вызывали недоумение у нескольких поколений советских слушателей, но Глинка в этом не виноват. Он уже сочинил те восемь тактов, за которые Чайковский был готов произвести Глинку в гении, — речь шла, разумеется, о первом «квадрате» финального хора «Славься, славься русский царь! Богом нам данный наш царь-государь!» Более того, Глинка уже и Руслана и Людмилу сочинил. Но в паспорте этого не напишешь…
В день пересечения испанской границы в мае 1845 года (по старому стилю) Глинке исполнился 41 год. Так совпало — день в день. И вроде бы — по всем понятиям, в том числе и самым патриархальным, «домостроевским» — Михаил Иванович уже вполне взрослый и самостоятельный человек. Однако в своих Записках Глинка пишет, что ему стоило очень большого труда и очень большого времени получить разрешение у своей матушки на эту поездку. (Как тому моряку в сказке Киплинга, который болтал ногами в воде только потому, что его мама разрешала ему болтать ногами в воде.) А поехал Глинка в Испанию по примеру Франца Листа — прославленного виртуоза, который в эту страну недавно предпринял концертное путешествие и ему здесь страшно понравилось.
Глинка — как правильно воспитанный русский дворянин и помещик — самостоятельно не мог себя обслужить, да он и не должен был этого уметь. Путешествовать одному для него было задачей совершенно неразрешимой. Надо было нанять человека (по-европейски это называется «мажордом», а в России — «дядька»), который будет обихаживать его жизнь в пути. Этим дядькой стал природный испанец по имени дон Сантьяго с пятилетней дочерью (потом, кстати, семейство дона Сантьяго еще увеличилось), и всей этой замечательной компании, за их заботы и труды Глинка исправно платил немалые деньги — 100 франков в месяц. Кстати, именно с доном Сантьяго он начал всерьез учить испанский язык. До этого в Париже он уже предпринимал такие попытки, на первых порах они принесли свои плоды. Глинка брал несколько классических испанских текстов (в их числе, кстати, было что-то из Дон Кихота Мигеля де Сервантеса) и переводил с испанского языка на французский. А потом показывал перевод знатокам. Потом, по прибытии в Испанию, за две-три недели Глинка вполне освоился, стал говорить сносно, а впоследствии через месяц-другой, и просто свободно.
Кстати, паспортный режим, конечно, тогда был не чета теперешнему, но все равно, чтобы пересечь испанскую границу, Глинке был нужен надлежащим образом выправленный проездной документ. И выяснилось (прямо на границе), что то ли Глинка по рассеянности, то ли дядька его дон Сантьяго, в общем — кто-то паспорт Глинки потерял. И пришлось на месте улаживать этот вопрос за «очень дополнительные деньги». Причем одним из решающих доказательств того, что Глинка — это Глинка (тогда ведь не было ни фотографий, ни каких-то других способов идентификации личности), стала статья о нем, опубликованная в Париже в Журналь де Деба не кем-нибудь, а Гектором Берлиозом, первым композитором Франции. Это рецензия на прошедший не без успеха (хотя и не всеми замеченного) авторский концерт Глинки в Париже. Однако до того, как Глинка вполне освоился и с испанским языком, и с его местным произношением (которое на слух иностранца звучит поначалу довольно невнятно и даже шепеляво), до того, как он попал в Мадрид, он успел поймать ту главную «птичку удачи», ради которой, как потом выяснилось, он сюда и ехал.
Было это так. В городе Вальядолиде на одном из местных вечеров (это был вечер в одной из семей) он услышал игру гитариста. Имя и фамилию этого человека мы знаем совершенно точно. И если подходить к делу по-современному, то этого гитариста надо было бы указывать в соавторстве с Михаилом Ивановичем Глинкой, но об этом после. Звали гитариста Феликс, фамилия Кастильо, он был сыном одного из известных в Вальядолиде купцов-негоциантов. Именно он наиграл на гитаре хоту с многочисленными вариациями, которую Глинка, по его собственным словам, очень цепко удержал в памяти со всеми деталями, чтобы уже потом, по приезде в Мадрид, сделать из этого материала Блестящее каприччио. Потом, по совету князя Одоевского, это произведение переименовали в Арагонскую хоту, и под этим именем оно так и осталось в истории. Любопытно, что когда эта музыка (Глинка, правда, этого уже не застал) бумерангом вернулась из России в Испанию, то и обыкновенные слушатели, и профессиональные музыканты совершенно отказывались верить, что она написана не испанцем. Для них это звучало — и звучит до сих пор — как абсолютно подлинная, «родная» испанская хота, которая просто почему-то положена на классический состав оркестра. Кстати, в те времена в Испании был еще жив старинный обычай провожать человека в последний путь хотой. Знал ли об этом русский классик?
В соавторах у Глинки оказалось очень много разного народу, причем очень пестрого и не особенно респектабельного. Например, один погонщик мулов из Мадрида, причем безымянный — мы так и не узнаем имени человека, который вошел в историю русской музыки. Глинка говорил, что испанец к нему часто захаживал и что-то напевал. Еще были какие-то люди в Мадриде, которые напели ему пару ламанчских напевов, и эта музыка без больших изменений вошла во вторую испанскую увертюру Глинки: сначала она называлась Воспоминание о Кастилии, а потом длиннее и красивее — Воспоминание о летней ночи в Мадриде. Еще не раз промелькнут по страницам его Записок какие-то цыганки, которые для него плясали. Особенно его поразил один цыган: плясал, говорит, замечательно, зажигательно… но уж слишком непристойно.
Записи одной и той же песни, сделанные Глинкой от разных людей, иногда выглядят просто как разная музыка. Но Глинка приводит их к какому-то общему знаменателю, он пытается найти тот общий корень, который там, по его убеждению, должен быть: раз музыка народная, значит, у нее должен быть единый корень. Вот это — в переосмыслении советских музыковедов и на языке доктрины социалистического реализма и называется «принцип народности в искусстве». Именно под этот принцип и подогнана задним числом известная фраза о том, что музыку создает народ, а композиторы — лишь аранжировщики.
Записанные рукой Глинки песни, как правило, одноголосные — это одна-единственная нотная строчка, очень часто с подписанными под ней испанскими словами — Глинка писал их так, как слышал. Любопытно, что ни реальный ритм — переменчивый, сложный и живой, ни гармония в эту запись или не попадают, или остаются между строк. В строку не пишется и главное «лыко» — все то, что составляет прелесть музыки, ее аромат, ее звучание в живом воздухе, в живом контексте реальной жизни. Это тоже к вопросу о принципе народности: берется подлинная мелодия, а под нее подгоняются (как это называется у иных музыкантов) правильные «столбы», то есть стройная классическая гармония. Именно такая гармония, какой она должна быть согласно учебнику, — а не такая, как она есть на самом деле.
Очень нежно и забавно Глинка отзывается о фламенко — о том, что он слышал на юге Испании. Певцы, говорит, заливались «в восточном роде», и ощущение было такое, как будто вы слышите три ритма одновременно, то есть у певцов свой ритм, у гитаристов свой, а у танцоров свой. И как-то они так мило уживаются, друг другу не очень мешая.
Была еще одна дама, от которой Глинка тоже многое записал, причем предоставленные ею данные пошли в дело, в композиторский процесс. Звали ее Долорес Гарсия, родом она из Гранады, но главный интерес здесь не в записях музыки. Открываем Записки и читаем: «Дон Франциско по моему желанию отыскал миловидную андалузку, которая славилась пением народных песен. Ей было лет 20, она была небольшого роста, интересной физиономии, сложения крепкого. Ножка же ее была детская, голос очень приятный. Не без хлопот и опасностей поладил я с нею; наконец решился вывезти ее в Мадрид, что также обошлось не без затруднений». И дальше начинается классическая история из области русского крепостного права.
С дамой ведь как следует обращаться — либо преклоняться перед ней, если она благородна, прекрасна, недоступна, либо… как с живой игрушкой. Эту Лолю (Глинка называл Долорес Гарсия «Лолей») вывозят в Мадрид, и дальше — следующая вполне исчерпывающая фраза: «Трудно мне было с моей подругой первое время, она часто бывала со мной у своих приятельниц-гранадинок, и нет сомнения, что они ее сбивали с толку. К счастью, все они выехали из Мадрида, тогда Лоля видимо изменилась, и последнее время мы жили с ней душа в душу. Несмотря на это, однако же, я видел ясно, что из нее артистки никогда не выйдет, и потому решился отправить ее обратно к матери, что и исполнил в июне 1846 года». Что ж, живые игрушки либо ломают, либо выбрасывают…
Еще одно приватное знакомство, которое Глинка сделал в Мадриде. Описано в его Записках это так: «…Дон Хосе Альварес познакомил меня с земляком своим Доном Педро Фернандесом, который приехал из Палентии для усовершенствования себя в музыке». Дело было в мае 1846 года — второго года пребывания Глинки в Испании. «Дон Педро изредка навещал меня, когда еще была со мною Лоля. Когда же она уехала и он заметил, что я грустил, он стал ежедневно навещать меня… <…> Дон Педро твердил этюды Крамера под моим руководством». Это естественно, ведь дон Педро хотел научиться серьезно играть, а Глинка мог ему помочь. Но обернулось все это совсем неожиданно.
В качестве живого вещественного доказательства испанской «одиссеи» Глинки дон Педро Фернандес уехал в Россию. Это тоже типично барская привычка: из дальних стран надо обязательно привезти с собой что-нибудь живое — хоть кошку персидскую, хоть комнатную собачку, хоть какого-нибудь турчонка, арапчонка, казачка, — неважно. Если не привезти, то не поверят, — несолидно. И они жили душа в душу почти десять лет после этого — и в Варшаве, и в Петербурге, и в имении Глинки в Смоленской губернии, причем дон Педро состоял при Михаиле Ивановиче в трех должностях одновременно. Он был нечто среднее между другом, секретарем и камердинером. Но если бы Глинка все-таки мог относиться к дону Педро как к себе равному, то, видимо, это не закончилось бы так, как оно на самом деле закончилось: все-таки насильно мил не будешь. В 1855 году, за два года до смерти Михаила Ивановича, обнаружили, что дон Педро исчез. Причем он прихватил с собой много интересного и ценного — а среди прочего еще и испанский дневник Глинки, которого с тех пор и по сию пору так никто больше и не видел.
Во многих советских биографиях Глинки, которые густо крыты сусальным золотом, описывается один его разговор, имевший место в Париже. Это диалог с Джакомо Мейербером — самым популярным оперным композитором XIX века, создателем большой оперы и ее олигархом. Причем описывается это событие, что называется, «тенденциозно»: Мейербер во всех этих биографиях очень плохой, потому что он якобы все время озабочен умножением собственной и без того гигантской славы. Вот он обращается к Глинке примерно так: мсье Глинка, мы очень хорошо знакомы с вашей работой, мы относимся к вам с большим интересом, мы следим за тем, что вы пишете. Но почему мы знаем вас только по имени, почему мы не знаем вашей музыки, где бы нам ее достать? На что Глинка, как написано в тех же сусальных биографиях, «с колоссальным чувством собственного достоинства» ответил олигарху большой оперы, что не имеет привычки сам заниматься распространением своих сочинений. Вот и поговорили… Что это — достоинство или просто барство? Кто будет вместо автора заниматься его сочинениями? Дядька? Дон Педро? Лоля? Государь император Николай Павлович? И есть наиболее вероятный финал, который, конечно, в сусальных биографиях не описан. Ну и зря, — должен был бы ответить Мейербер.
А он обычно хорошо знал, что говорил…
И еще к вопросу о том, до какой степени частным лицом был Глинка в Мадриде. В 1846 году, ближе к концу его пребывания, здесь состоялись одновременно две королевские свадьбы: Глинка описывает полный набор торжеств: «травля быков» на Пласа Майор (главной площади Мадрида), народные гуляния, раздача еды и выпивки, увеселения всяческого рода. И среди номеров в сборном правительственном концерте по случаю этих двух свадеб исполнялось трио «Не томи, родимый» из глинкинской оперы Жизнь за царя! Вот ответ клеветникам, которые пытаются утверждать, что Глинку никто не любит за границей так, как в России! Да, ответ сильный, но тонкость заключается в том, что никто из устроителей того концерта и его слушателей не знал, что Глинка в Мадриде. Более того, не было известно, кто это такой, жив ли он, знали только музыку. А сам Глинка даже не мог попасть внутрь дворца Прадо, который сейчас является знаменитейшим королевским музеем, — именно там шел концерт. Михаил Иванович при этом ходил вокруг, музыки своей так и не услышал, зато наблюдал мощное полицейское оцепление. Он красиво описывает, что ночью дворец весь сиял, потому что был иллюминирован «разноцветными шкаликами».
Музыкальные и не только музыкальные впечатления дона Мигеля в Испании в основном разошлись на сувениры. Больше он не будет писать по заказу, поскольку его особа больше не интересует высокое начальство (в России Жизнь за царя уже поставлена). Он будет писать только по вдохновению или не будет писать вовсе. Но вот что любопытно. В своей собственной стране Глинка точно такой же ничем не занятый турист, как и там, в прекрасной Кастилии. Считается, что поездка в Испанию стала мощным творческим импульсом для новых сочинений, но список написанного за следующие десять лет — это две с половиной, максимум три строчки в самых подробных жизнеописаниях основоположника русской классической музыки. Через три с половиной года будет закончена Камаринская, где с народными темами придется немного труднее: они уже не будут даны автору в готовом — сыгранном и спетом — виде. И Камаринская, и Воспоминание о летней ночи в Мадриде будут совершенно неудовлетворительно исполнены в Петербурге, потому что тогда ни в Северной столице, ни во всей России еще не было ни одного нормально звучавшего оркестра, который бы состоял из свободных и профессиональных людей. Но тем не менее туристы тоже иногда пишут историю музыки…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
О будущем России Михаил Ходорковский
О будущем России Михаил Ходорковский Посмотрев на Россию в глобальном контексте, невозможно не увидеть как ее огромные преимущества (например, гигантские сырьевые ресурсы, включая такой, как пресная вода), так и громадные проблемы (скажем, масштабы территорий с крайне
Галопирующий «турист»
Галопирующий «турист» Хотя ему для вдохновенья Помех не чинят на Руси,Он ловит звуки одобренья В ночной программе Би-Би-Си.За ним, узнав про это свойство,Интервьюеров скачет рать…Ах, много ль надобно геройства,Чтоб оскорбить родную мать!Л. Прозоровский.«Советская
«ТУРИСТ» ШЕЛЛЕНБЕРГ
«ТУРИСТ» ШЕЛЛЕНБЕРГ Скорцени отправился в Испанию не один. Он захватил с собой своего бывшего начальника по службе безопасности Вальтера Шелленберга, который не отсидел и половины положенного срока заключения: американцы выпустили его из тюрьмы «по состоянию
ТУРИСТ С ТРОСТОЧКОЙ
ТУРИСТ С ТРОСТОЧКОЙ В 1971 году я снял на телестудии в Останкино фильм-спектакль "Первые песни – последние песни", композицию по стихам, письмам, песням и дневникам поэта Н.А.Некрасова. Один раз показали, назавтра запретили. Передачу мою видел Владимир Тендряков и утешил,
Записки С. Н. Глинка[8]
Записки С. Н. Глинка[8] Я был счастлив в ребячестве моем, меня любили. Особенно ласкала меня моя двоюродная бабка Лебедева, вдова родного брата моей родной бабки. Село ее Третьяково было только в 15 верстах от Суток. В каждый свой приезд она, мимо всех других братьев, дарила
«Главный турист Югославии». «Неприсоединение»
«Главный турист Югославии». «Неприсоединение» Если в самой Югославии к началу 1960-х нерешенные проблемы явно накапливались, то в международной политике Тито одерживал триумф за триумфом. До сих пор в республиках бывшей СФРЮ с грустью вспоминают, что при Тито эта
М. И. ГЛИНКА
М. И. ГЛИНКА С Глинки обычно начинают русскую историю музыки. В сущности, это справедливо в такой мере, как если бы начинать с Пушкина русскую литературу. Конечно, была в России музыка и до Глинки, и вовсе неплохая, и неплохо было бы ее воскресить и поиграть — это была музыка
М. И. ГЛИНКА
М. И. ГЛИНКА Печатается по тексту газетной публикации: «Новое русское слово», 1954, 30 мая. В оригинале подзаголовок: «К 150-летию со дня
«Красная Глинка»
«Красная Глинка» В апреле меня и Зинина перевели в лагерь на Красной Глинке, расположенный на высоком берегу Волги. Подъезжая к лагерю, огороженному только проволокой, как бы в укор окружающей его красоте Жигулевских гор, обратили внимание на несколько пожарных машин,
Нежелательный турист, или первый раунд
Нежелательный турист, или первый раунд Итак, какие же события предшествовали появлению на московской земле американского туриста Ли Харви Освальда?4 сентября ввиду предстоящего увольнения с военной службы морской пехотинец США Освальд обратился в суд Санта-Аны, штат
Глава 14. Михаил Ульянов: «В России на актеров смотрят как на слуг»
Глава 14. Михаил Ульянов: «В России на актеров смотрят как на слуг» «Я не стал таким умным, как Цезарь…» Всякое случается в нашей жизни. Но эпизод, приключившийся со мной много лет тому назад, был очень уж удивительным, почти абсурдным по своей сущности. Он долго мучил меня и
С. Н. Глинка Записки
С. Н. Глинка Записки В то самое время [1808 год] <…> уроженец Германии, сын Августа Шлецера, <…> был профессором Московского университета[133], и профессором в полном смысле этого слова. Бросив горестный взгляд на быстрые политические переходы нашего века и видя, что
Румынский Глинка
Румынский Глинка Имея отношение в течение ряда лет к Обществу советско-румынской дружбы, я довольно внимательно слежу за румынскими новинками, выходящими в наших издательствах. Нравится мне Румыния, ее наро д, его богатая самобытная культура. А чтобы полюбить ее еще
Михаил Шкаровский. Апостол Андрей в исторической и церковной традиции на Северо-Западе России
Михаил Шкаровский. Апостол Андрей в исторической и церковной традиции на Северо-Западе России [389]Согласно церковному преданию, первоученик Иисуса Христа апостол Андрей, проповедуя слово Божье, в середине I века по Р. Х. с берегов Черного моря поднялся по Днепру и далее по