XIX
XIX
Ровно через два месяца после праздника Верховного существа, 8 термидора второго года, в Якобинском клубе состоялось памятное всем заседание.
Жаркий день сменился душными сумерками. Вечер не принес прохлады. Трехцветный флаг над входом был неподвижен, ни малейшего ветерка не чувствовалось в воздухе.
Ждали Робеспьера.
Давид пришел в клуб усталым — он был занят подготовкой к очередному большому празднику. На 10 термидора было назначено торжество в честь героев юношей Барра и Виала, отдавших жизнь за революцию. Но мысли были далеко от этого. Другое его занимало. Как и все, он знал о событиях, происшедших в Конвенте. Сегодняшняя речь, произнесенная Робеспьером, звучала завещанием. Приближалась развязка. Враги революции, личные враги Робеспьера, люди, запутавшиеся и просто испуганные, объединились против того, кого они называли «тираном». Комитет общественного спасения перестал считаться с ним, долгие месяцы Робеспьер там не появлялся. В Конвенте большинство против него. А народ? Мог ли он всецело оставаться на стороне Робеспьера? Нищие крестьяне, обираемые богатевшими фермерами, напрасно искали помощи у правительства Робеспьера. Рабочие волновались из-за только что введенного ограничения заработной платы. Народ еще верил Робеспьеру: слишком долго их борьба была общей; но сейчас они далеко не так близки друг другу, как прежде.
Правительство Робеспьера сделало все, что нужно буржуа. Остатки королевской Франции и дворянских привилегий уничтожены. Войска монархической коалиции разбиты. Роялистские заговоры разгромлены. Новой, буржуазной Франции не нужны ни реквизиции, ни ограничения богатств и спекуляций, ни свобода для бедняков, ни террор, ни, наконец, власть тех людей, которых поставил во главе революции народ. А Робеспьер не решался опираться на народ до конца; он оставался человеком своего времени, человеком третьего сословия, но никогда не был и не называл себя санкюлотом.
Подлинные причины и смысл событий нелегко различить за сложнейшими хитросплетениями судеб и страстей, за спорами и борьбой.
Давид не понимал, как Робеспьер, чья воля не сгибалась в труднейшие минуты, когда на краю гибели была вся республика, не может найти в себе силы расправиться со своими врагами в Конвенте.
Давид многого не мог понять. В этот душный вечер термидора, в тягучие минуты перед приходом Робеспьера, он сидел на скамье, скрестив на груди руки и неподвижно глядя перед собой. Размышлял, перебирал в памяти события последних месяцев. Что случилось, что встало на пути революции и ее вождей? Что?
Был прямой путь, опасный, грозящий смертью, но прямой. Он вел к идеалам, быть может не вполне ясным, но прекрасным и заманчивым, — к свободе, ко всеобщему счастью и братству. Люди умирали на этом пути, боролись с врагами, преодолевая сомнения, посылали на гильотину предателей. Свободное и светлое искусство расцвело, стряхнув академическое рабство и зависимость от короля, народ вошел в открывшиеся двери музеев, радовался гордой красоте революционных празднеств.
И вот внезапно все рушится. Робеспьер, несгибаемый, будто лишенный нервов, не раз на глазах Давида терялся, потрясенный изменой прежних единомышленников, ненавистью и недоверием. На несколько недель он вообще отошел от дел, совершал меланхолические одинокие прогулки, замкнулся в себе. Давид оставался его верным сотоварищем, не позволял сомнениям проникать в душу. Революция отождествлялась в его представлении с Робеспьером, как прежде с Маратом. Он и Лаба — только они двое поддерживали Робеспьера в Комитете общественной безопасности, не обращая внимания на откровенную ненависть коллег. Он неизменно выступал в Конвенте за предложения Робеспьера, хотя уже давно чувствовал — пропасть разверзается под его ногами. Теперь приближается финал.
Сегодня Робеспьер говорил в Конвенте, говорил, как в прежние времена. Он обвинял заговорщиков, он спрашивал Конвент, стала ли счастливее республика за те недели, что он отошел от дел; он говорил, что надо покарать предателей. Увы, это была лишь декларация — имен он не назвал. Весь Конвент почувствовал себя под подозрением из-за нерешительности Робеспьера. Ему аплодировали, но едва впечатление от его речи рассеялось, снова началось нападение. Упреки, обвинения, требования назвать имена тех, кого подозревал Робеспьер, звучали с разных концов зала. А он, вместо того чтобы действовать с обычной своей решительностью, хранил надменное молчание. Он заколебался в конце своего стремительного пути, когда промедление — прелюдия поражения. Давиду казалось, что рушится самое основание, на котором появились первые камни новой культуры. Давид оставался прежде всего художником, революция дала ему возможность создавать новое искусство. С революцией уходил смысл жизни. К тому же гибель Робеспьера — это и гибель самого Давида. Значит, все замыслы останутся неосуществленными, больше никогда он не подойдет к мольберту. Неужели «Смерть Марата» стала его завещанием?..
Вошел Робеспьер. Большинство якобинцев оставалось друзьями Робеспьера, его встретили аплодисментами, приветствиями.
Робеспьер прочел свою речь, произнесенную в Конвенте, читал долго, с обычным своим внешним бесстрастием, со скупыми жестами небольших сухих рук. С глубокой болью смотрел Давид на лицо Робеспьера. В нем, кажется, не осталось ничего живого — бесцветная восковая маска, никакого румянца на выступающих, обтянутых сухой кожей скулах, глаза скрыты за толстыми стеклами очков. Он смертельно устал. Ноша, которую он нес на плечах, становится непосильной.
Тишина стояла в зале. Робеспьер прямо говорил, что эта речь — его завещание и что он видит приближение своей гибели. Клятвы в верности, проклятия врагам, обещания защитить его от любой опасности были ему ответом. Фантастические огромные тени размахивавших руками депутатов метались по стенам. Дрожали огни свечей, колокольчик председателя напрасно вызванивал яростные трели. Робеспьер заговорил снова. Он говорил о новом восстании, единственном средстве очистить Конвент от врагов свободы.
Горячая кровь стучала в висках Давида. Огни свечей двоились и расплывались перед глазами. Жуткое ощущение близкой гибели, становящейся все реальнее с каждой минутой, мешалось с восторгом перед великолепием мгновения и восхищением Робеспьером. «Тому, кто умирает за отечество, не в чем себя упрекнуть», — вспомнилось ему. Наступает его час.
— Но если свобода все же погибнет, вы увидите, друзья, что я спокойно выпью цикуту!
Голос Робеспьера оборвался.
В ответ ему прозвучал голос Луи Давида:
— Если ты выпьешь цикуту, Робеспьер, я выпью ее вместе с тобой!
Давид уже стоял рядом с трибуной, обернувшись лицом к бушующему залу. Появись сейчас перед ним чаша с ядом, он, не задумываясь, осушил бы ее одним глотком, как Сократ на собственной его картине. Он действительно прощался с жизнью. И не только потому, что здравый смысл говорил ему о близящемся конце, но и потому, что слова Робеспьера звучали с потрясающей убедительностью. В них была обреченность.
При всей горечи это была, наверное, самая значительная минута в жизни Луи Давида, лишенная всякого эгоизма, минута, когда он был готов разделить участь героев своих лучших картин.
Кончалась целая полоса жизни, чистая и высокая, она уходила вместе с Робеспьером, с прежними идеалами и надеждами, с написанными и только задуманными картинами, с празднествами, которым не суждено воплотиться в реальность. Рушился целый мир, которого Давид так долго ждал, во имя которого писал «Горациев» и «Брута». Он плохо помнил, как возвратился на свое место, едва слышал, что говорили ораторы. С трудом овладел собой, усилием воли заставил себя прислушаться к речи выступавшего. Конечно, здесь, в Якобинском клубе, Робеспьера поддержат все; тех, кто выступает против, попросту стаскивают с трибуны. Но что будет завтра, в Конвенте? Легко принять смерть, опалу в минуту гнева и волнения, но страшна участь человека, бездейственно ждущего неминуемой гибели. В завтрашнем бою в Конвенте Давид едва ли примет участие, ему остается только ждать, почти не надеясь на спасение.
Ждать…
Бой часов, чудом донесшийся в шумный зал, неприятно напомнил о времени, двигавшемся неумолимо к завтрашнему дню. Каждый час укорачивает срок, оставшийся до решения его судьбы.
Заседание окончилось.
Было по-прежнему душно, невидимые тучи скрыли звезды, глухой далекий гром — или это просто проехала тяжелая карета — послышался Давиду, когда он проходил под аркой ворот.
Медленно удалялся он от старой якобинской церкви, шагал тяжело, низко опустив голову, словно разглядывая камни мостовой. Шел дорогой, уже выученной наизусть, знакомой до последней выбоины, до каждой чугунной тумбы у ворот. Шел в свою пустую луврскую квартиру, где ему предстояло провести ночь, возможно самую тяжелую в его жизни.
Он шел прочь от Якобинского клуба, еще не зная, быть может лишь догадываясь, что никогда не вернется туда. Он думал о холстах и учениках, о своих мальчиках, думал о своей жизни, о своем прошлом и будущем, которого может и не быть.
Темнела, сгущалась ночь. Прохожие, редкие в этот час, протягивали ладони, ожидая, не упадет ли капля дождя. Но дождя не было.
Мучительное беспокойство владело душой Давида, он боялся гибели, но более всего — собственной нерешительности. Он хорошо понимал, какие советы будет нашептывать ему благоразумие этой ночью, заранее боялся оказаться недостаточно твердым.
Пробило полночь на старых луврских часах, возвещая начало нового дня — 9 термидора. Закончился последний день жизни монтаньяра Давида. В эту ночь человек победил в нем гражданина.
На следующее утро он не появился в Конвенте.
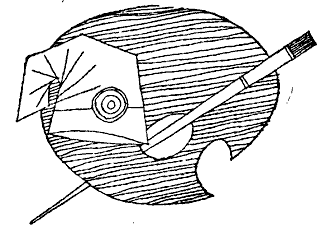
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК