ГЛАВА IX НА ВЕРШИНЕ
ГЛАВА IX
НА ВЕРШИНЕ

Оглядываясь назад на пороге нового десятилетия, Андерсен видел внизу крутой, тяжелый подъем. Слава за границей далась в руки легко, сказки в семимильных сапогах обходили мир и побывали уже за океаном: впервые Андерсен услышал об этом в 1847 году от знаменитого норвежского скрипача Оле Булля, вернувшегося из Америки. Но в Дании каждый шаг к всеобщему признанию делался точно по ступенькам, вырубленным одна за другой в гранитной скале. Теперь и это было позади.
Театр после успеха «Мулата» принес несколько тяжелых разочарований и провалов, но история с комедией «Первенец» прекрасно показала, что виною этому не всегда был сам автор. «Первенца» Андерсен послал в театр анонимно. Маленькая забавная вещичка понравилась даже строгому Гейбергу, а публика дружно аплодировала ей, и газеты рассыпались в похвалах, говоря о «новом сильном даровании», появившемся на датской сцене. Кто приписывал авторство Герцу, кто молодому писателю Гострупу. «Если бы пьесу написал Андерсен, он никак не удержался бы, чтоб не проговориться, особенно после такого успеха», — говорили кругом, и Андерсен, вздыхая, подтверждал: да, да, конечно, не удержался бы. Только Коллины да Эрстед знали его секрет, но они тоже молчали. Андерсен торжествовал: теперь ясно, что мнение критики и прислушивающейся к ней публики прежде всего зависит от имени автора.
А с конца сороковых годов на сцене театра «Казино», где большая часть зрителей была из простого народа, с успехом шли пьесы-сказки Андерсена: «Дороже жемчуга и золота», «Оле-Лукойе», «Бузинная матушка».
Диккенс откликнулся теплым письмом на посвященный ему сборник новых сказок, на концертах пелись романсы Шумана на слова Андерсена, а в голове рождались уже новые замыслы, новые образы… Словом, лампа Аладдина светила во всю мочь, и свет ее был виден далеко за пределами Дании.
Обо всем этом Андерсен писал в новом, расширенном издании «Сказки моей жизни», предназначенном для датских читателей.
Легкой тенью проскальзывали по страницам автобиографии горечь неразделенной любви и нервная чувствительность к малейшему булавочному уколу. Но, как и в первом своем варианте, «Сказка моей жизни» обходила стороной многое, что не соответствовало представлению об Андерсене — «баловне счастья». Автор книги мог показаться куда более наивным и поверхностным, чем это было на самом деле.
Сказки сороковых и пятидесятых годов говорили совсем о другом: в них отражался человек, полный исканий и противоречий, жгучего сострадания к одним и растущего презрения к другим, страстно стремящийся найти ответ на сложные вопросы жизни.
С вершины успеха ему виделись совсем не только цветочные гирлянды празднеств в честь сказочника, слышались не только звонкие бубенчики похвал.
Достигнув славы и богатства, Андерсен продолжал смотреть на мир глазами обитателя нищих окраин, где люди сгорблены от непосильного труда, где в сырых подвалах чахнут дети, где праздником бывает миска горячего картофеля.
Его сила была силой этих людей, его слабость — их слабостью, его счастье зависело от их счастья.
Сказочные чудеса с самого начала жили у Андерсена в дружном соседстве с буднями и прекрасно помогали оттенить поэтическое, посмеяться над уродливым. При этом ведьмы, и эльфы, и тролли, и феи думали, чувствовали и действовали чисто по-человечески.
В разговорах домашних вещей с карикатурной четкостью выступали пороки их хозяев: безбожно врал, хвастал и волочился напропалую нищий щеголь-воротничок, спесиво выпрямлялась самовлюбленная штопальная игла, фарфоровый дедушка-китаец, плененный титулом и богатством, готов был упрятать внучку в темный шкаф к безобразному Козлоногу…
Пышные тюльпаны и толстые пионы презирали скромную ромашку, желтые лилии напоминали кислых, чопорных сплетниц и лицемерок, важный индюк издевался над аистом, а ученый попугай читал нравоучения певчей птичке, упрятанной в клетку: в мире птиц и цветов тоже легко было с помощью фантазии и юмора открыть сходство с людьми.
Сказочник вкладывал собственные мысли и чувства в стойкого оловянного солдатика с его немой любовью к бумажной балерине, в храброго фарфорового трубочиста, ведущего пастушку в широкий мир, в гадкого утенка и серенького соловья. Но случалось, что тема требовала в герои не птицу, не цветок, не игрушку, а человека. Это были чаще всего печальные истории с плохим концом, в них говорилось о нищете и одиночестве, о страданиях и о смерти.
Девочка в лохмотьях, продающая спички, замерзала в двух шагах от теплой печки, от елки, от жареного гуся, и ее не ждало в конце чудесное спасение.
Правда, при последней вспышке спичек девочке почудилось, что умершая бабушка уносит ее на небо, но ведь это было только видение умирающей, никак не уничтожавшее ужас этой смерти. В «Тени» сказочными героями были сама тень и глупая принцесса, уверенная в своей «зоркости». Им и доставался счастливый сказочный конец. А ученый, которому вначале принадлежала тень, жил в нищете, потому что он проповедовал любовь к истине, добру и красоте, и погиб в тюрьме жертвой коварства и жестокости.
В сказке «Мать» героиней была простая, бедная женщина, у которой смерть похищала единственного ребенка. Мать шла искать его сквозь ночную метель и ветер. Чтобы узнать дорогу, она отдала свои глаза озеру и согревала, прижав к груди, замерзший колючий терновник, так что он зазеленел и расцвел. Свои прекрасные черные волосы она обменяла на седые космы старухи привратницы, чтобы войти в волшебный сад смерти и спасти свое дитя.
Все эти сказочные испытания помогали раскрыть силу и величие самоотверженной материнской любви. И когда вконец измученная женщина все же склонила голову перед «божьей волей», в этом тоже была правда жизни: многие поколения бедняков страдала и роптали, но не могли перешагнуть через веру, что «богу виднее».
Воспоминание о собственной матери вдохновляло Андерсена, когда он писал эту сказку, полную скорби.
Чтобы подчеркнуть, что он не хочет ограничивать себя рамками сказки в обычном смысле этого слова, Андерсен с 1852 года стал называть свои сборники «Сказки и истории».
«В датском народном языке слово «история» может означать и самую фантастическую сказку и простой рассказ», — пояснял он.
Андерсен любил бродить по копенгагенским улицам. Он знал, как они выглядят в разные часы, в разное время года. Вот капризный апрель мешает улыбки со слезами, поливает улицы мимолетным дождичком и одевает людей то по-летнему, то по-зимнему. Вот сентябрь с кистью маляра, он дотрагивается до листьев, и они пестреют желтым, зеленым и красным. А вот унылый ноябрь, он плачет навзрыд, чихает, сморкается, и у домов и прохожих тоже хмурый, простуженный вид…
С городского вала видна морская даль и корабли, плывущие к шведскому берегу. А если пройти немного, увидишь два мрачных здания: тюрьму и богадельню. В темных камерах за решетками и в бедных комнатках, где доживают свой век нищие старухи, скрыто столько грустных историй! А на валу с громкими криками и смехом бегают босые ребятишки, — не приведет ли и их судьба когда-нибудь за эти толстые стены?
…Мимо прошли нарядная толстая дама с молодым человеком, похожим на сложенный зонтик. Дама держит губки бантиком и слушает, как ее спутник горячо рассуждает о добродетели и благочестии. Маленькая нищенка робко подходит к ним, но они слишком заняты разговорами, чтоб обратить на нее внимание.
Смеркается, ребятишки бегут домой, влюбленная парочка шепчется у ствола огромного дерева, где-то грохочут кареты, везущие «избранных счастливцев». Кто-то из них сегодня получил третий орден за уменье вовремя молчать со значительным видом, другой доволен итогами делового дня: его секретарь не имел ни минуты отдыха из-за потока бумаг, да и сам начальник утомился, подписывая их лихим росчерком… Вот вышла из дому на поиски добычи известная всему городу сплетница, похожая на сову: в ее устах самая невинная мелочь превращается в ужасающее происшествие. Молоденькая служанка с заплаканным лицом идет, ничего не видя кругом: может быть, ее выгнала сварливая хозяйка, а может быть, жених променял ее на вдову с небольшим капитальцем.
Эх, глупый парень! Да разве деньги когда-нибудь заменяли хорошему человеку настоящую любовь?
А у чердачного окна большого грязного дома стоит худенькая бледная девочка, с тоской глядя на стены и крыши вокруг. Она больна, ей нельзя выходить, а мать ушла на заработки и не вернется до вечера…
Хорошо бы ей развести свой садик в ящике с землей, какой был когда-то у маленького Ханса Кристиана! И Андерсен медленно возвращается домой, неся в памяти несколько зернышек будущих сказок и историй обо всем, что он видел вокруг.
Раскрывая «Датский народный календарь» в 1852 году, читатели с радостью находили там имя Андерсена. Какая же будет новая сказка? Веселая или грустная? Но это была не сказка, а одна из тех историй, которые каждый мог встретить на своем веку: будничная и трагическая.
Бедная прачка стоит целый день по колено в холодной воде, колотит тяжелым вальком белье, полощет его, и течение рвет у нее из рук огромные надутые пузырями простыни. Она устала и замерзла, с утра во рту у нее не было ни крошки, а горы чужого белья еще ждут своей очереди. Худенький беловолосый мальчик приносит ей бутылку водки, и она подбадривает и согревает себя несколькими глотками. На сердце у нее тревожно и грустно: муж умер, сынишка мал, надо своими усилиями вывести его в люди, а сил становится все меньше… Когда-то она мечтала о большом счастье; молодой веселый студент из знатной семьи любил ее, и она любила его. Но госпожа советница не могла допустить, чтоб ее сын женился на простой служанке, — благоразумные люди так не поступают! И, поддавшись красноречивым уговорам, девушка вернула госпоже золотое колечко, полученное от ее сына.
Потянулись годы, и каждый приносил новую беду. И вот она, больная, измученная, плетется к реке в ветреный осенний день. «Прачка небось пьяна!» — ворчат знатные господа, провожая ее глазами. И когда она падает мертвая у самой воды, толстый, выхоленный бургомистр произносит свой приговор: спилась, дескать, ну и хорошо, что умерла, все равно была пропащая!
Кто мог представить себе все это ярче, живее, чем Андерсен, кому могли быть ближе горести бедной женщины? Ведь это была его мать, а он сам, худенький беловолосый мальчик, бежал к ней на речку, поеживаясь от осеннего ветра в своей старой курточке. И суровый голос пасторши: «Пропащая она, твоя мать!» — слышался ему сквозь все эти годы. Он вложил эти слова в уста важного бургомистра, хозяина города, — так еще резче выступала. пропасть между мирами бедняков и господ.
В рассказе не было никаких рассуждений автора, никаких его оценок — события сами говорили за себя, боль и негодование пронизывали простые, скупые фразы.
Давно уже затерялись на оденсейском кладбище для бедных могилы прачки и ее неудачника-мужа, но ведь каждый день вырастают новые холмики над людьми с такими же судьбами — и в Оденсе и в других местах, повсюду… Когда же будет этому конец? Когда же восторжествует справедливость?
«Напишите сказку о чудесной флейте, которая все ставит по своим местам!» — посоветовал Андерсену однажды его приятель Тиле, поэт и фольклорист, собиравший датские народные поверья. Эта мысль понравилась сказочнику: в самом деле, интересная бы получилась картина! Как полетели бы вверх тормашками сытые спесивые богачи, как попадали бы в грязь, если б волшебная буря разместила всех не по знатности, не по богатству, а по человеческим достоинствам!
Андерсен всегда считал, что именно в моральных качествах человека ключ к решению всех проклятых вопросов. Сделать так, чтобы наверху оказались добрые, гуманные люди, а злые, жадные, жестокие полетели вниз, — и все будет хорошо… Беда только в том, что он не знал, как это сделать. Тут получалось как у волшебника Крибле-Крабле: чтобы наладить дело, необходимо прибегнуть к колдовству, ведь сами злые богачи ни за что не согласятся на такой обмен! Правда, совсем недавно в Европе бушевала очистительная буря. Но когда она кончилась, все снова оказалось на прежних местах. Почему это так, Андерсен не мог объяснить. Ему казалось, что корень зла во взаимной злобе, в ненависти, в льющейся крови. И на страницах сказки чудесная флейта должна была восстановить справедливость быстро и безболезненно, отдавая должное и графу и пастуху.
Учитель в богатой усадьбе вырезал эту флейту из ивовой ветки. А ива была не простая: она выросла из сломанной ветки, за которую когда-то цеплялась бедная маленькая пастушка, — знатный барон, проезжая мимо, толкнул ее в грязь. «Все на свое место!» — крикнул он. Барон этот вскоре пустил на ветер родовое добро, и в усадьбе замолкли дикие крики кутил и лай охотничьих собак, — новыми хозяевами были пастушка и ее муж, сумевший сколотить достаточно денег. Потомки пастушки сами стали баронами — ведь дворянский герб можно купить, если у тебя хватает золота! — и выбросили портреты прабабки и ее мужа из пышных зал заново отстроенной усадьбы: «Все на свое место! Это были простые люди, мы им не чета!»
И вот на празднике в усадьбе учитель по требованию знатных гостей, желавших над ним посмеяться, поднес к губам свою флейту. Раздался резкий, пронзительный звук, а затем поднялся вихрь: он каждого относил на подобающее ему место. Понятно, что раз дудка принадлежала учителю, то и вихрь действовал в соответствии с его мнениями. А учитель говорил то же, что и сам автор сказки: дело, мол, не в знатности, а в душевных качествах. Не правы те поэты, которые объявляют все дворянское сословие никуда не годным, в нем есть прекрасные, благородные люди. Осадить же следовало бы только тех, которые зазнались и с презрением смотрят на «чернь».
Вот это самое и сделал вихрь: он подхватил папашу-барона и перенес его прямехонько в пастушью хижину, пастух же перелетел в усадьбу — не в залу, правда, — там ему не место, — но в лакейскую. В зале на почетном месте оказался сам учитель со своей дудкой, юная баронесса, скромная и добрая, и старый граф. Богатого же коммерсанта с его семьей и пару заважничавших крестьян, набивших себе карманы, вихрь побросал в грязь: «Все на свое место!» Тут флейта треснула и умолкла, и все вернулись на прежние места. Но придет еще время, когда все будет по справедливости. «Вечность длинна, длиннее, чем эта история!» — так кончалась сказка «Все на свое место!».
История усадьбы, описанная в ней, четко и наглядно показывала, что дворянство отживает свой век и уступает место новому «хозяину жизни» — буржуа с золотым мешком. Сказочник не становился на сторону ни тех, ни других — он был только за хороших людей и за справедливость. Но он не заметил, что весь ход сказки ставит под сомнение качество работы волшебного вихря. «Положим, все это так и произошло, — мог бы спросить Андерсена дотошный читатель, — учитель с молодой баронессой стали новыми хозяевами замка, а несколько жадных, надменных богачей остались барахтаться в грязи. Ну, а дальше-то что? Ведь пастушка и коробейник тоже были хорошими людьми, и это нисколько не помешало их детям и внукам стать высокомерными эгоистами и бездельниками. А у богача, попавшего в пастушью хижину, может вырасти добрый и хороший внук, за что же ему оставаться пастушонком?
Да и один и тот же человек вполне может измениться в течение своей жизни: попал в усадьбу справедливым, сострадательным, а там, глядишь, понемногу очерствел, зазнался, приохотился к роскоши… Выходит, что если б даже флейта не треснула, ей не под силу оказалось бы справиться с несправедливостью «домашними средствами», не трогая самого фундамента человеческих отношений». И Андерсену пришлось бы промолчать: он не знал ответа на эти вопросы.
С каждым годом датская буржуазия пускала корни вглубь и вширь: страна покрывалась железными дорогами, в городах дымили трубы новых фабрик и заводов, в деревне «крепкие» хозяева прибирали к рукам все больше земли и обрабатывали ее машинами, а бедняки уходили в города, на фабрику; от берегов Дании отплывали торговые суда, бороздившие моря и океаны, а в Копенгагене возникали банки и акционерные общества.
Андерсен с болью в сердце смотрел, как приличные, образованные люди окружают вниманием и почетом какого-нибудь разжиревшего коммерсанта или промышленника. «Как же, нельзя иначе, ведь он так сказочно богат!» — оправдывались они. «Господин такой-то дал целых сто ригсдалеров на благотворительные учреждения», — восторженно шептали дамы. «Он и его супруга настоящие меценаты: они охотно кормят обедами голодных поэтов… Ах, такое богатство все же внушает уважение… Оно как золотой ореол вокруг головы…» А что, если стереть позолоту? — негодовал Андерсен. Тут-то и останется их истинная суть: свиная кожа. Хорошо, что хоть в сказке можно отвести душу и назвать свинью свиньей!
…В детской было много игрушек, но над ними всеми возвышалась свинья-копилка, она стояла на шкафу. Живот у нее был так туго набит монетами, что она уже и брякнуть ими не могла, а это и есть высшее, чего может достичь такая свинья.
Глядя на окружающее сверху вниз, она чувствовала удовольствие при мысли, что может купить все, чего только пожелает, и это у свиней называется иметь добрые чувства.
И вот лунной ночью игрушки затеяли играть в людей. Как же они это делали? Очень просто: каждый думал о самом себе да еще о том, что скажет свинья с деньгами.
Прежде всего послали пригласительный билет на вечер свинье-копилке: она слишком высоко стояла, чтоб ее можно было позвать запросто! Свинья ничего не ответила, но всем было ясно ее желание: надо позаботиться, чтоб она могла глядеть на все увеселения, не двигаясь с места.
Сначала игрушки развлекались содержательной светской беседой: лошадь-качалка рассуждала о чистоте породы, детская коляска — о железных дорогах, стенные часы — о политике (и всегда отставали!), а две пухленькие шелковые подушечки, разукрашенные вышивкой, премило молчали: они были такие глупенькие!
Затем началась кукольная комедия, восхитившая зрителей: куклы были на таких длинных нитках, что могли производить из ряда вон выходящее впечатление, к тому же они показывались публике со своей лучшей (раскрашенной) стороны. Даже свинье-копилке захотелось сделать что-нибудь великодушное: например, упомянуть в своем завещании лучшего из актеров — пусть его похоронят рядом с ней.
Разумеется, такая честь каждого должна осчастливить. Но — вот беда! — свинья не успела заняться завещанием. Вдруг она упала и разбилась, и все скопленные ею монеты пошли гулять по белу свету. Но на другой день ее место заняла новая свинья, она так же важно молчала и так же набивала брюхо монетами — у всех этих свиней похожая история!
«Нас раздирают противоречия, мы видим несправедливость распределения жизненных благ, мы становимся свидетелями гибели талантов, триумфов злобы, глупости, порока…» — так говорит Эстер, героиня нового романа Андерсена «Быть или не быть?». В этих словах явственно звучал голос самого автора. Социальные противоречия мучили его своей неразрешимостью. Не видя выхода, он цеплялся за жившие в нем остатки наивной религиозной веры детских лет, веры, в которой его бабушка, его мать искали утешения в своей горькой судьбе. Прежде всего это была надежда на загробную жизнь. Как-то в конце сороковых годов, незадолго до смерти Эленшлегера, Андерсен завел с ним разговор.
— Столько хорошего вы получили на земле, — говорил старый драматург, посмеиваясь, — а вам еще подавай загробное блаженство! Не думаете ли вы, что претендовать на это слишком дерзко со стороны человека?
— Нет, я смотрю на это иначе, — грустно откликнулся Андерсен. — Ведь столько людей осуждены провести всю жизнь в беспросветной нужде и горе! Как же тут не верить, что хоть на небе их ждет что-то хорошее?
Нильс Брюде, герой романа «Быть или не быть?», проходил путь мучительных исканий: он отказался от религии, исповедуемой его отцом — пастором, религии мрачной, нетерпимой, фанатической. Героями Нильса стали Фауст и Эрстед. Чудес надо ждать не от прошлого, а от будущего, утверждал он, духи науки построят новый дворец Аладдина! И в этом он пытался найти доказательство божьего милосердия, приходя в конце романа к подновленному и смягченному варианту христианства.
К тому же пришел и сам Андерсен. Но с «научным обоснованием» религии дело шло туго, это напоминало попытку езды на двух лошадях, устремляющихся в разные стороны.
И в сказках, где на первое место выдвигалась религиозная идея, не оставалось места для прославления чудес науки. А эти чудеса великолепно существовали сами по себе, без божьего вмешательства. Кроме того, религия убийственно действовала на сказку, лишала ее живости и юмора, вела к слезливо-нравоучительным рассуждениям о добрых старушках, попадающих в «божий рай» раньше важных господ, или к вымученным, натянутым аллегориям.
Там же, где речь шла о суровой правде жизни, идея «божьего милосердия» явно не вязалась с фактами, повисала в воздухе. Так было в истории «На дюнах». Сын богатых родителей, погибших при кораблекрушении, попал в семью нищего ютландского рыбака. Пока он бегал по берегу и по степи босоногим мальчишкой, у него было много радостей и забав. Но вот он вырос, стал корабельным юнгой, получал вдоволь брани и тычков, еще больше работы, а еды и сна самую малость, потом его несправедливо обвинили в убийстве и бросили в темницу без особых разбирательств: дело ведь шло всего лишь о бедном рыбаке! Так он и сидел в темноте, в сырости, в холоде, мечтая о свободе, пока случайно не нашелся настоящий убийца. Тут бедного Йоргена выпустили на волю. «Твое счастье, что ты невинен!» — вот была и вся награда за его страдания. То ли еще случалось переносить бедным людям! Совсем недавно господа отбирали у них без церемоний последний клочок земли, а какой-нибудь лакей, барский любимец, чинил над ним суд и расправу, приговаривая к плетям и штрафам за вину и без вины…
На короткое время улыбнулись Йоргену счастье и любовь, но сердитое северное море отняло у него возлюбленную, а он, пытаясь спасти ее, лишился рассудка. Все его богатые способности пошли прахом. «Только тяжелые дни, горе и разочарование были суждены ему», — с грустью писал Андерсен. И вдруг делал из этого совершенно неожиданные выводы, «Йорген твердо уповал на милость божию, а это упование никогда не бывает обмануто». Правда, вся история говорила об обратном… Но ведь в запасе оставалось еще вознаграждение на небесах! Туда и пришлось отправить бедного Йоргена под звуки призрачных хоралов.
«Ни одна жизнь не должна погибнуть напрасно!» — это восклицание в конце истории невольно для Андерсена оборачивалось горькой иронией. Да и сам он смутно чувствовал, что концы не сходятся с концами… И оживляющей струей была вновь и вновь возникавшая надежда, что в будущем люди сумеют все же разумно и справедливо устроить жизнь на земле. И тогда-то, среди грохота машин, свиста паровозов, среди прирученных разумом человека стихий, родится прекрасная Муза нового века. Не правы те, кто говорит, что люди будущего будут слишком занятыми, практичными, деловыми, чтоб нуждаться в поэзии! Все будет у этой Музы: любящее сердце, ясный разум, живая фантазия. Дитя народа, она получит от него в наследство здоровые мысли и чувства, серьезные глаза, веселую улыбку. Она сумеет соединить в себе все лучшее, что дали ее предки: поэзию народных песен, задорную иронию Гейне, величие Шекспира и Бетховена. Пока что она еще в детской, эта Муза будущего, но ее стол уже завален книгами, у стен стоят прекрасные статуи, она хочет быть простой, ясной, глубокой, а на голове у нее гарибальдийская шапочка, потому что она любит свободу. Из какой страны зазвучит ее голос впервые? Из Америки — этой «страны свободы, где коренные жители стали гонимой дичью, а африканцы превращены в рабочий скот?» Или из Египта, загадочной страны сфинкса и пирамид? А может быть, из Англии, из Дании, из Австралии… Да мало ли еще откуда! Но приход ее неотвратим, как смена зимы весной, и поэт радуется ему. Привет тебе, Муза нового века!
1864 год был тяжелым годом для датского народа. Национал-либералы давно уже перестали изображать из себя «защитников свободы», в дружном союзе с консерваторами они старались ущемить права ригсдага и продолжали шовинистическую политику по отношению к Шлезвигу и Гольштейну. Этим воспользовался «железный канцлер» Бисмарк, давно собиравшийся «округлить» границы Пруссии за счет датских владений. Прусские войска двинулись на Данию, и датская армия отступала все дальше под их натиском.
В результате войны Пруссия захватила оба герцогства, и их надежды на самостоятельность потерпели крушение. Положение прусских провинций не принесло им никаких преимуществ, напротив, конституция Пруссии была еще ограниченнее датской.
Целый год Андерсен ничего не писал: на сердце у него было слишком тяжело. В воображении вставали мрачные картины горящих домов, вокруг которых с криком кружились аисты, полей, вытоптанных тяжелыми сапогами неприятеля, женщин в трауре с омертвевшими бледными лицами…
Но вот, наконец, в стране снова был мир, снова спокойно зеленели весенние поля и смеялись дети. Теперь, может быть, и новые сказки начнут стучаться в дверь? Нет, все тихо, видно, они забыли к нему дорогу… Временами он чувствовал себя старым и бесконечно усталым. Даже верное, испытанное средство — путешествия — не всегда помогало теперь стряхнуть это чувство. За последние годы смерть унесла многих дорогих ему людей: тихую Генриэтту Ханк и Иетту Вульф, Эрстеда и старого Коллина. Неужели и его жизнь близится к закату? Как не хотелось в это верить!
Славы было хоть отбавляй: ордена и чествования, почетные звания, хвалебные статьи, новые и новые издания его книжек дома и за границей. Когда он путешествовал по Испании и Португалии, его спутник Йонас, сын Эдварда Коллина, даже жаловался на утомительность всевозможных знаков внимания, которые дождем сыпались на «короля сказки». Да и сам Андерсен уже не так радовался им, как прежде.
«Вам я могу в этом сознаться, — писал он в 1865 году Эдварду Коллину, — я совсем не чувствую себя счастливым. Это неблагодарность с моей стороны, но я все больше и больше убеждаюсь в суетности, в ничтожности славы, знаменитости…» Ах, если бы можно было снова стать босоногим мальчишкой, собиравшимся завоевывать мир! «Неужто нам с тобой остались только воспоминания?» — обращался он к оловянному солдатику, полученному двадцать лет назад в подарок от маленького Эрика, сына немецкого поэта Мозена.
«Это чтоб Андерсен не чувствовал себя таким ужасно одиноким», — сказал тогда мальчик. И оловянный солдатик честно выполнял свой долг, сочувственно тараща глаза на хозяина, бравшего его в руки в минуты грусти.
А какой-то студент прислал Андерсену засохший четырехлистник клевера, который, по народному поверью, приносит счастье: он нашел эту былинку еще в детстве, объяснял молодой человек в письме, когда услышал от матери, что Андерсену пришлось испытать много горя. Но мать не решилась отослать этот подарок, а вложила его в книгу. Пусть же он хоть теперь отправится по назначению!
Да, все-таки легче жить, когда у тебя много друзей повсюду — и знаменитых и безвестных… И далеко не все позади, сказки придут, непременно придут и постучатся в дверь, и что-то хорошее, интересное должно еще с ним случиться, и мир станет со временем лучше, а люди добрее. Многих старых друзей нет на свете, но подросли их дети и внуки, а он еще не так стар, чтоб не находить удовольствия в обществе молодежи. Нежная дружба связывала его с темноглазой Ионной, дочерью Ингеборг Древсен, на товарищескую ногу были поставлены отношения с Йонасом Коллиным-младшим. Да и, кроме них, у него было немало молодых друзей, сопровождавших его в путешествиях, с интересом слушавших его воспоминания.
Словом, жизнь все-таки прекрасная вещь!
По-настоящему плохо, пожалуй, только то, что здоровье временами сильно сдает. Невзгоды, волнения, напряженная лихорадочная работа расшатали его нервную систему. Зубная боль доставляла ему страшные мучения. Живое воображение, бывшее прежде таким верным слугой, вдруг срывалось с цепи и выкидывало всякие фокусы: когда он плыл на корабле, ему вдруг с удивительной ясностью представлялась картина кораблекрушения; когда он засыпал, его охватывал страх перед летаргией, а во сне преследовали кошмары из прошлого. Грозное лицо Мейслинга снилось ему до самой смерти!
Но снова и снова невероятным усилием воли он стряхивал с себя уныние, болезненную раздражительность, тяжелые воспоминания, шел в театр и в гости, живо интересовался всем, весело и остроумно шутил, и только самые близкие друзья знали, с какими мрачными тенями борется подчас «счастливый сказочник».
Когда Андерсен проходил по улицам Копенгагена, некоторые прохожие почтительно здоровались с ним, другие смотрели вслед: многие из них выросли на его сказках, знали о его трудном пути, гордились его всемирной славой.
С годами сгладились недостатки внешности поэта, когда-то навлекавшие на него насмешки салонных остряков.
«Это был высокий, статный человек, с лицом, которое делал прекрасным отпечаток напряженной духовной жизни, — вспоминал о нем впоследствии один датский писатель, в шестидесятые годы бывший еще молодым студентом. — Он держался с большим достоинством, но был в то же время безгранично внимателен и дружелюбен по отношению к любому человеку, хотя бы то был совершенно неизвестный ему начинающий литератор». Андерсен слишком хорошо помнил, как это больно и тяжело, если на тебя смотрят сверху вниз, да и, помимо этого, всякое высокомерие, так же как и подобострастие, были глубоко чужды его натуре.
В Копенгагене с 1859 года возникло «Рабочее общество», ставившее культурно-просветительные цели, и Андерсен был первым из датских писателей, предложивших обществу свои услуги. В зале, битком набитом рабочими и ремесленниками, собравшимися послушать знаменитого писателя, который вышел из их среды, звучал его ясный, гибкий, глубокий голос. Он очень волновался перед этими выступлениями и всей душой радовался их успеху. Читал он удивительно просто, без всякой «театральности», но с бесконечным богатством оттенков, донося до слушателей каждое слово, и всем знакомые сказки каждый раз казались новыми и свежими.
…Его немножко обижало, когда ему говорили, что последние сказки не так значительны, как прежние. Но ничего не поделаешь, приходилось примириться с тем, что в общем восприятии он прежде всего автор «Нового платья короля», «Русалочки», «Соловья», «Гадкого утенка», «Тени», «Матери», «Пропащей», а не «Старого колокола» или «Сына привратника»…
Ветряная мельница, старый чайник, серебряная монетка и мотылек не отказывались рассказать ему свои истории, в которых было кое-что интересное и забавное. Но этим историям недоставало большого обобщения, в них не было сатирической остроты или глубокого, захватывающего волнения. Иногда в них повторялись мотивы более ранних сказок: «Блуждающие огоньки в городе» перекликались с «Тенью», «На утином дворе» — с «Гадким утенком». Буря, ставящая все по местам, снова разыгралась в сказке. «Ветер перемещает вывески», но ее «ручной» характер был виден еще яснее, чем раньше, хотя сказочнику она казалась значительной. «Вряд ли такая буря повторится при нас, разве что при наших внуках», — заканчивал он сказку и давал внукам «благой совет» сидеть дома, пока бушует вихрь.
Это было написано за шесть лет до Парижской коммуны! Да, в старости трудно понять то, что и в молодости было неясным… Новая расстановка борющихся сил была за пределами зрения Андерсена, для растущего рабочего движения на его палитре не нашлось красок.
Но с теми, кто «паровозы оставлял и шел на баррикады», у его сказок были общие враги, и маленькие крылатые истории перелетели за ту границу, которую время начертило их автору.
В начале декабря 1867 года город Оденсе выглядел ликующим, праздничным и принаряженным.
Толпы народу на улицах, песни и приветственные возгласы, факельное шествие, иллюминация, фейерверк… Все это на первый взгляд напоминало праздники, устраивавшиеся в честь королевских особ, но эти торжества бывали официальными, они не вызывали такого общего оживления, такой радости и гордости на лицах. Еще бы! Ведь на этот раз оденсейцы чествовали не короля, не губернатора, а своего земляка Андерсена, которого старики еще помнили мальчишкой в заплатанной курточке.
Гадалка предсказала этому мальчику, что когда нибудь родной город будет иллюминирован в его честь. Что ж, мудрая старуха на этот раз не ошиблась; оденсейцы, знавшие это пророчество из «Сказки моей жизни», выполнили его.
Андерсен стоял у окна ярко освещенного зала ратуши и смотрел на взволнованную толпу внизу. Бургомистр и другие важные господа окружали его, на столе лежали груды приветственных телеграмм, а в толпе народа были его старые товарищи школьных лет и их дети и внуки, теперешние школьники.
В богадельне он нашел сгорбленную старушку с огрубевшими руками, изуродованными ревматизмом, — это была Анна-Лисбета, которую он помнил милой смешной девочкой с тугими белыми косичками. «Это моя приемная сестра!» — сказал он директору богадельни, наблюдавшему их встречу.
Андерсен много раз бывал в Оденсе за эти годы, особенно пока живы были Генриэтта Ханк и ее мать, но, кажется, никогда еще вид знакомых узких уличек, старого домика, где прошло его детство, высоких стен старого собора не вызывали стольких воспоминаний. В них мелькнула и тень упрямицы Карен, которую он не хотел называть сестрой. Двадцать пять лет назад она пришла к нему в Копенгагене, он дал ей немного денег, поговорил с ней, пытаясь подавить непреодолимую, застрявшую в сердце с детства неприязнь. Больше он ее не видел. «Сегодня я мог бы встретиться с ней по-дружески», — подумал он, не зная о том, что своенравная Карен давно лежит в безыменной могиле на копенгагенском кладбище для бедных.
Волнение и усталость вызвали мучительную вспышку зубной боли. Она терзала Андерсена, когда детский хор пел посвященную ему песню, когда произносились приветственные речи и поздравления, когда ему торжественно вручался диплом почетного гражданина Оденсе. Зубная боль рисовалась ему в виде отвратительной тощей старухи, которая злорадно приговаривала: «Великому поэту — великая зубная боль! Ничего не дается даром. За все надо расплачиваться!» «Ну, погоди, я напишу о тебе сказку!» — мысленно обещал он ей. И вдруг она исчезла так же неожиданно, как появилась. Андерсен вздохнул свободно: теперь ничего не мешало ему насладиться своим праздником. Эх, если б еще не седые волосы да не морщины…
В начале семидесятых годов он совершил свои последние путешествия — в Париж, в Норвегию, в Швецию. Слабость, кашель, опухшие ноги мешали снова отправиться в путь, но он надеялся, что все это пройдет, и строил новые планы.
— Погоди, я немного окрепну, и тогда мы с тобой опять поедем куда-нибудь! — говорил он Йонасу Коллину-младшему. Йонас не спорил, чтобы не огорчать старика, но про себя думал, что вряд ли эти поездки смогут состояться.
Написаны были и последние сказки: «Что рассказывала старая Иоганна», «Тетушка Зубная боль», «Профессор и блоха». Гостя в старинных усадьбах, Андерсен напрасно бродил по липовым аллеям, по берегам озер, по цветущим полянкам в поисках новой сказки. Вот чудесная цветущая яблонька, а под ней скромный одуванчик, но он уже писал, что каждый из них по-своему прекрасен, что «существует разница между растениями, как и между людьми: одни служат для пользы, другие для красоты, а без третьих и вовсе можно было бы обойтись».
Белый дымок вьется над болотистым лугом — это там старуха болотница из народных поверий рассказала ему о коварных, бессовестных блуждающих огоньках, которые прикидываются людьми — кто пастором, кто государственным деятелем, а кто писателем — и сеют зло, раздор, ложь…
На широком кусте кувшинки давным-давно странствовала крохотная Томмелиза, а улитка, важно ползущая по стеблю розы, уже объяснила, что ей плевать на весь мир, она признает только свою раковину… Ветер, шевелящий листья старого дуба, рассказал когда-то сказочнику о надменном, расточительном Вальдемаре До, знатный род которого пришел в упадок и вымер. А новых историй не слышно в его шуме…
Нет, новой сказки нигде уже не сыскать, и это очень грустно. Но зато старые кивают и улыбаются со всех сторон — ох, как же их много! — надо утешаться этим. Кое-кто из молодежи поговаривает, что сказки отжили свой век, что писателю нужно только бесстрастно и точно описывать факты — все подряд, ничего не выбирая! — а от вымысла отказаться. Это, мол, будет строго научный подход. Неправда, сказка никогда не умрет!
2 апреля 1875 года Андерсену сообщили, что закончена подписка на сооружение ему памятника, и принесли составленный скульптором проект. Там изображался сказочник, со всех сторон облепленный ребятишками. Андерсен забраковал проект.
— Мои сказки адресованы столько же взрослым, сколько и детям! — волновался он. — И потом, когда я читал их вслух, я ни за что бы не потерпел, чтоб дети висели у меня на плечах. Зачем же изображать то, чего не было?
И проект был переделан по его желанию.
Чествование в день семидесятилетия было последним прижизненным триумфом Андерсена. Летняя духота и пыль заставили его переехать из Копенгагена на виллу «Отдых», принадлежавшую семейству его друзей.
Но ни свежий воздух, ни чудесный вид на пролив, ни заботы гостеприимной хозяйки не могли уже поправить дела: Андерсен совсем расхворался.
— Ничего, это ненадолго! — говорил он и еще в конце июля продиктовал ухаживавшей за ним приятельнице письмо к Йонасу Коллину — снова о планах путешествия. А вечером 3 августа у него начался жар, он беспокойно метался, и обрывки каких-то картин проносились перед ним… Тонкий рог месяца — он видел его когда-то… Ах, да, это было в Константинополе… И потом, в придунайских степях, скрипучие плетеные телеги, запряженные белыми волами… Все заволакивается туманом, смутно мелькает желчное лицо Мейслинга… Он жалуется старому Коллину на своего нерадивого ученика, надо остановить его, сказать, что это неправда… Но голос не слушается, да и Мейслинг уже исчез куда-то… Теперь слышится скрипка — громче, яснее вырисовывается фигура Оле Булля со смычком в руке, скрипка жалуется, негодует, со струн соскакивают крохотные голубые огоньки, их все больше, больше… И снова темно, а музыка звучит еле слышно, это уже не скрипка, это мать мурлычет ему сквозь сон старую колыбельную… И становится легко и спокойно, можно хорошенько вытянуться и спать, спать… В одиннадцать часов утра хозяйка виллы, дежурившая всю ночь у постели больного, ненадолго вышла из комнаты: Андерсен спал глубоким тихим сном. Незаметно его дыхание становилось слабее, слабее, а потом совсем затихло. Свежий ветер залетел в комнату, полный вестей о море и кораблях, дотронулся до неподвижного лица и умчался своей дорогой: здесь некому больше слушать его истории.
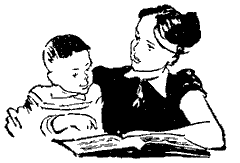
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава 14 К южной вершине
Глава 14 К южной вершине Покинув четвертый лагерь, участники «Горного безумия» увидели перед собой длинную вереницу мерцающих огоньков — за полчаса до них на маршрут вышли клиенты Роба Холла, и их налобные фонари светились теперь в темноте. Холл повел на гору
Глава III ГИТЛЕР НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ
Глава III ГИТЛЕР НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ 1938 год. Кризис Бломберга — Фрича. Присоединение к рейху Австрии и СудетБогатый различными событиями 1938 год начался неожиданным присвоением мне в ночь со 2 на 3 февраля звания генерал-лейтенанта и приглашением в Берлин на 4 февраля для
Глава VI На вершине славы
Глава VI На вершине славы Название главы требует пояснений. Почему именно 80-е годы XVIII столетия мы относим к пику политики просвещенного абсолютизма? Ведь в советской историографии прочно утвердился тезис, что эта политика дала самые плодотворные результаты в 60-е годы.
Глава 3 ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНЕ
Глава 3 ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНЕ 1979 год стал в судьбе Натальи Гундаревой очень важным. Впрочем, это сегодня, с дистанции прошедших десятилетий, все можно увидеть отчетливо и объемно. Для актрисы это был год как год, наполненный работой в театре, в кино, на телевидении, но
Глава 4 На вершине власти
Глава 4 На вершине власти Н. С. Хрущев – Председатель Совета министров СССРВ ночь на 1958 год Хрущев устроил в Большом Кремлевском дворце грандиозную встречу Нового года. Присутствовали члены Президиума ЦК КПСС, министры СССР, крупнейшие хозяйственники и военные
Глава VII. На вершине успеха
Глава VII. На вершине успеха 28. «Деревенская девушка» Если я не смогу сниматься в этом фильме, я сяду на поезд и никогда больше не вернусь. Я перестану сниматься в кино. А тем временем Уильям Перлберг и Джордж Ситон готовились к съемкам фильма «Деревенская девушка». Пьеса,
ГЛАВА IX НА ВЕРШИНЕ
ГЛАВА IX НА ВЕРШИНЕ Оглядываясь назад на пороге нового десятилетия, Андерсен видел внизу крутой, тяжелый подъем. Слава за границей далась в руки легко, сказки в семимильных сапогах обходили мир и побывали уже за океаном: впервые Андерсен услышал об этом в 1847 году от
Глава 4. НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ
Глава 4. НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ Гражданские войны закончились. Хилый и болезненный, плохо разбиравшийся в военном деле, Октавиан одолел всех своих врагов и соперников и достиг высшей власти. Ему было в этот момент тридцать три года. Его юность прошла в интригах и войнах, в
Глава 26. НА ВЕРШИНЕ
Глава 26. НА ВЕРШИНЕ С января 1945 года решением политбюро, в связи с необходимостью сосредоточить усилия на работе в ЦК ВКП(б) и Союзной контрольной комиссии в Финляндии (СККФ), Жданов оставил пост первого секретаря Ленинградского горкома и обкома, который занимал десять
ГЛАВА XIV. НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ
ГЛАВА XIV. НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ В новой фазе своих верований Толстой начал раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать с крестьянами в поле и писать для них книги. Появляются издания “Посредника”, и народные его книжки миллионами расходятся по
Глава седьмая На вершине славы
Глава седьмая На вершине славы Матч с шахматным кронпринцемПо возвращении в Петербург жизнь Михаила Ивановича вошла в обычную трудовую колею. Он много работал в шахматном отделе «Нового времени», где детально прокомментировал партии матча со Стейницем, сотрудничал в
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ 20 ноября в Тюильрийском дворце случайно был открыт потайной железный шкаф короля. В шкафу была найдена секретная переписка, в том числе письма Мирабо, Лафайета и других бывших видных деятелей революции к Людовику XVI. Разоблачения,
Глава 2 НА ПОЛПУТИ К ВЕРШИНЕ
Глава 2 НА ПОЛПУТИ К ВЕРШИНЕ Еще в Тбилиси Георгий Товстоногов искал материал, который позволил бы рассказать о современности с минимальной фальшью. В драматургии тех лет она царила безраздельно — трудовой энтузиазм мощно противостоял лени и безыдейности на заводах, в