16 ПРОСВЕТИТЕЛЬ
16
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
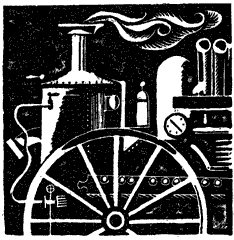
К 1870 году научная работа Гексли сократилась почти до предела, зато он держал в руках добрую половину организационных дел английской науки. За последние несколько лет он перебывал президентом Британской ассоциации, Этнографического и Геологического обществ. С 1871 по 1880 год он занимал такую стратегически важную позицию, как должность секретаря Королевского общества. Как член «Икс-клуба» он входил в узкий круг вершителей судеб науки; как член «Метафизического общества» был первым радетелем за науку в горнем собрании викторианских богов. В последующие восемь лет он входил в одну королевскую комиссию за другой, занимаясь самыми разными вопросами, от постановки обучения в средних школах до заразных заболеваний. Ему не раз предлагали баллотироваться в парламент, но он неизменно отказывался, зная, что положение политического деятеля лишь ограничит его возможности.
С каждым днем подмостки жизни все больше соответствовали своеобразию дарований и стремлений Гексли, ибо, пока он прибирал к рукам науку, наука прибирала к рукам викторианский мир. В известном смысле она и сотворила викторианство, создав предпосылки для промышленной революции и господства среднего класса. Победа среднего класса резче выявила противоречие меж протестантской верой и утилитарным рационализмом, подспудно созревавшее в сознании представителей этого класса, — и рационализм одержал верх. По части истоков сущего первым авторитетом вместо Моисея стал Дарвин, и его же начинали признавать первым авторитетом по части нравов. Да и само протестантство, надо сказать, при всей своей похвальной христианской праведности давным-давно отпустило политике «laissez faire» ее кровавые грехи и теперь мирно внимало поучениям Спенсера о том, как добродетельно и необходимо, чтобы неудачники умирали с голоду.
Тем временем зажиточное мещанство достигло некоего состояния устойчивого равновесия, которое в нынешнем вихре перемен стало символом социальной незыблемости. Отменив Хлебный закон[226] и законы о запрещении профсоюзов, улучшив условия труда на фабриках и сократив рабочий день, мещанство на время снискало себе поддержку рабочих; а избирая и переизбирая на различные должности аристократов, покрикивая на них в печати и с церковной кафедры, потеснив их у кормила власти, оно и из знати сделало нечто себе подобное, столь же степенное и негероическое. Англия не то чтобы разделалась со своими проблемами, а скорей заставила их отступить. Внушительная в своем единстве, несмотря на глухие и серьезные противоречия; словоохотливо и внятно изъясняющаяся в стихах и прозе, несмотря на изрядный сумбур в голове, великолепная в своей энергии, осторожная в компромиссах, она черпала вдохновение в чудесах Всемирной выставки, стращала себя кошмарами обезьяньего прошлого, а теперь утешалась прогрессом и барышами, по всей видимости, надежными и непреложными, как бег самого времени.
Прогресс не был больше нежданным и хрупким детищем случая и таланта. Он сделался упорядоченным, методичным, даже механизированным. Под методом и механизацией следует понимать, естественно, науку и ее техническое оснащение. Ученый с его приборами стал сверхчеловеком, чьи богоподобные таланты, всепроникающие и трепетно чуткие, равно устремлены в пучины беспредельно малого и беспредельно великого. Одна за другой прорезали тьму гипотезы, медленно, неуклонно совершенствуясь и оттачиваясь в эмпирическом соприкосновении с действительностью.
Необходимость быстро теряла свой престиж матери изобретений и открытий. Так, исследования Максвелла в области электромагнитных волн пятьдесят лет прождали своего часа, покуда ими не воспользовался изобретатель радио Маркони. Прилежно потирая Аладдинову лампу науки, викторианцы вызывали такие полчища слуг ее, что пока лишь самых маломощных и нехитрых из них удавалось занять полезной работой.
Однако даже этих немногих, слабосильных и нехитрых оказалось достаточно, чтобы провозвестить наступление века техники. Начав систематически применять энергию пара в своих повседневных целях, человек уже одним этим за несколько десятилетий изменил физические условия своего существования в большей степени, чем за несколько минувших столетий. Он уже начал свой удивительный путь паломника сквозь дремучие дебри механики. А в дебрях этих все менялось с волшебной быстротой, и человек день ото дня жил со все более грозным сознанием своих возможностей и своих искушений, в вечном и остром раздвоении человеческого существа. С одной стороны пути его манила улыбкой утопия, с другой — готов был разверзнуться ад кромешный.
Но в 1870 году об опасностях, таящихся в дремучих лесах механики, почти не подозревали. Опыт показал, что машина способна довести до нищеты и сокрушить физически, создавая самые дикие парадоксы, изобилие бок о бок с нуждою, бездействие наряду с бурной деятельностью. Рёскин пытался показать, что машина способна также привести человека к убожеству и духовному обнищанию, сосредоточив художественное творчество в руках немногих и навязав прочим немоту в искусстве и тупую обыденщину. С другой стороны, она же наводнила мир хлопчатобумажной тканью. Она быстро переносила множество людей через моря и земли. Она дала Европе и Америке возможность переговариваться друг с другом по проводу, проложенному по дну Атлантического океана. Паровой двигатель, газовые фонари, телеграф, открытие болезнетворных бактерий и получение сывороток для борьбы с ними сократили расстояния и одновременно усложнили, осветили и расчистили планету — похоже было, что со временем из нее получится устройство налаженное, хитроумное и надежное, как лучшие швейцарские часы. Средство, которое успешно разрешило столько застарелых проблем, должно было рано или поздно решить и новые, им же самим созданные.
Как бы то ни было, механизация стала для страны необходимостью. Могучими конкурентами обещали стать через несколько десятилетий американцы; опасными конкурентами уже теперь становились немцы. Пруссия, эта матерь законопослушания, безотказного, как часовой механизм, после столетнего безвременья обрела нового небесталанного часовщика в Бисмарке. Опять плавно завертелись колесики, с роковой точностью затикали секунды — и пробили часы, и, как карточные домики, стали рушиться империи, и задрожала Европа. Вместо Германии, страны сварливых князьков и ученых мистиков, внезапно появилась сверх-Пруссия — великая военная держава, опирающаяся на мощную промышленность и непревзойденную систему научного и технического образования.
Предусмотрительные англичане, несмотря на свой флот и свои банковские балансы, были не без оснований озабочены. Р. X. Хеттон выражал сожаление, что таким великим народом, как немцы, правит военная каста, неизмеримо уступающая ему и по общечеловеческим достоинствам, и по культуре. Гексли в начале войны 1870 года безоговорочно отдал все симпатии родине своего возлюбленного Гёте и непримиримо осуждал Луи-Наполеона. Однако ужасающая разрушительность современной войны, а может быть, и воинственная свирепость немецкой печати быстро охладили его пыл. «Боюсь, что всем нам предстоят скверные времена, — писал он своему другу Дорну[227], — и горше других придется Германии, если ее искусает бешеный пес военщины»..
Романтизму свойственно было изображать немца эдаким сочетанием благородной наивности и поэтической глубины. История же убедительно говорила, что немцы сочетают в себе незаурядную практическую энергию, способности к теоретизированию и необыкновенную склонность к повиновению. Они могли с любопытством вглядываться в первоосновы мироздания и благоговейно склонялись перед военным, кивером и парой эполет. Дисциплина и систематичность в соединении с богатым духовным наследием сделали образование в Германии источником сырья более ценного, чем все железо и весь уголь Рура. Германия находилась в состоянии неусыпной боевой готовности к открытиям и их коммерческому использованию, еще более боевой и неусыпной, чем ее готовность к войне.
В Англии между тем, хоть век уже перевалил за половину, образование с наукой не считалось. В школах, особенно мужских, закрытых, царило нечто среднее между ритуальным распорядком и полной смутой. На площадках для игр и на дворе мальчишки были предоставлены закону джунглей; в классе их приобщали зубрежкой и розгой к египетским таинствам джентльменского воспитания. Тот, кто прошел через это и выжил, обычно обладал большим запасом стойкости, набором более или менее серьезных пороков, кое-какими познаниями в греческой и латинской грамматике и неприятными воспоминаниями о знакомстве с отрывками из классической литературы. В 1828 году доктор Томас Арнольд[228] основал в Регби благодетельную христианскую деспотию, где школьников учили смотреть на жизнь как на серьезную нравственную обязанность, читать по-французски и по-немецки, а также понимать и переводить классиков. Пример Арнольда отчасти вызвал подражание, но главным образом — осуждение, особенно в Оксфорде, где выпускников Регби недолюбливали за их чванство.
На первых порах в полемике об образовании самыми ярыми глашатаями науки были Ф. У. Феррар и Герберт Спенсер. Феррар, который до этого преподавал языки в Харроу и в Винчестере, славился в свое время как сочинитель очень скверных романов об очень хороших мальчиках. Его пай-мальчикам жилось в школе безрадостно. Феррар считал, что аристократические учебные заведения в Англии не только создают дурную нравственную обстановку, но не тому и не так учат. Он утверждал, что в идеале учебная программа должна ставить на первое место естествознание, математику и современные языки.
Теория Спенсера представляла собой соединение его собственного опыта, обобщенного для простых смертных, и принципа «laissez faire» в биологической трактовке — иными словами, невозможного идеализма, препарированного с помощью совсем уже невозможного реализма. Умелым и знающим наставникам вроде его батюшки надлежало любовно выявлять в обыкновенных мальчишках самобытный талант к абстрактным умопостроениям и энциклопедическим познаниям сродни тому, которым наделен сам Герберт и который может со временем обеспечить их либо миллионным состоянием, либо всеобъемлющей философией. В то же время их не следовало вскармливать на слишком возвышенных идеалах, иначе они вырастали бы не приспособленными для той первобытной борьбы, какою является, по существу, жизнь в цивилизованном обществе. Наконец, по сравнению с классической литературой наука и щедрей и полезней: она оснащает ум фактами и методом мышления, а не просто мерилом красоты и хорошего вкуса.
К 1860 году обостряющаяся конкуренция в викторианской жизни бесцеремонно ткнула пальцем в викторианское образование. Унаследовав вкупе со всем прочим закрытые школы, верхушка среднего класса все больше становилась ими недовольна. Нет, она ничего не имела против египетских таинств как таковых. Они, бесспорно, наводили на учеников надменный джентльменский лоск. Но, с другой стороны, преуспевающие деловые отцы желали видеть своих отпрысков не только благородными, но и преуспевающими джентльменами. Весь ужас заключался в том, что египетские таинства, как их тогда преподавали, не обеспечивали молодым людям возможности отличиться на конкурсных экзаменах при поступлении на военную или гражданскую службу. Были люди, как, например, Мэтью Хиггинс и Генри Рив[229], которые утверждали, что заведения, подобные Итону, содержатся не ради нравственных и умственных интересов учащихся, а ради корыстных интересов обучающих. В учебную программу нужно включить математику и современные языки. А дела закрытых школ должна расследовать королевская комиссия.
Нападение либералов было встречено потоками красноречия растревоженных консерваторов. Сам Эдмунд Берк, отстаивая английскую конституцию, не превзошел бы их в напыщенности. Закрытые школы-де служат величавым воплощением издавна накопленного опыта. Каждый моральный и материальный кирпичик, из коих сложено здание Итона или Винчестера, с таким искусством подогнан к другому, кладка так изысканна и замысловата, что, конечно же, распадется при первом прикосновении к ней грубых лап реформы. Однако тоскливое и негодующее мычание многоглавого стада тори, сбившегося под сенью британского дуба, не могло заглушить назойливого стрекота кузнечиков-либералов, и хотя сам Гладстон дал понять, что видит в строго классическом обучении одновременно оплот религии и средство вольной гимнастики ума, все равно в 1861 году была назначена королевская комиссия. Она согласилась с возражениями либералов и рекомендовала закрытым школам перестроить существующие в них порядки, отвести важное место конкурсным экзаменам и включить в учебную программу музыку, рисование, историю, географию, английскую словесность, правописание и, главное, естественные дисциплины.
В 1867 году Дизраэли совершил свой знаменитый прыжок в неизвестность и, предоставив в новом билле о реформе избирательные права мелким налогоплательщикам, фактически допустил к участию в выборах основную часть среднего класса. Центр всеобщего внимания сразу переместился в сторону школ для низов среднего класса, большею частью захудалых и жалких подобий таких заведений, как Итон и Харроу.
В эти знаменательные дни Гексли был назначен директором Рабочего колледжа в Южном Лондоне и в своей речи при вступлении в должность — «Гуманитарное образование и путь к нему» — сурово осудил систему обучения в Англии вообще и начальную и среднюю школу в особенности. Невелика цена трем краеугольным ее камням: арифметике, письму и чтению, если они служат лишь тому, чтобы научить болтать невежество. Ничего не стоят и классические дисциплины, если они не знакомят учащихся с жизнью и образом мыслей древних. Гексли отмечает, что никак не хотел бы выглядеть противником классических дисциплин — они «с великолепной простотой излагают вечные проблемы человеческой жизни», хотя он и не дает четкого объяснения, чем именно они так важны для европейской цивилизации. В английских университетах мало крупных ученых, мало сколько-нибудь значительной научной работы, нет почти никаких возможностей для серьезных изысканий на обширном поприще современной науки и культуры.
Англии нужно более широкое, более реалистическое понимание гуманитарного образования. Цель такого образования — развивать и совершенствовать человека в целом: сделать его тело сильной, умелой «машиной», ум — «четким, трезвым механизмом логической мысли». Гуманитарное образование призвано воспитывать в людях любовь к прекрасному, чуткую совесть, здоровые и полнокровные страсти и сильную волю, чтобы держать их в узде. Оно должно также, сколько возможно, сообщать людям сумму знаний в их современном объеме. Образованию следует идти по стопам природы.
Природа, как невидимый партнер, играет с каждым из нас партию в шахматы. Очевидно, что хорошее образование должно научить человека правилам этой игры, ибо «удачный ход природы означает гибель». Здесь, как и в других случаях, Гексли дает понять, что научный метод, не говоря уже о самой науке, весть ключ к познанию природы, как окружающей человека, так и его собственной. Нравственный закон действует не менее непреложно, чем закон физический. «Если человек ворует или лжет, это с такою же неизбежностью приведет к дурным последствиям, как если он сунет руку в огонь или выпрыгнет из чердачного окна». Отсюда понятно, что нравственное образование должно с такой научной определенностью выявлять последствия добра и зла, чтобы добродетель становилась разумной необходимостью. Жутковатый внутренний смысл подобного взгляда на вещи Гексли приемлет с характерным для него мужеством — кое-кто назовет его характерным самодовольством. Если даже какому-то бедняку грозит голодная смерть, пусть он утешается тем, что причины этого ему известны.
«Разве не благом будет помочь такому человеку усмирить в себе естественные позывы к недовольству, обнаружив перед ним смолоду необходимую связь меж нравственным законом, воспрещающим воровство, и прочностью общества, доказав ему раз и навсегда, что ради его близких, ради него самого, ради будущих поколений ему лучше умереть голодной смертью, чем украсть?»
С некоторой поспешностью Гексли оставляет эту малоприятную альтернативу и обращается к более радужным сторонам будущего. Рабочему классу нужна не религия, то, есть средство удерживать его в смирении, но наука, средство сделать более производительным его труд. А средней буржуазии нужна не латинская грамматика, которой можно щегольнуть в светском обществе, а экономика, которая даст ей возможность сохранить главенство в промышленности и торговле — свое великое недавнее завоевание.
Противопоставление полезного и общепринятого у Гексли показательно. Потребности современного мира были ему куда понятней, чем достоинства традиционного образования. Его попытка найти нечто среднее между ними достаточно поверхностна. Толкуя о проблемах образования, он охотно прибегает к таким понятиям, как широта взглядов, человечность, счастье, красота, отдохновение; а весь строй его речи, все его обороты так и выпячивают совсем иное: детерминизм, механизм, силу, успех и истребление. Придавая слишком большое значение борьбе, которую должен вести цивилизованный человек с природой или себе подобными, Гексли требует для наук большей роли, чем им полагалось бы по-настоящему. Прежде всего — образование ради спасения живота своего, и уже потом — образование ради спасения души.
В 1869 году на обеде ливерпульского Филоматического общества Гексли произнес речь «О научном образовании», которую, затем издал по черновым записям. Скрипучий голос мещанства слышится тут еще явственней, а впрочем, хоть и не без иронии, здесь отдается должное и духовным ценностям. Англичане, как правило, исповедуют религию преуспеяния. Вот и прекрасно! Таинствам этой религии так или иначе суждена научная будущность:
«По мере того как все выше поднимается в своем развитии производство, совершенствуются и усложняются его процессы, обостряется конкуренция, — в общую схватку одна за другою вовлекаются науки, чтобы внести свою лепту, и кто сможет наилучшим образом ими воспользоваться, тот выйдет победителем в этой борьбе за существование, бушующей под внешней безмятежностью современного общества так же яростно, как меж дикими обитателями лесов».
Гексли считает, что научное образование должно служить двум целям: оно должно внушить человеку понятие о причинности и развернуть перед ним бескрайнюю картину вселенной. Необходимо, чтобы учащийся осознал и единообразие природы, и ее необъятность. Впрочем, в программу обучения не должны входить все науки. Гексли рекомендует вести ребенка от конкретного к абстрактному: начать он должен с физической географии, а затем основательно изучить какую-нибудь одну науку, которая занимается преимущественно классификацией, например ботанику, и одну, которая преимущественно исследует причинно-следственные связи — допустим, физику. А главное, ему надлежит усвоить основы индуктивного метода, который ведет от фактов к обобщению и, таким образом, дает наилучшую подготовку к практической жизни. Здесь Гексли, пожалуй, впадает в обычную для утилитаристов ошибку, полагая, будто разумное содержание учения порождает и разум, который этим учением овладевает.
Законом об образовании, изданным в 1870 году, была установлена система дотаций, чтобы тем самым побудить местные школьные советы ввести у себя всеобщее бесплатное обучение. В нем оговаривалось также, что народные школы, построенные исключительно на средства государства, должны быть безразличны к вероисповеданию учащихся. Гексли сразу увидел, что если в школьных советах на время бросят препираться о богословии и займутся светским или хотя бы духовным — но без сектантского уклона — обучением, можно будет нанести небывалый еще удар по невежеству. Сам он был и болен, и непомерно загружен, и, несмотря на это, все-таки подчинился логике происходящего. С тяжелым сердцем и чистой совестью он согласился выдвинуть свою кандидатуру в Лондонский школьный совет. Выступил на нескольких больших собраниях, написал для «Современного обозрения» статью, которую редактор Ноулс распространил как предвыборную программу, — и прошел вторым по количеству голосов.
Предвыборная статья его произвела огромное впечатление. «Школьные советы — их возможности и перспективы» — это политический памфлет, написанный с государственных позиций, разумно компромиссный и еще более разумно взывающий к здравому смыслу избирателей. Гексли заявляет, что напрасно религиозное образование служит причиной раздоров. Людей восстанавливает друг против друга и ожесточает не сама религия, а теология — наука, или, может быть, лженаука, трактующая «природу Божества и его отношения с миром». Религия же в существе своем есть благоговение, почитание, а эти чувства — неотъемлемая часть нравственности. В Англии религию лучше всего преподают в начальной школе: невзирая на вероисповедание школьников, читают им библию, которая «стала для Великобритании национальным эпосом» и, несмотря на все свои недостатки, остается «бесценным наследием нравственной красоты и величия».
Он предлагает широкую программу начального обучения, в которую, помимо чтения, письма и арифметики, должны входить рисование, музыка и основы физики. Кроме того, он отводит важное место домоводству. Бедность следует преодолевать в первую очередь усилиями самих бедняков: благополучие начинается дома — с расчетливого усердия мужа и жены. Какой другой довод мог бы так много значить для сердца и кошелька положительного обывателя-викторианца?..
Не без тайного содрогания ожидали пришествия профессора Вельзевула ревностные христиане и достойные пастыри из школьного совета. Все знали, как он, можно сказать, на глазах у паствы сожрал живьем достопочтенного епископа Оксфордского, так что возле кафедры остались лежать лишь широкополая шляпа да пара гамаш. Однако в Лондонском школьном совете Гексли обнажал свои клыки лишь для любезных улыбок. Он устроил так, чтобы набожные члены совета могли до заседаний пользоваться залом для своей молитвы, и, отказываясь примкнуть к крайним сторонникам светского обучения, решительно высказывался в защиту преподавания закона божьего в начальных школах.
Впрочем, такт и дипломатичность Гексли никак не распространялись на католиков, а их в Совете было трое. По опыту столкновений с такими людьми, как Уорд из «Метафизического общества», он знал, что при всем своем невежестве католическая церковь очень опасна. С непревзойденным искусством она прибегает к помощи рассудка для того, чтобы воспрепятствовать естественному предназначению рассудка — бескорыстным поискам истины. Церковь — «главный противник», она полезна лишь постольку, поскольку своими неуемными нападками держит в постоянной готовности науку и свободомыслие. Ходить к католикам обедать можно; прийти с ними к соглашению — никогда. За столом заседаний точно так же, как в дискуссионном зале, надо быть готовым в любую минуту отбросить всякую учтивость, дабы расстроить чьи-то козни или воспользоваться тактическим преимуществом. Когда кто-то предложил, чтобы деньги за обучение детей бедняков совет платил непосредственно школам, в которые принимают с учетом вероисповедания, Гексли категорически возражал, ибо в этом случае общественные средства угодили бы в руки католической церкви.
В деятельности на поприще народного образования за Гексли водился лишь один грех: как всегда, он пытался успеть, слишком много за слишком короткое время. А вообще, просто чудо, сколького он добился. За год и два месяца, что он пробыл членом Совета, он разработал Учебную программу, которая с честью вынесла испытание временем и до сих пор составляет основу учебного процесса в школах Лондона. То, чему обучались школьники — история Англии, английская грамматика и словесность, география, рисование, начала физики, — было предложено Гексли в его «Гуманитарном образовании» и других работах. Разумеется, он не был ни всемогущ, ни вездесущ и потому не мог предотвратить некоторых изъянов. Словно в насмешку, больше всего страдала наука. В начальных школах предложенную им физическую географию подменили просто географией, а в средних физику и ботанику вытеснила химия, причем преподавание и опыты были поставлены из рук вон плохо. Прежде зубрили латинские склонения, теперь стали зубрить химические формулы. Ни романтических поисков знаний под открытым небом, ни радостного волнения вновь открываемой истины в лаборатории.
Гексли знал, что мир не перевернешь вверх дном, сидя за столом Совета, и победу не одержишь только пером да чернилами. Как ни подчеркивал он необходимость хорошей учебной программы, он понимал, что конечная цель — это все-таки хорошая учебная программа, которую хорошо преподают. Обучение наукам кончится неудачей, если не будет толковых учителей. Поэтому летом 1871 года он прочел школьным учителям курс общей биологии, рассчитанный на шесть недель. Для этой цели в его распоряжение была предоставлена часть Южно-Кенсингтонского музея естественной истории — мрачной, похожей на замок громадины не то в норманнском, не то в викторианском стиле, и Гексли получил возможность осуществить то, чего не мог у себя в тесноте Джермин-стрит: впервые в истории биологии он ввел наряду с чтением лекций лабораторные работы. Непосредственное знакомство с природой оказалось для иных его слушателей чуть ли не откровением. Одному священнику, который из года в год преподавал естествознание по учебнику, показали под микроскопом каплю его собственной крови.
— Скажите пожалуйста — совсем как на картинке из «Физиологии» Гексли! — вскричал он.
Несмотря на все усилия Гексли, преподавание естественных наук в школах подвигалось вперед черепашьим шагом. В 1872 году, когда в Южный Кенсингтон перевели биологическое отделение Горного училища, Гексли сделал лабораторный практикум непременной частью всех курсов, какие он вел.
На политическом поприще перед талантами Гексли не могло устоять ничто. В школьном совете ему удалось совершить чудо куда более сверхъестественное, чем все божественные чудеса, которые он разоблачал: он доказал, что способен не только стирать духовенство в порошок, но и увлекать его за собою. Надолго сохранились у членов Совета живые и отрадные воспоминания о нем, и не один из них — как священников, так и непричастных к церкви — посвятил ему пылкие строки. «Как ни превосходил он меня силой и остротою ума… — благодарно писал преподобный Вениамин Во[230], — он никогда не относился ко мне свысока». Напротив, мистера Во главным образом поражала в Гексли как раз его «ребячливость»: «Никогда в его словах не бывало никаких подвохов. У вас не было ощущения, что он пытается навязать вам свои взгляды. Он просто передавал другим то, в чем был убежден сам».
Что-то не верится, чтобы Гексли и вправду был так простодушен, как это представлялось Во. Однако он действительно не производил впечатления закаленного в схватках вояки. Так, доктор Дж. Г. Гладстон, отдав долг восхищения его энергии и практической сметке, его умению сочетать твердую убежденность с готовностью вникнуть в образ мыслей другого, не без удивления вспоминает, что с точки зрения политика единственным слабым местом Гексли была известная ранимость, он не принадлежал к тем «толстокожим», которые могут спокойно сидеть и слушать, как их честят. Его выдающиеся способности к политике в один голос подтверждают заслуживающие доверия очевидцы. «Я не сомневаюсь, — писал в 1898 году Леонарду Гексли сэр Маунстюарт Грант Дафф[231], — что, если бы Ваш батюшка вошел в палату общин и целиком посвятил свою жизнь политике, он немногим уступал бы Гладстону как полемист и Брайту[232] — как оратор».
Гексли столько раз имел возможность быть избранным в парламент и так упорно пренебрегал ею, что кое-кто думал, будто никакой возможности стать членом парламента у него нет, а он изо всех сил ее добивается. Между тем сам он всегда считал себя не кем иным, как деятелем культуры. Более того, он не желал власти ради власти, предпочитая приносить пользу, а не просто быть на виду и иметь громкое звание. В 1871 году, например, когда в Королевском обществе освободилось место секретаря, мало кто помышлял, что Гексли согласится его занять. Должность была беспокойная и хлопотная, а он уже и так был перегружен и нездоров. К тому же ему определенно предстояло стать в недалеком будущем президентом. И тем не менее, сознавая, что в качестве секретаря он принесет больше пользы, он дал понять, что не возражает. И проработал секретарем десять лет.
Весь 1871 год Гексли продолжал, как нечто само собою разумеющееся, воевать на всевозможных словесных фронтах, защищая Дарвина от биологов, биологов от духовенства и государственное образование от тех, кто по-настоящему не верил ни в государство, ни в образование. Значительная часть работы была проделана в Сент-Эндрюсе после того, как он со множеством трудностей и отсрочек перевез туда все свое семейство (только что дружно разделавшееся с коклюшем) и получил, таким образом, возможность совмещать летний отдых с наездами в Эдинбург, где происходила сессия Британской ассоциации. Отдыхал он своеобразно: играл в гольф до ломоты в суставах, рылся, к изумлению библиотекаря, в латинских трудах теологов-иезуитов, дабы опровергать признающих эволюцию католиков, и посвящал каждую оставшуюся минуту сочинению новых статей. Наиболее значительная из них под названием «Административный нигилизм» была направлена против строгих приверженцев либерализма.
Эти господа утверждали, что правительство не должно заниматься образованием, потому что ему вообще ничем не положено заниматься, а бедным ни к чему получать образование, а не то они будут выражать недовольство своею бедностью. Но ведь средний класс возвысился собственными усилиями. Отчего же он теперь предпочитает систему, которая не дает хода талантам? Страна должна относиться к самородкам бережно, всячески их развивать и облегчать им путь вперед.
«Нищета — это спичка, которая никогда не гаснет; талант как взрывчатое вещество даст сто очков вперед пороху… Что придает силу социалистическому движению, всколыхнувшему сейчас до самых глубин европейское общество, как не упорная решимость одаренных от природы людей из пролетариата положить конец… нищете и обездоленности, в которую ныне ввергнута большая часть их собратьев?»
Короче говоря, Гексли был за равенство возможностей, хотя ни в коем случае не за равенство в распределений имущества.
Сочинение Милля «О свободе» предлагает современному миру, по мнению Гексли, слишком уж негативную точку зрения. Если личность свободна делать лишь то, что не приносит вреда другим, невелика ее свобода. Невозможно мыслить или действовать, не оказывая при этом никакого влияния на мысли и действия других. Ошибочное мнение или неблагоразумный поступок сами по себе всегда зло, а не добро. Человек, который не следит за исправностью своей канализации, представляет собою не меньшую угрозу жизни и свободе своих соседей, чем тот, кто тычет им в нос револьвер. Иными словами, известное вмешательство правительства ради порядка неизбежно. В каких пределах оно разумно и целесообразно, можно определить лишь на основе опыта и здравого смысла. Даже Гоббс не ограничивает миссию правительства лишь обеспечением безопасности, а Локк прямо заявляет, что «цель правительства есть всеобщее благо».
Так в чем же именно состоит всеобщее благо? По определению Гексли, в том, чтобы «каждый человек достиг всей полноты счастья, каким он может наслаждаться, не посягнув при этом на счастье других людей». В понятие же такого счастья Гексли склонен включить все, что нам дает личная неприкосновенность, материальное благополучие, искусство, наука, участие и дружба. Два последних блага могла бы, на взгляд Гексли, обеспечить государственная церковь, которая «должна посвящать свои службы не повторению абстрактных богословских догм, а тому, чтобы утвердить в сознании человека образец праведной, справедливой и чистой жизни».
Возвратясь домой после относительно безмятежного существования в Сент-Эндрюсе, Гексли с удвоенным жаром ринулся в водоворот своих будничных дел. Срок его пребывания на посту президента Британской ассоциации истек, но свободного времени все равно не прибавилось: сверх несметных своих повседневных нагрузок он, разумеется, еще вел лекционные курсы для школьных учителей, еще нес свои обязанности в Королевском обществе и школьном совете. Он входил в две королевские комиссии, одну — по инфекционным заболеваниям, другую — по содействию науке; он нескончаемой чередой выпускал учебники как для начальных, так и для старших курсов: «Анатомию позвоночных животных» в 1871 году, «Основы биологии» — в 1875-м, «Анатомию беспозвоночных» — в 1877-м, «Физиографию» — в 1877-м и несколько других. Жизнь его превратилась в запутанный клубок официальных должностей, в мелодраму несбыточных сроков, и тем не менее, даже позволяя себе иной раз бросить дела и позавтракать у Тиндаля или погостить денек-другой у Дарвина, он победоносно выполнял все, к зависти и невольному восхищению прочих занятых и энергичных людей.
В декабре 1872 года Гексли переехал из дома № 26 на Абби-Плейс в дом № 4 на Марлборо-Террас, переделав маленькое строение так, что в нем стало удобнее и просторней. Он приобрел эту недвижимость вопреки советам своего поверенного, которому явно внушал опасения владелец соседнего дома. «Есть что-то дьявольски приятное в том, чтобы очертя голову затеять рискованное дело наперекор своему поверенному в делах», — писал Гексли адвокату. И подписался: «Ваш своевольный…» А совершать невозможное становилось день ото дня все легче. В декабре он говорил жене, что никогда еще мысль его не работала так ясно и безотказно. Однако не прошло и недели, как наступил срыв, когда он не мог ни работать, ни думать.
Его настиг лютый враг викторианцев — диспепсия. Он съездил отдохнуть, но без особой пользы. «Вернулся, кряхтя и скрипя, как немазаное колесо», — жаловался он Гукеру. На другое лето он вновь тяжело заболел. «Я начинаю подозревать, что в минувшем году перетрудился, — с поразительной наивностью писал он своему другу Дорну. — Врачи затевают со мной серьезные разговоры и предрекают мне невесть что, если я, наконец, не отдохну как следует, впервые за столько времени». В конце концов он сдался и скрепя сердце отправился в Египет. На Мальте и в Гибралтаре он задержался, чтобы по поручению морского министерства установить, откуда в галетах все время берутся неведомые червячки. Виновник сего обстоятельства был, по-видимому, не только таинствен, но и не слишком приятен на вкус, и среди матросов назревало серьезное недовольство. Гексли наскоро познакомился с обстановкой и обнаружил, что рядом с тем местом, где пакуют галеты, хранится большое количество неочищенных бобов какао. Яички насекомых переносило ветром на морской склад. Гексли распорядился, чтобы галеты паковали в другом месте, и злодей был обезврежен.
В Египте, колыбели истории, он произвел кое-какие наблюдения: верхняя часть пирамиды Хефрена[233] оказалась сложена не из гранита, а из известняка, а необожженный кирпич в Мемфисе имел точно такую же слоистость, как нильский ил. На одной из самых удачных его зарисовок стервятник сидит и ждет в нетерпении, когда шакал закончит свое пиршество над трупом. Его сын утверждает, что Египет произвел на него «глубокое впечатление». И возможно, научил его маломальскому благоразумию; во всяком случае, именно там Гексли решил выйти из школьного совета и никогда больше не взваливать на себя столько работы. Так-то оно так, но в его письмах из Италии что-то подозрительно часто встречаются упоминания о вулканах, пепле и потоках лавы.
6 апреля Гексли сошел на землю Англии. Он загорел, оброс бородой, но по-настоящему не выздоровел. Очень скоро спешка и суета английской жизни снова вызвали у него расстройство пищеварения и подавленность. Его врач, сэр Эндрю Кларк, посадил его на строгую диету, и он ненадолго уехал в Девонширскую глушь. Однако новые почести и обязанности настигли его и тут. После ожесточенной борьбы он был избран лорд-ректором Абердинского университета и примерно в это же время, сам не заметив как, втянулся в защиту Гукера от новых происков сэра Ричарда Оуэна.
Жил он теперь в своем новом доме на Марлборо-Террас — кстати, выяснилось, что поверенный остерегал его не зря. Сосед, эта сомнительная личность, утверждал, будто от водостока в доме Гексли у него отсырел фундамент. Он даже пустился на шантаж, а потом подал в суд. Иск отклонили, да еще обязали его уплатить судебные издержки, но лишние волнения и заботы опять серьезно сказались на здоровье Гексли. Сэр Эндрю Кларк велел ему ехать за границу, но оказалось, что ехать ему не на что. Больше того: он уже взял в долг у Тиндаля, чтобы расплатиться за кое-какие перестройки. Положение было самое унизительное. Два года тому назад он успешно исцелял от недугов науку Англии. Теперь же у него не было средств, чтобы восстановить собственное здоровье. И тогда он получил письмо.
«Дорогой Гексли!
Несколько Ваших друзей (числом восемнадцать) просили меня поставить Вас в известность о том, что они положили через Робартса, Леббока и К° на Ваше имя в банк сумму в 2100 фунтов. Мы сделали это, чтобы дать Вам возможность отдохнуть, сколько потребуется для поправления Вашего здоровья, и убеждены, что этот поступок отвечает не только самым искренним нашим желаниям, но и общественным интересам. Уверяю Вас, что все мы Ваши добрые и близкие друзья, среди нас нет ни одного постороннего или хотя бы просто знакомого. Если б Вы слышали, что тут говорилось, или могли прочесть наши сокровенные мысли, Вы знали бы, что мы все питаем к Вам чувства, какие питали бы к любимому и почитаемому брату. Я не сомневаюсь, что Вы ответите нам тем же и с легкой душой позволите оказать Вам эту небольшую помощь, потому что для нас это до конца наших дней было бы счастьем. Мне остается лишь прибавить, что этот замысел возник почти в одно и то же время сразу у нескольких из Ваших друзей, и притом совершенно независимо.
Любящий Вас, милый Гексли, Ваш друг
Чарлз Дарвин».
Это предложение явилось результатом тайного и ловкого сговора — что ж, так и надлежит обставлять свои благодеяния настоящим друзьям. Первой напала на эту мысль леди Ляйелл. Она шепнула словечко Эмме Дарвин, а та сказала Чарлзу. Чарлз с жаром ухватился за это предложение и осуществил его. «Сегодня он послал митеру Гексли то страшное письмо, — делилась Эмма с Фанни Аллен, — завтра, надеюсь, придет ответ. То-то будет гроза!» Но никакой грозы не последовало. Глубоко тронутый и слегка присмиревший, Гексли принял дар.
Летом 1873 года с Гукером в роли добровольной няньки и ворохом медицинских наставлений вместо путеводителя он поехал во Францию. Несмотря на принужденную веселость и постоянную готовность взять на себя большую часть путевых забот, нетрудно было заметить, что он, по заключению Гукера, страдает «жестокой душевной депрессией», которая продолжалась до тех пор, покуда ему в парижской книжной лавке не подвернулась «История чудес в Лурде», «возбуждавших тогда во Франции религиозный пыл верующих и интерес ученых». Отрадная перспектива сразиться и сокрушить подняла его дух и укротила непокорное пищеварение. С упоением переворошив груды трактатов, он быстро свел все видения и исцеления к естественным причинам. Гукер не преминул отметить, как благотворно подействовал на его друга сей акт неверия, и в горячем стремлении закрепить достигнутое вкладывал в их вылазки всю пылкую мальчишескую увлеченность, на какую был способен. Успех превзошел всякие ожидания. Друзья предприняли геологическую одиссею по Оверни, поднимались на потухшие вулканы, обследовали долины в поисках свидетельств оледенения, курили сигары, обнаружили скелет доисторического человека в каком-то музее, беспечально перенесли желудочное расстройство в Гренобле, а под конец просто-напросто предавались лени и праздному любопытству.
Тогда же Гексли написал своей жене удивительное письмо:
«Я подолгу рассуждал наедине с собою о будущей моей деятельности… Роль, которую мне назначено играть, не в том, чтобы основать новое идейное течение или примирить противоречия старых. Мы живем в разгар небывалого движения, оно превосходит по своему размаху движение, которое предшествовало Реформации и породило ее и, по существу, представляет собой лишь его продолжение. Однако в идеях, лежащих в основе этого движения, ничего нового нет, и ни о каком примирении между свободной мыслью и общепринятыми учениями речи быть не может. Какая-то сторона вынуждена будет уступить после борьбы, которая продлится неведомо сколько и будет сопровождаться огромными политическими и социальными потрясениями. Победу в конечном счете одержит свободная мысль, это для меня несомненно, как то, что я сижу сейчас и пишу тебе письмо. Несомненно и то, что эта свободная мысль организует себя в стройную систему, объемлющую жизнь человека и внешний мир как единое и гармоничное целое. Правда, такая организация потребует усилий не одного поколения, и двигать ее вперед будут, конечно, в первую очередь те, кто учит людей не доверяться лжи, не обманывать себя пустыми словами. Вот в этом смысле, пожалуй, я смогу немножко помочь — а может, быть, уже и помог немного».
Редко случалось ему после этого высказывать столько веры в будущее.
Из Оверни путешественники направились в Шварцвальд и там расстались. Гукер вернулся к своим обязанностям в Кью, а Гексли поехал дальше со своей женой и сыном Леонардом, которому минул тогда двенадцатый год. У отца теперь был досуг, была возможность взглянуть на сына свежими глазами и убедиться, что мальчик весьма неглуп и подает большие надежды. «На днях стал было рассказывать ему что-то насчет ледников, — писал Гексли из Швейцарии Тиндалю, — но он меня тут же заставил умолкнуть:
„Ну да, я это все знаю. Про это у доктора Тиндаля есть в книге“».
Тут любящий родитель не в силах сдержаться: «Прелесть что за мальчишка!» — а дальше половина письма — сплошные извинения за свою гордыню.
Возвратившись домой наконец-то в добром здравии, Гексли возобновил свою разностороннюю деятельность — и прежде всего в области образования. Теперь он сделался в полном смысле слова просветителем-совместителем: он был лорд-ректор Абердинского университета, заведующий Оуэновским колледжем и ко всему этому — профессор Горного училища.
В начале 1874 года он произнес свою запоздалую речь в связи с избранием его лорд-ректором Абердина — «Университеты существующие и университеты идеальные», — которая начинается с истории научной мысли в Европе и кончается здравой оценкой значения лекций и экзаменов. В ней, по сути дела, предлагается, чтобы учебная программа по медицине состояла из меньшего количества предметов, но эти немногие более основательно изучались. Ботанику и зоологию следует отделить от медицины и объединить в самостоятельный факультет; должным образом оснащенный для преподавания и научной работы: если Англия намерена когда-либо догнать в научном отношении Германию и Францию, ее исследователи должны иметь возможность проводить исследования. В этой речи, как и в своих статьях последнего времени, Гексли продолжает сводить личные счеты с римским папой. Схоластика, бывшая некогда вершиной в теоретическом объяснении реальности, ныне выступает самым стойким из предрассудков в сфере мысли. Она вобрала в свои учебные программы новую классику, но не новую науку, ибо наука есть глас разума и потому «заклятый враг» схоластики. Протестантство — просто шаг навстречу разуму и рационализму.
Этот год ослепительного должностного блеска и высоких академических почестей был отмечен еще более яркими, хоть и несколько зловещими, сполохами, когда в Бристоле открылся съезд Британской ассоциации. В своем вступительном слове президент ассоциации Тиндаль напомнил о победах, которые от Демокрита до Дарвина наука одерживала над богословскими заблуждениями.
Он признал, что связь меж сознанием и движением молекул пока еще не найдена. И все же он провозгласил материю в правильном ее понимании той магической субстанцией, которая даст нам постигнуть все тайны и разрешить все противоречия. Он назвал материю истинным символом и принципом прогресса, объединяющим невидимые атомы с невидимым же разумом, а то и другое — с бесконечными возможностями, которые лежат за ними. Но ведь наука, утверждал он, не может объять всего на свете. Наука призвана уцравлять познавательными способностями, «творческими» же стремится управлять религия — впрочем, эти последние, что бы под ними ни подразумевалось, быстро растворяются в «бездонной лазури» Тиндалевой риторики.
Эти общеизвестные ныне взгляды были изложены с такой силой и выразительностью, что у церковной братии, точь-в-точь как в 1859 году, по спине пробежали мурашки. Зал заседаний клокотал, газеты как ирландские, так и английские, бурно негодовали. Гексли стал советоваться, стоит ли ему выступать со своим докладом «Гипотеза о том, что животные есть автоматы, и ее история», назначенным на третье вечернее заседание. Он был очень не прочь предаться иной раз такого рода колебаниям, а еще более не прочь от них отрешиться.
«Надо брать быка за рога», — сказал он своему молодому другу и ассистенту Ланкестеру.
Конечно же, собралась тьма-тьмущая народу. Гексли окинул собравшихся быстрым оценивающим взглядом, перевернул вниз текстом свои тщательно подготовленные записи и полтора часа вдохновенно импровизировал о чрезвычайно сложных материях.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава III. Ученый-просветитель
Глава III. Ученый-просветитель аряду с дипломатической деятельностью Н. Милеску Спафарий занимался также научной работой, переводами, педагогической практикой, активно участвовал в общественной жизни Молдавии и России.Сведения о его научной работе в Молдавии весьма
Просветитель «эпохи изоляции»
Просветитель «эпохи изоляции» Так вот, я вам рассказывал, чем я деньги зарабатывал. Педагогикой всякой, ну и пением, и докладами в ППУОКРе. А летом всю эту педагогику и военное пение прекращал, работал на станции и изучал озера. Четыре с половиной, пять месяцев на станции
16 ПРОСВЕТИТЕЛЬ
16 ПРОСВЕТИТЕЛЬ К 1870 году научная работа Гексли сократилась почти до предела, зато он держал в руках добрую половину организационных дел английской науки. За последние несколько лет он перебывал президентом Британской ассоциации, Этнографического и Геологического