ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ МИР – ЛИШЬ ЛУЧ ОТ ЛИКА ДРУГА
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
МИР – ЛИШЬ ЛУЧ ОТ ЛИКА ДРУГА
Мир – лишь луч от Лика друга, Все иное тень его!
Николай Гумилёв
…И мы смеемся с новыми друзьями, А старых вспоминаем по ночам…
Вадим Егоров
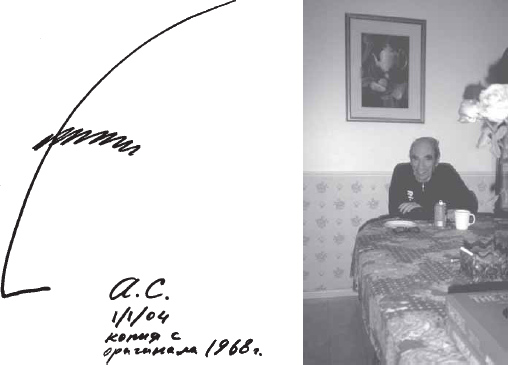
Блюм. Дружеский шарж Армена Сарвазяна.

Мы с Блюмом на ранчо Джима Соренсона на юге Юты.
Блюм (Лев Александрович Блюменфельд) – у нас в Солт-Лэйк-Сити, 2000 год. Блюм приезжал ко мне в Юту несколько раз, пару раз я организовывала ему курсы лекций на нашем факультете.
Познакомились мы очень давно, в Москве, но тогда между нами была пропасть поколений, с годами постепенно зараставшая. Я знала, что Блюм – великий ученый, хороший поэт, человек блестящего остроумия и необыкновенного мужества. Это создавало во мне внутренний барьер, который по молодости и незрелости мне трудно было преодолеть. Но однажды мы почему-то оказались в одном купе – совершенно не помню, куда и зачем ехали. Блюм спросил:
– Хотите, я почитаю вам очень хорошие стихи одного очень хорошего поэта?
Я, конечно, обрадовалась, и он довольно долго читал мне свои стихи – некоторые действительно очень хорошие, а потом сказал:
– Я бы очень хотел прочитать вам еще одно стихотворение, но оно со словами…
– Обижаете, Лев Александрович! Вы что же, думаете, я слов не знаю?!
– Знаете? – обрадовался Блюм. – Замечательно, тогда прочитаю. После этого он довольно долго молчал, потом сказал смущенно:
– Видите ли, в чем дело: слова помню, а стихи забыл!
Но по-настоящему мы подружились уже после моего переезда в Америку.
Неотразимому обаянию Блюма были одинаково подвластны и высокие русские интеллектуалы, и простые англоговорящие мормонские бабы.
Чтобы полностью вникнуть в то, о чём я сейчас вам расскажу, вы должны иметь в виду, что американский Запад, где я живу, недаром называется «Диким Западом». Американский народ вообще свято охраняет свою «прайвэси» (частную жизнь и территорию); к примеру, у нас в Юте хозяин дома имеет право застрелить непрошеного гостя, если тот, пусть просто по ошибке, но без предварительного разрешения пересёк порог его дома. Поэтому даже шериф, навестивший вас по какой-нибудь надобности, позвонив в вашу дверь, быстро отступает на метр от порога и из этой дали на вытянутой руке протягивает своё удостоверение. На воротах частных владений, а иногда и на некоторых дорогах, так и написано чёрным по белому: «Частная собственность. Не пересекайте». И каждый знает: пересечёшь – могут застрелить и не будут в ответе.
Теперь вам легче будет сполна оценить события, о которых я собираюсь рассказать. В два часа того дня Блюм должен был читать на нашем факультете первую лекцию недельного цикла. Это означало, что примерно в час мы должны были выехать из дому. После завтрака, часов в десять утра, Блюм объявил, что отправляется в супермаркет за сигаретами, потому что форменное безобразие, что в доме нет сигарет. В данном конкретном случае сигарет в доме не было не только потому, что никто из нас не курит, а ещё и по моему злому умыслу – я полагала, что Блюму с его измученным сердцем не полезно поддаваться этому пороку, не хотела его поощрять и надеялась, что «на нет и суда нет». Но не тут-то было. Блюм взял свою палку, отправился в супермаркет – и пропал. Супермаркет был в двух шагах от нашего дома, даже блюмовским шагом максимум минут пять ходьбы… Когда он не вернулся через полчаса, я начала волноваться, через сорок минут помчалась в супермаркет, но его там не было, и никто ничего путного не мог мне сообщить. Через час я уже не находила себе места, мы с Володей прыгнули в машину и начали колесить по району, время от времени заскакивая домой посмотреть, нет ли сообщения на автоответчике. Дело шло уже к часу дня, я была в ужасе и расспрашивала работников ближайших автозаправок и бизнесов, не видел ли кто-нибудь из них поблизости «Скорую помощь», подбиравшую пожилого господина с палкой. К счастью, никто ничего такого не видел. Я терялась в догадках..
Наконец в один из наших заскоков домой раздался телефонный звонок.
– Приезжай немедленно меня забрать, – сказал Блюм приказным тоном, занимая наступательную позицию и предваряя мои вопли. Впрочем я и вопить-то в этот момент как следует не могла, у меня в мозгу стучало только одно – слава Богу, живой!
– Где вы?
– Около мормонской церкви.
– Замечательный ориентир, – прорычала я, – у нас в городе пятьсот двадцать девять мормонских церквей.
– Хорошо, сейчас с тобой поговорят.
Милый женский голос сообщил мне по-английски необходимые ориентиры, и минут через десять я уже подбирала на углу улицы слегка смущённого Блюма с палкой, пачкой сигарет и огромной котомкой яблок и груш в руках.
– Это ещё откуда?
– Мне дала та женщина, к которой я зашёл.
– Какая женщина? Зачем зашёл?
– Я вышел из супермаркета через заднюю дверь вместо передней, задумался и пошёл не в ту сторону. Шёл, шёл, смотрю – что-то твоим домом не пахнет. Я пошёл назад, думал скостить дорогу и окончательно заблудился. Потом увидел – в одном дворе женщина возится в саду, но пока я подошёл, она ушла в дом. Дверь она оставила открытой, я и вошёл. Она сначала очень испугалась, но потом мы разговорились, я сказал ей, что заблудился – кстати, как это по-английски? – она перестала меня бояться и разрешила тебе позвонить. Очень милая женщина, мы замечательно побеседовали, она напоила меня вкусной водой и угостила грушами и яблоками из своего сада. А эти просила передать тебе, так что видишь, я не зря сходил за сигаретами.
– Вы понимаете, что она могла вас застрелить?! – дуэтом заорали мы с Володей.
– По-моему, она сначала так и хотела, но потом взглянула на меня и угостила грушей. Я ей очень понравился. У неё хороший вкус. А ты что смотришь на меня, как ведьма?
– Я битых два часа носилась по району, расспрашивая встречных-поперечных, не видел ли кто неотразимого красавца, этакого Марлона Брандо, с клюкой, ломаным английским и сонмом поверженных мормонских матрон вокруг. Я уже собиралась ехать в университет, отменять семинар и объяснять, что профессор сегодня лекцию читать не может, потому что в данный момент фотографируется для обложки журнала «Плэйбой».
– Фу, какая злая, – поморщился Блюм. – Перестань ведьмиться. Жаль, что я не познакомил тебя с той милой женщиной, тебе было бы полезно посмотреть, как выглядят добрые и отзывчивые люди.
Я хотела зарычать в ответ, но тут мы подъехали к университету…
– Надо же, яблоки дала! Груши! А ведь могла бы и бритвочкой, – долго ещё переживал Володя, прилежный читатель отдела происшествий местной газеты, перефразируя известный анекдот об Ильиче…
Что есть, то есть – обаяние Блюма было неотразимо.
…Блюм присылал мне из Москвы чудные письма и стихи, некоторые грустные, другие забавные, часто смешанные русско-английские:
Когда возможностей поменьше,
Смотри придирчивей на сорт…
Я не люблю ученых женщин,
Которые не Рапопорт.
Нет на свете ни чужих, ни наших,
Все преграды на пути круша,
Борется отчаянно Наташа
В одиночку против США.
Идя сквозь жизнь по перекресткам сплетен,
Под грудой тяжкою незавершенных дел,
Какую женщину в Америке я встретил!
Какую женщину в России проглядел…
Устав от химфизичных морд,
От бардака и неуюта,
I came to charming Рапопорт
First Science-Lady of the Utah.
I stay here only one short week
И раз в два года или реже,
Но кажется, уже привык
Быть рядом с нею – what a pleasure!
Мне нравились не все его стихи и не вся проза, и я откровенно ему об этом говорила. Блюм критики от меня не терпел, спорил и сердился. Чтобы заранее меня обезвредить, на книге стихов сделал мне такую надпись: «Наташке. Эти стихи нравятся людям с сильно развитым художественным вкусом. Помни это, читая. Л.».
Он успел при жизни увидеть напечатанными и роман свой «Две жизни» (спасибо Сереже Никитину), и книгу стихов. Он был им бесконечно рад, и я счастлива, что он получил от жизни этот подарок.
Нет на свете ни чужих, ни наших, Все преграды на пути круша, Борется отчаянно Наташа В одиночку против США.
Идя сквозь жизнь по перекресткам сплетен, Под грудой тяжкою незавершенных дел,


С годами всё труднее заводить новых друзей. Со старыми – багаж прожитых лет, пуд съеденной соли. Им можно сказать: «А помнишь?» Новых не спросишь.
С замечательным художником Михаилом Туровским и его женой Софой меня познакомил Губерман. Я впервые переступила их порог, но уже через десять минут ловила себя на совершенно иррациональном импульсе спросить: «А помните?..» – словно мы прожили бок о бок предыдущие пятьдесят лет. Такие родные оказались люди.
Думаю, что Миша – один из лучших, если не лучший художник своего времени. Только не подумайте, что он это время представляет, скорее наоборот. Искусство конца двадцатого века – искусство распада. Михаил Туровский идёт против течения как хранитель, продолжатель и наследник лучших традиций предшественников. Впрочем, я не искусствовед и эту тему развивать не буду. Просто я погружаюсь в его картины и могла бы проводить среди них долгие счастливые часы, если бы жизнь позволяла. Миша и Софа живут в Нью-Йорке, и видимся мы, к сожалению, гораздо реже, чем мне бы хотелось…
Судьба настоящего художника, как правило, полна драматических событий, и Миша – не исключение. Потомки, конечно, разберутся, напишут роман, снимут фильм. А пока на Мишиной родине в Киеве была огромная выставка в Национальном музее Украины и вышла трёхтомная монография. «В общей сложности пять томов – восемнадцать килограмм. Видишь, какой я внёс весомый вклад в искусство!», – радовался Миша.
После разнообразных приключений Миша наконец получил признание и на Западе. Двуязычная (на французском и английском) монография о «великом современном художнике Михаиле Туровском» вышла и в Париже – 220 великолепных репродукций его работ. И совсем уж не слабо – его работам предоставил свои стены Музей современного искусства в Нью-Йорке (последний раз я была там на выставке Ван Гога).
Кстати, Миша пишет не только кистью: он – автор чудных афоризмов, которые в начале девяностых годов собрал в проиллюстрированную им же книгу «Зуд мудрости». Часть их включена в недавно изданную в России «Антологию афоризма», и мы замечательно их «обмыли» во время моего недавнего визита в Нью-Йорк. Вот вам для примера несколько моих самых любимых: «Награжден обратной стороной медали» (Губерман потом это зарифмовал в известный гаррик); «выдавливал из себя раба по капле и принимал по десять капель перед едой»; «очередь подобна скорпиону – весь яд у нее в хвосте»; «станция Голгофа-пассажирская»…
С Туровскими на Атлантическом океане.

Вдова художника Тышлера Флора Сыркина и Иосиф Бродский на вернисаже Русского авангарда в Музее Гугенхайма в Нью-Йорке. Начало девяностых годов.

Флора с афишей к выставке, посвященной 85-летию Тышлера.
Флора
С Флорой Сыркиной я познакомилась когда-то через ее дочку Таню, замечательную художницу-керамистку. Флора была очень красива, за ней когда-то в юности безуспешно ухаживал мой отец. Я знала, что Флора происходит из очень известной научной семьи: она была дочерью академика Якова Кивовича Сыркина, пострадавшего за теорию резонанса. В глухие сороковые-пятидеся-тые годы, взяв на вооружение искусство, с которым Лысенко истреблял генетику, другие естественные науки тоже считали своим долгом найти и искоренить у себя криминальные направления. В химии таким козлом отпущения была избрана теория резонанса, разработанная Флориным отцом. Он был отовсюду уволен, но, к счастью, уцелел – не посадили.
Искусствовед Флора была женой гениального художника Александра Григорьевича Тышлера. Я с Тышлером не встречалась – мы подружилась с Флорой уже после его смерти. Флора включила меня в свой «внутренний круг»: я бывала у нее не только на семейных праздниках, но и в самые что ни на есть будни – в дни маникюра и педикюра, который ей, а теперь и мне, делали у нее дома. Флора жила комфортно – у нее были свои мастера в любой сфере жизни, от изготовителей очков до парикмахеров и портных, и она ими со мной щедро делилась. Я очень любила у нее бывать, в ее гостиной был совершенно особый, теплый мир тышлеровских картин и деревянных скульптур.
Потом я уехала в Америку. Мы переписывались и перезванивались, и, приезжая ненадолго в Москву, я всегда забегала к Флоре.
Однажды Флора позвонила мне в Америку с известием, что в Музее Гугенхайма в Нью-Йорке будет выставка Русского авангарда, куда она приглашена с картинами Тышлера. Флора спросила, не хочу ли я прилететь на открытие. Вскоре по почте пришел дивной красоты пригласительный билет, извещавший среди прочего, что форма одежды на вернисаже – «черный галстук». Я понятия не имела, что это такое, но на выставку, конечно, полетела.
Мы с Флорой пришли в музей рано утром в день открытия – посмотреть, как развесили Тышлера. Флора была очень недовольна развеской и безуспешно пыталась что-то изменить, а я просто бродила по выставке в пустом музее, наслаждаясь отсутствием сутолоки и суеты.
Что такое «черный галстук», я поняла на вернисаже. Ослепительная толпа – нью-йоркский бомонд. Шикарные дамы декольте, в бриллиантовых колье, изумрудах и сапфирах, мужчины в смокингах и белоснежных манишках, похожие на огромных пингвинов с бокалами шампанского в руках. Я была сторонним наблюдателем на этом празднике жизни. Вдруг по фойе прошел какой-то шорох; многие обернулись, стараясь что-то или кого-то разглядеть. В музей вошел человек, сразу резко выделившийся из черно-белой толпы; на нем был обычный темно-зеленый костюм и голубая рубашка, и на него были обращены все взгляды. Человек обернулся, и я увидела его лицо.
– Смотри, Флора, Бродский!
Флора бросилась к нему, прорезая толпу, я, конечно, за ней.
– Здравствуйте, Иосиф, я Флора Сыркина, вдова Тышлера. Бродский улыбнулся.
– Мы с Тышлером были вместе в в эвакуации. Он рисовал мою маму. Когда я уезжал, этот портрет висел у нас на стене. Но знаете – маме не понравился нос, и она его перерисовала!

Мои друзья Ирина Азерникова и Арик Гальперин. (читайте о них в рассказе «К вольной воле заповедные пути…»)

Мой друг пианист Саша Избицер. (читайте о нём в рассказе «К вольной воле заповедные пути…»)
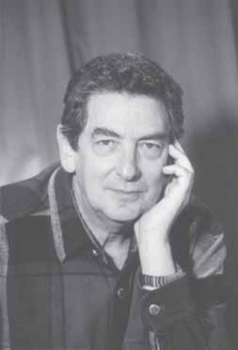
Мой друг Ян Кандрор – один из самых остроумных людей, которых я встречала в жизни (читайте очень короткую рапортичку «ветеранам и участникам…»).
Мне от Яна по разным поводам достаётся, но даже это приносит море радости. Однажды после страшных историй, приключившихся со мной в Греции и приведших меня в захолустный островной госпиталь, во дворе которого бродили овцы приболевших чабанов, а простыни в последний раз меняли при Гиппократе, – после всех этих ужасов – потерянного паспорта, денег, билета в Америку – я в самом жалком виде, с чудовищными перебоями в сердце добралась до Германии и вползла к нашему с Яном общему другу Эрлену Федину. Мой вид привёл Эрлена в ужас, он бросился звонить Яну.
– Я не могу найти у неё пульса!
– Под кроватью смотрел? – спросил невозмутимый Ян.
– У неё очень высокое давление, – не унимался Эрлен.
– Замечательно. Это значит, что она уменьшается в объёме, потому что пэ на вэ есть величина постоянная.
Эрлен транслировал мне содержание разговора, и я не выдержала.
– Передай этому бессердечному чудовищу и невежде, что указанная им формула справедлива только для ИДЕАЛЬНОГО газа! А мой оставляет желать…
…Другой раз я пожаловалась Яну в письме, что муж мой Володя скандалит по поводу моих частых дальних перелётов – считает, что я дурею от постоянной смены часовых поясов.
– Володя, хоть и мудр, но совершенно неправ, – позволил себе не согласиться с Володей Ян. – Если ты дуреешь, перелетая из Штатов в Японию (что вполне вероятно), то ровно на столько же (на то есть законы Ньютона!) умнеешь на обратном пути!
…Я очень люблю длинные немецкие сосиски с помидорами и, живя у Кандроров в Германии, отказываюсь от разносолов, приготовляемых искусницей Наташей, во имя этого редкостного лакомства. Собираясь в очередной раз в Германию, послала за два месяца до срока указание заготовлять сосиски. В ответ получила следующее разъяснение:
«Дорогая Наташенька!
Ты ведь знаешь, почему евреи до сих пор – передавая это из поколения в поколение – помнят, кто «коэн» и кто «левит»: когда придет Мессия, мы не должны суетиться и искать, кто же должен вести службу в храме. Из тех же соображений мы с Натальей постоянно держим наготове свежие сосиски и помидоры – не боись!»
Теперь вас, наверное, не удивит, что на карте моих пресловутых дальних маршрутов один из самых любимых – маршрут США – Висбаден.

Наша московская подруга, Лена Платонова, потеряла дар речи, вдруг осознав, что человек, рядом с которым она провела целый вечер и в присутствии которого пела, – знаменитый саксофонист Леша Зубов! Лос-Анджелес, Калифорния, 1999 год. На заднем плане – картина популярной молодой калифорнийской художницы Анны Краснер.

Александр Андреевич Дулов. «Саша Дулов, прославленный бард…» Когда-то Дулов дарил мне свои песни, записанные «Кругозором» на чьей-то грудной клетке – так давно мы с ним знакомы. Его «Размытый путь», «Ну, пожалуйста», «На краешке лета», «Три сосны» и сегодня сопровождают меня на работу – пятнадцать миль по хайвэю под дуловский диск.
Не у всякого на карте мира обозначена Юта. У Дулова – обозначена. Он бывает у нас регулярно, удивляя непосвящённых слушателей неожиданными прозрениями – оказывается, многие любимые ими песни написал этот высокий лысоватый интеллигент в неизменном пиджаке и при галстуке…
Однажды мы с Дуловым проехали через все Ютские каньоны и Большой каньон в Лас-Вегас, где впервые в жизни под его чутким руководством я выиграла в рулетку тридцать долларов… Такое не забывается и, к сожалению, не повторяется…


Веня и Галя Смеховы – люди мира. Они живут так, как всю жизнь мечтала жить я, но при моей профессии это невозможно… Они бросают нехитрый скарб в спортивный джип и кочуют по Америке или по Европе, или по другой планете, слушая по дороге замечательные диски и обсуждая планы будущих Вениных постановок. Несколько раз на их творческом пути оказывался Солт-Лэйк-Сити. На этих снимках – Смеховы в нашем Мормонском центре, что на Площади Мормонского храма.
… Я тоже кочую по миру – в основном в Боингах. Однажды весной, по дороге на открытие выставки нашей дочери Виктории в Музее города Шампэйна, на моём пути оказался колледж Гриннель, где Веня поставил «Ревизора» с американскими студентами. До тех пор я знала только артиста Смехова – в большей степени Воланда, в меньшей – Атоса. В Гриннеле я впервые увидела Венину режиссерскую работу – она доставила мне море удовольствия. А недавно получила редкую возможность сравнить двух Воландов – Вениного Воланда на Таганке и второго – вылепленного Веней в Атланте из студента-слависта Эндрю. Удивительно, но Веня не повторил себя – они с Эндрю сделали совсем другого Воланда, но я приняла и этого.

Мой дом в Солт-Лэйк-Сити видел много замечательных гостей. Городницкий сказал, остановившись на пороге своей комнаты: «Приезжий! Затаи свой дух! На этой койке спал Евтух!»

Евтушенко даёт урок русской литературы американским славистам в Солт-Лэйк-Сити.




В 1987 году я отнесла в журнал «Юность» свой первый рассказ. Гласность и перестройка тогда только-только набирали силу, и журнал хотел подстраховаться – предисловие к рассказу должен был написать человек влиятельный и популярный, с хорошей нееврейской фамилией («Юность» была тогда под обстрелом общества «Память»). Выбор журнала пал на Евтушенко. Мы с ним знакомы не были, о чем он и сообщил читателям:«… Я лично с ней незнаком, но почему-то мне она представляется властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то, в глубине ее глаз, на самом дне зрачков привыкла столько лет прятаться трагедия ее детства…»
Прошло много лет. Как-то, разбирая папин архив, я наткнулась на папину книгу, подписанную для Евтушенко. Почему-то папа ее не послал – скорей всего, не знал адреса. У меня был американский адрес Евтушенко, и я отправила ему папину книгу, а заодно и свою, где в главе о Юлии Даниэле сказано о Евтушенко несколько лестных слов. К этому приложила открытку, в которой предлагала ему прилететь, заглянуть на дно моих зрачков и лично убедиться, что он ошибался относительно моей властности и уверенности в себе… Недели через две раздался телефонный звонок: – Наташа? Это Евтушенко…
Он прилетел в Юту и провел у нас несколько дней. О его визите писала местная газета. Я организовала ему выступление в университете и была потрясена размахом его популярности. В мормонской Юте, в лютый мороз и дикий снегопад, когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, на выступление Евтушенко приехало четыреста пятьдесят американцев! Он произвел на них очень сильное впечатление, я потом слышала много откликов.
Ошибку свою относительно моего характера он не признал и к Володе обращался не иначе как «Мой опальный друг»…
Ну и, конечно, мы отпраздновали его приезд в нашей, тогда еще не разбросанной по Америке, теплой русской компании. Евтушенко упоенно пел с Виталиком Пожаровым под его аккомпанемент, в глазах его стояли слезы…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Часть VI Беглянка Лика
Часть VI Беглянка Лика Обманута своей любовью безоглядной Была моя сестра. Что стало с Ариадной? [Ж. Расин. Федра] Настроение, в котором уезжала Альбертина, несомненно, напоминало демонстрацию вооруженной силы, призванной проложить дорогу для дальнейших
Часть седьмая
Часть седьмая Если бы брызги стекла, что когда-то, звеня, разлетелись, Снова срослись, вот бы что с них уцелело теперь. Анна
Глава двадцать седьмая Месяц спустя Сербская провинция Лика
Глава двадцать седьмая Месяц спустя Сербская провинция Лика Телеграмма из дома моментально выдернулся Теслу из мира грез. Отныне промедление сделалось его главным врагом.Путешествие в Европу показалось Тесле мучительно долгим. Мать была при смерти, а он ничем не мог ей
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ I Неизвестный юнкер распахнул высокое красивое окно, в него врывается шум крушенья Киева, ржанье лошадей, перекаты выстрелов и украинские крики «слава»! Это Киев, взятый Петлюрой. Это было, конечно, безумно: в разгар всероссийской гражданской войны
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Начиная жить вместе с Пабло, я сознавала, что это человек, которому я должна посвятить себя полностью, но от которого не следует ждать ничего, кроме того, что он дает миру средствами своего искусства. И была согласна строить жизнь с ним на таких условиях. Тогда
Часть VI Беглянка Лика
Часть VI Беглянка Лика Обманута своей любовью безоглядной Была моя сестра. Что стало с Ариадной? Ж. Расин. Федра Настроение, в котором уезжала Альбертина, несомненно, напоминало демонстрацию вооруженной силы, призванной проложить дорогу для дальнейших дипломатических
Часть седьмая
Часть седьмая Меня абсолютно не интересовало занятие музыкой. Больше всего времени я проводил у Славки на Фурманова. Он жил в удивительной однокомнатной квартирке, которая состояла из крошечной кухни и такой же крошечной комнаты, но с двумя окнами на противоположных
Часть седьмая
Часть седьмая Незаметно приближались 1950-е годы, роковые для нас троих, для нашей личной жизни. Не говорю о всей стране — она переживала общую беду и предвестие общего выздоровления, которое, увы, длится уже десятки лет.В 1953 году в последний раз я провела лето у мамы, где
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Глава первая РЕМЕСЛО Притом что Лабас был невероятным умельцем и многое мог делать своими руками, в домашнем быту это никак не проявлялось — даже лестницу на антресоли и ту в мастерской на Масловке ему сколачивал Татлин. Театр вполне мог стать для него
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ В статье "О родине большой и малой" (1958 г.) Александр Твардовский писал, что "…чувство родины в обширном смысле — родной страны, отчизны — дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, района, города или
Часть третья ПРАВЕДЕН ЛИШЬ БОЖИЙ СУД
Часть третья ПРАВЕДЕН ЛИШЬ БОЖИЙ СУД Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть — но не ты ли была моей вечной рабой? Земля черная, ты покроешь меня — но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, — но не я ли был твоим господином? Мое тело — достояние земли! Мою душу —
Глава пятая Я ДРУГА ЖДУ. РАССКАЗ РОДИОНА ЩЕДРИНА, КОМПОЗИТОРА И ДРУГА ПОЭТА
Глава пятая Я ДРУГА ЖДУ. РАССКАЗ РОДИОНА ЩЕДРИНА, КОМПОЗИТОРА И ДРУГА ПОЭТА Левая пятка не так повернута Рассказ композитора Родиона Щедрина записан в ноябре 2013 года в питерской гостинице «Астория». Дополненный комментариями из мемуаров, интервью его жены, балерины Майи
Часть седьмая
Часть седьмая В 1929 году читатели ленинградского «Вокруг света» познакомились с новым научно-фантастическим романом Беляева «Человек, потерявший лицо». Появившись после первого варианта «Головы» и «Человека-амфибии», он в определенной мере тематически продолжал
ЧАСТЬ V – ИСКУССТВО – ЖИТЬ ИЛИ МОНОЛОГИ ДРУГА
ЧАСТЬ V – ИСКУССТВО – ЖИТЬ ИЛИ МОНОЛОГИ ДРУГА «…Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. гл.6,
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Из уходящего века он выходил с некоторым оптимизмом, или это было видимостью и минутой: По-моему, в проживаемый нами отрезок времени с поэзией нашей всё обстоит самым наилучшим образом. Эпигоны Иосифа Бродского после смерти своего кумира куда-то и сами