Виртуальный витрувий
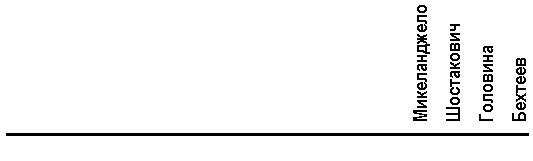
Виртуальный витрувий
Идею перевести микеланджеловские сонеты мне подал покойный Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Великий композитор только что написал тогда музыку к эфросовским текстам, но они его не во всем удовлетворяли.
Он позвонил мне в 1975 году. Мы не были знакомы до той поры. Позвонив, он попросил приехать к нему и подумать о совместной работе. Речь шла о переводе сонетов Микеланджело, самого скульптурного из поэтов.
Я приехал в его сосенные пенаты. Когда он отвернулся к окну, я увидел измученный его профиль.
Он, видно, только что подстригся. Короткая стрижка сняла весь висок и почти весь затылок. Слегка вьющаяся внизу когтистая челка держала голову, вонзалась в лоб, как темная птичья лапа — невидимая мучительная птица судьбы и вдохновения.
Он быстрым свистящим шепотом сообщил мне свою идею. Волнуясь, он мелко скреб ногтями низ щеки, будто играл на щипковом инструменте.
Той же мелкой дрожью дергался нагретый барвихинский воздух за стеклами террасы.
Та же дрожь щипковых, струнных слышится в третьей части любимой мною его Четвертой симфонии, где ничего не происходит, лишь слышится тягостный холод ожидания, что за ним придут, и как мороз по коже этот леденящий шорох — шшшшш.
Входила жена его Ирина Антоновна, похожая на строгую гимназистку. Потом он играл — клавиатура утапливалась его пятерней, как белые буквы «ш» с просвечивающимися черными бемолями, — он был паническим пианистом!
Две буквы «о» в его фамилии, как и оправа, лишь прикрывают его сущность. Он не был круглым. В нем была квадратура гармонии. Она не вписывалась в овальные вопросительные уши. Линия лица его уже начала оплывать, но все равно сквозь него проступали треугольники и квадраты скул, носа, щек.
Потом встречи длились и в Барвихе, и в Москве, и над бытовыми беседами, чаепитиями, дачными собаками стало возникать уже то неуловимое понимание, что возникает не сразу и не всегда, но предшествует созданию.
Шостакович — самый архитектурный из композиторов. Он мыслит объемом пространства, он не прорисовывает детали. Шостакович — эстакада, достоевская скоропись духа. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был клочком трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт, — его даже воздух ранил.
Из затеи с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домой Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь Секретариат, и заставил меня им прочесть. Сам нервно, по-кошачьи чесался. Был доволен.
Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так, что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.
Он написал мне длинное достоевское извинительное письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.
Он рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи моих стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и другие. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась иным стихиям.
Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.
Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшие слова: «Кончину чую».
Кинжальная строка Микеланджело…
Необрезанная плоть микеланджеловского Давида указывает не только на предмоисеевскую эру, но и на культуру христианства.
Чтобы внести гигантскую копию Давида в Музей им. А. С. Пушкина, пришлось распиливать торс. Цветаев, строя музей, не предусмотрел ширины дверных проемов и тесноты колоннады.
Это я узнал, когда пришлось распиливать мою пятиметровую инсталяцию яйца для выставки в Пушкинском. Каркас пришлось сваривать в самом зале, вызывая ужас пожарной охраны. Мне казалось, что Давид сочувственно ухмыляется.
Мое отношение к творцу Сикстинской капеллы отнюдь не было платоническим.
В рисовальном зале Архитектурного института мне досталась голова Давида. Это самая трудная из моделей. Глаз и грифель следовал за ее непостижимыми линиями. Было невероятно трудно перевести на язык графики, в плоскость двухмерного листа, приколотого к подрамнику, трехмерную — а вернее, четырехмерную форму образца!
Эта голова очень сложна для рисовальщика. При поступлении мы строгали головы Антиноя и Венеры.
Рисунок был главным экзаменом в Архитектурном. Год приходилось заниматься на подготовительных курсах при институте.
Там я познакомился с крепким, коренастым, уверенным в себе юношей. Звали его Саша Рабинович. Он восхищал меня. Не поступив прошлый год, он учился в Строительном. Рисовал он крепче меня и много советовал. Однажды он пришел с томиком Пастернака и пытался обратить меня в пастернаковскую веру. Я постеснялся признаться в своей любви и знакомстве с Борисом Леонидовичем. От смущения я хмыкнул что-то грубое вообще про поэзию. Саша удивленно взглянул, пожал плечами. Мы продолжали заниматься рисунком.
Какого было мое удивление и стыд, когда в списках, прошедших экзамен по рисунку, я увидел свое имя и не увидел его. Причина была, конечно, в его фамилии. Больше я его не видел. У меня не было ни его адреса, ни телефона.
Остался стыд, недоумение, ощущение, что я занимаю его место. И особенно мучит меня, что я не открылся ему.
Через много лет я его встретил в Доме кино. Он стал одним из известнейших наших кинорежиссеров. При встрече с ним чувство стыда не оставляет меня. Но уже ничего не исправишь.
Но вот я студент Архитектурного. И рисую Давида.
Линии ускользают, как намыленные. Моя досада и ненависть к гипсу равнялись, наверное, лишь ненависти к нему Браманте или Леонардо. Но чем непостижимей была тайна мастерства, тем сильнее ощущалось ее притяжение, магнетизм силового поля.
С тех пор началось. Я на недели уткнулся в архивные фолианты Вазари и Витрувия, я копировал рисунки, где взгляд и линия мастера как штопор ввинчиваются в глубь бурлящих торсов натурщиков. Во сне надо мною дымился вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.
Сладостная агония над надгробием Медичи подымалась, прихлопнутая, как пружиной крысоловки, волютообразной пружиною фронтона.
То была странная и наивная пора нашей архитектуры. Флорентийский Ренессанс был нашей Меккой. Классические колонны, кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов слагались в причудливые комбинации наших проектов. Мой автозавод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрессорный цех имел завершение капеллы Пацци.
Не обходилось без курьезов. Все знают дом Жолтовского с изящной лукавой башенкой напротив серого высотного Голиафа. Но не все замечают его карниз. Говорили, что старый маэстро на одном и том же эскизе набросал сразу два варианта карниза: один — каменный, другой — той же высоты, но с сильными деревянными консолями. Конечно, оба карниза были процитированы из ренессансных палаццо.
Верные ученики восхищенно перенесли оба карниза на смоленское здание.
Так, согласно легенде, на Садовом кольце появился дом с двумя карнизами.
Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с флорентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 скалькированных деталей, и он не был в этом чемпион.
Читатель, знаете ли вы, что такое ионики?
Конечно, вы знаете, что это архитектурная деталь яйцеобразной формы, принадлежность ионического и, конечно, коринфского стиля. Они примостились в центре ионической капители, будто некая божественная и коварная птица снесла три белых яйца между рогов ионического барана. По форме они странно напоминают оники, как в старину называли букву «о». Даль приводит пословицу: «Брюшко оником, ножки — хером».
Давайте нарисуем с вами хотя бы эти три ионика.
По форме они не круглые, а сужаются книзу. Их не вычертишь ни по линейке, ни по лекалу, ни циркулем — только от руки. Один должен идеально походить на другой. Их рисуют от руки, через кальку, зачернив обратную сторону грифелем, слегка продавливают легкий контур, а потом обводят острейшим, самым твердым карандашом «6-Н». Постоянно замеряют точки измерителем. Вы уже устали, читатель?
Но их надо нарисовать целый карниз — три тысячи микроскопических, каторжных, лукавых яичек. Доцент Хрипунов будет злорадно проверять каждый из них. В Камероновской галерее, которую я вычерчивал, их было несколько тысяч. Легче почистить двадцать ведер картошки, обстругать ножом овальные клубни, как приходилось во время дежурств в солдатской кухне.
Нет, вы не знаете, что такое ионики!
Акварели я учился у Владимира Георгиевича Бехтеева.
Небольшой, поблескивающий гномообразным черепом, по-фехтовальному спорый, дрожа страстными ноздрями крючковатого носа, художник бормотал, следя из-за моей спины, как на ватмане расплывается «по-сырому» мастерски составленный им натюрморт из ананаса, апельсинов и синего с золотом фарфора: «Гармонию не забывайте! Если в левом углу у вас синий, то он должен быть компонентом во всем. Синий вкрапливайте. Не забывайте гамму». Так же гармонично распределяется по стихотворению звукопись Цветаевой.
Шерстяной вязаный платок, в который художник кутался среди плохо отапливаемой комнаты, казался на его плечах романтическим плащом. Он всовывал ногу в соскальзывающую сандалию, как в стремя.
Когда-то кавалергардский офицер, он похитил жену своего полкового командира, умчал ее за границу и вышел в отставку. В Европе стал художником. Вернулся в Москву уже после революции — в нищету и тяготы быта. Я знал его жену и музу, готически-высокую, в иссиня-гладкой прическе, которая была всегда рядом в их единственной комнате, храня роковую тайну и жаря подгорающие котлеты на керосинке, как на жертвенном треножнике. Как мистическое зеркало на стене, висел в полный рост ее гуашевый портрет под вуалью в декадентской сине-лиловой гамме.
На стенах брезжили бехтеевские акварели, ташкентская серия, где краски растворялись в зыбком воздухе, теряя очертания. «Там воздух наполнен мелкой, едва заметной песчаной пылью, от этого струится некая пелена», — моргая, оправдывался он, отметая подозрения в импрессионизме.
Его крепко били за импрессионизм, что было страшным ярлыком тогда. Помню разухабистую статью о его иллюстрациях к «Кукле». После этого ему перестали давать заказы в издательствах. Между тем именно в этих рисунках он поэтично воспел грациозные смычковые ноги скаковых лошадей и шеи красавиц.
Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, как величайшую ценность подарила мне фоторепродукцию фрагмента микеланджеловской «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшем моем углу в родительской квартире. Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтон моего курсового проекта музыкального павильона.
И вот сейчас мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов.
Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным.
Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. И наоборот — один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо и Микеланджело. Последний наизусть знал «Божественную комедию». Данте был его духовным крестным. У Мандельштама в «Разговоре о Данте» мы читаем: «„Я сравниваю, значит, я живу“, — мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания — а где взять другое? — только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».
Но метафора Данте говорила не только с Богом. В век лукавый и опасный она таила в себе политический заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. Скульптор в споре с Донато Джонатти говорит о Бруте и его местоположении в иерархии дантовского ада. Блеснул кинжал в знаменитом антипапском сонете.
Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мраморный дуб. Интонационным вздохом «господи» («синьор» по-итальянски) автор отводит прямые указания на адресат. Лукавая злободневность, достойная Данте.
Данте провел двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно приговорен к сожжению.
Были ли черные гвельфы, его мучители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их помним лишь потому, что они имели отношение к Данте. Повредили ли Данте преследования? И это неизвестно. Может быть, тогда не было бы «Божественной комедии».
Обращение к Данте традиционно у итальянцев.
Но Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою судьбу, свою тоску по родине, свое самоизгнание из родной Флоренции. Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прикованный к папским гробницам, — кандальный Микеланджело.
Менялась эпоха, республиканские идеалы Микеланджело были обречены ходом исторических событий. Но оказалось, что исторически обречены были события.
А Микеланджело остался.
В нем, корчась, рождалось барокко. В нем умирал Ренессанс. Мы чувствуем томительные извивы маньеризма — в предсмертной его «Пьете Рондонини», похожей на стебли болотных лилий, предсмертное цветение красоты.
А вот описание магического Исполина:
Ему не нужен поводырь.
Из пятки, желтой, как желток,
налившись гневом, как волдырь,
горел единственный зрачок!
Далее следуют отпрыски этого Циклопа:
Их члены на манер плюща
нас обвивают, трепеща…
Вот вам ростки сюрреализма. Сальвадор Дали мог позавидовать этой хищной, фантастичной точности!
Не только Петрарка, не только неоплатонизм были поводырями Микеланджело в поэзии.
Мощный дух Савонаролы, проповедника, которого он слушал в дни молодости, — ключ к его сонетам: таков его разговор с Богом.
Безнравственные люди поучали его нравственности.
Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму пуп, явно нелогичный для первого человека, слепленного из глины. Недруг его Пьетро Аретино доносил на его «лютеранство» и «низкую связь» с Томмазо Кавальери.
Говорили, что он убил натурщика, чтобы наблюдать агонию, предшествовавшую смерти Христа.
Как это похоже на слух, согласно которому Державин повесил пугачевца, чтобы наблюдать предсмертные корчи. Как Пушкин ужаснулся этому слуху!
Не случайно в «Страшном суде» святой Варфоломей держит в руках содранную кожу, которая — автопортрет Микеланджело. Святой Варфоломей подозрительно похож на влиятельного Аретино.
Галантный Микеланджело любовных сонетов, куртизирующий болонскую прелестницу. Но под рукой скульптора постпетрарковские штампы типа: «Я врезал Твой лик в мое сердце» становятся материальными, он говорит о своей практике живописца и скульптора. Я пытался подчеркнуть именно «художническое» видение поэта.
Маниакальный фанатик резца 78-го сонета (в нашем цикле названного «Творчество»).
В том же 1550 году в такт его сердечной мышце стучали молотки создателей Василия Блаженного.
Меланжевый Микеланджело.
Примелькавшийся Микеланджело целлофанированных открыток, общего вкуса, отполированный взглядами, скоростным конвейером туристов, лаковые «сикстинки», шары для кроватей, брелоки для ключей — никелированный Микеланджело.
Смеркающийся Микеланджело — ужаснувшийся встречей со смертью, в раскаянии и тоске провывший свой знаменитый сонет: «Кончину чую…»
«Увы! Увы! Я предан незаметно промчавшимися днями».
«Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня, который бы принадлежал мне! Обманчивые надежды и тщеславные желания мешали мне узреть истину, теперь я понял это… Сколько было слез, муки, сколько вздохов, любви, ибо ни одна человеческая страсть не осталась мне чуждой».
«Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне страшно…» (Из письма Микеланджело).
Когда не спасала скульптора и живопись, мастер обращался к поэзии.
На русском стихи известны в достоверных переводах А. Эфроса, тончайшего эрудита и ценителя Ренессанса. Эта задача достойно им завершена.
Мое переложение имело иное направление. Повторяю, я пытался найти черты стихотворного тропа, общие с микеланджеловской пластикой. В текстах порой открывались цитаты из «Страшного суда» и незавершенных «Гигантов». Дух создателя был един и в пластике, и в слове — чувствовалось физическое сопротивление материала, савонароловский своенравный напор и счет к мирозданию. Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать не букву, а направление силового потока, поле духовной энергии мастера.
Благодаря Дмитрию Дмитриевичу, я окунулся в стихию Микеланджело. После опубликования переводов их итальянское телевидение предложило мне рассказать о русском Микеланджело и почитать стихи на фоне «Скрюченного мальчика» из Эрмитажа. «Скрюченный мальчик» — единственный подлинник Микеланджело в России — маленький демон смерти, неоконченная фигурка для капеллы Медичи.
Мысленный каркас его действительно похож в профиль на гнутую напряженную металлическую скрепку, где силы Смерти и Жизни томительно стремятся и разогнуться, и сжаться.
Через три месяца в Риме Ренато Гуттузо, сам схожий с изображениями сивилл, показывал мне в мастерской своей серию работ, посвященных Микеланджело. Это были якобы копии микеланджеловских вещей — и «Сикстины» и «Паолино» — вариации на темы мастера. XVI век пересказан веком ХХ-м, переписан сегодняшним почерком. Этот же метод я пытался применить в переводах.
Я пользовался первым научным изданием 1863 года с комментариями профессора Чезаре Гуасти.
Тот же Мандельштам говорил, что в итальянских стихах рифмуется все со всем. Переводить их адски сложно. Например, мадригал, организованный рефреном:
о Dio, о Dio, о Dio!
Первое попавшееся «О боже, о боже, о боже!» — явно не годится из-за сентиментальной интонации русского текста. При восторженном настрое подлинника могло бы лечь:
О диво, о диво, о диво!
Заманчиво было, опираясь на католический культ Мадонны, перевести:
О Дева, о Дева, о Дева!
Увы, и это не подходило. В строфах идет ощущаемое почти физически преодоление материала, ритм с одышкой. Поэтому следует поставить тяжеловесное слово «Создатель, Создатель, Создатель!» с опорно направляющей согласной «д». Ведь идет обращение Мастера к Мастеру, счет претензий их внутри цехового порядка.
Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без влияния иронической музы популярного тогда Франческо Берни. Нарочитая грубость, саркастическая бравада и черный юмор автора, вульгарности, частично смягченные в русском изложении, прикрывают, как это часто бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед смертью.
Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгарным»? Едва ли!
Для него, анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря с камнями и прочее, как для хирурга, — категории не эстетические или этические, а материя, где все чисто. «Цветы земли не знают грязи».
Точно так же для архитектора понятие санузла — обычный вопрос строительной практики, как расчет марша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с мещанской благопристойностью умолчания об этих вопросах.
Фрагмент 1546 года очень важен для судьбы нашего мастера. Через 400 лет, в 1950 году, другой изгнанник из своей родины, Томас Манн, достигнув микеланджеловского возраста, писал о нем в страстной работе «Эротика Микеланджело»:
«Это строки одного из его поздних сонетов, страшного стихотворения, с беспощадной прямотой описывающего страдальческую жизнь Микеланджело в Мачель де Корви, его жилище в Риме. Это гнусная дыра, вокруг которой стоит смрад человеческих испражнений, и тут-то проводит жизнь оборванный старик-привидение, он постоянно кашляет и не может уснуть от шума в ушах… „Большая беда изгоняет меньшую“ — он всегда проклинал любовь, как некое зло. Она была основой его творческой мощи. Сооруженным куполом святого Петра мы обязаны неустанным уговорам, слетавшим с прекрасных губ Томазо Кавальери…»
ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА
Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке
прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!
В каморке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.
Я слышу — об стенку журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.
Полно во дворе человечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.
Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна…
Судьба моя скромная и убогая.
Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.
К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.
Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется фуга плененного духа.
Где синие очи? Повыцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.
Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.
Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.
Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.
Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.
Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколеньям взвивал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.
Как точно Манн видел через четыре века! Одна внешняя неточность. Он называет фрагмент сонетом. Т. Манн знакомится с поэзией Микеланджело по немецким переводам в гелеринском издании швейцарца Ганса Мюльштейна. Там стихи были в виде сонета. Я же брал эти терцины, слегка сократив, из издания профессора Гуасти. Надо отдать должное интуиции великого немца — произнося «сонет», он как бы сразу спохватывается и называет его стихотворением.
Изгнанник XX века понял своего сверстника без перевода. Общность судьбы была ему поводырем. «Он мечет громы и молнии на Флоренцию, что породила Данте, а затем подло изгнала. Здесь в переводах прорывается интонация Платтена, у которого вдали от покинутой им Германии накопилась злоба против родины». Именно этим близок Микеланджело Т. Манну, так в Германию и не вернувшемуся.
Отсюда и иные прозрения его, понимание лирики великого скульптора: «Микеланджело никогда не любил для взаимности. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновения».
Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому я ввел некоторые термины из нашего обихода. Кроме того, в этом отрывке я отступил от русской традиции переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хотелось услышать, как звучало все это для слуха современника.
Понятно, не все в моем переложении является буквальным слепком. Но вспомним Пастернака, лучшего нашего мастера перевода:
Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность, точность тайн,
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!
Сам Микеланджело явил нам пример перевода одного вида искусства в другой.
Скрижальная строка Микеланджело.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
21 Лорен Баколл и виртуальный пейот
21 Лорен Баколл и виртуальный пейот До сих пор из всего, написанного Мураками, экранизирована только «Песня ветра»110. На мой взгляд, получилась эдакая черная комедия-фарс с сильным привкусом Бориса Виана. Смотреть забавно, да только Мураками там не пахнет. Авторский текст
1. Погружение в виртуальный мир
1. Погружение в виртуальный мир После того как 23 марта 2013 года Борис Березовский был найден мертвым в своем лондонском особняке, журналист и политолог Станислав Белковский, человек лично знавший Бориса Абрамовича и относящийся к нему с явной симпатией, выпустил статью
Глава 70. Виртуальный мужчина
Глава 70. Виртуальный мужчина Под новый 1991 год я решила снова проведать предсказательницу Джулию. И вот я у нее дома, как два года назад. Джулия показывает мне свои огромные полотна, написанные маслом, — очень яркие, энергичные работы, затем начинает говорить о том, что
Виртуальный виртуоз
Виртуальный виртуоз Его профиль похож на профиль виолончели — тот же круглый лоб, носик, овал подбородка. Когда в театре Шайо я показал публике видеом с портретом Ростроповича в виде виолончели, Галя из зала крикнула: «Похож!»Бесконечный, астрально высокий и
Full pizazz. Полный виртуальный абзац!
Full pizazz. Полный виртуальный абзац! «Тело Ленина из Мавзолея продано за доллары и будет демонстрироваться в Диснейленде», — читаю в ведущей ирландской газете. Это могло быть напечатано и в любой нашей периодике.Становящееся затрепанным словцо «виртуальный»