ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
О Маяковском обычно говорят, что он сразу и безоговорочно принял революцию. Это все равно, что о заключенном в одиночной камере, перед которым вдруг рухнули стены тюрьмы, сказать, что он принял внезапно доставшуюся ему свободу.
Маяковский встретил революцию как долгожданное освобождение от всех душивших его форм жизни. Он не сомневался, что немедленно вслед за революционным переворотом воспоследует полная гибель, полная отмена всех ненавистных ему форм и атрибутов старого мира. Он не сомневался, что тотчас безвозвратно рухнут, канут в прошлое все, буквально все святыни осточертевшей ему прежней жизни — нация, быт, мораль, культура, даже семья:
Я не за семью,
??????????????????????в огне и дыме синем
отомри
???????????и этого старья
????????????????????????????????кусок,
где шипели
?????????????????матери-гусыни
и детей стерег
??????????????????????отец-гусак.
Он был уверен, что к прошлому уже ни в чем не может быть возврата. Корабли сожжены! Отныне все новое, вплоть до летоисчисления, вплоть до отмены понедельников и вторников!
С прямолинейной детской бескомпромиссностью воспринял Маяковский слова, начертанные на знаменах «его революции»:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Он не сомневался, что если призывают отречься, так уж отрекутся всерьез, окончательно и бесповоротно. И не оставят в целости и сохранности ни одной пылинки этого ненавистного ему «праха».
А между тем старый мир, взорванный и распавшийся, проникал в легкие, во все поры нового мира, рождающегося на его развалинах.
Старый мир обнаружил чудовищную способность к регенерации.
Сомнете
????????????периной
????????????????????????и волю
??????????????????????????????????и камень.
Коммуна
?????????????и то завернется комом.
Столетия
?????????????жили своими домками,
и нынче зажили своим домкомом!
(«Про это»)
Решили, что это — про быт. Про ненавистный ему мещанский, обывательский быт. Он ведь и раньше уже писал о том, как он опасен, какая страшная таится в нем угроза для дела революции:
Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!
И вот снова — на этот раз целой поэмой разразился — опять «про это»:
Октябрь прогремел,
?????????????????????????????карающий,
????????????????????????????????????????????судный.
Вы
????под его огнеперым крылом
расставились,
????????????????????разложили посудины,
паучьих волос не расчешешь колом.
ГОЛОСА СОВРЕМЕННИКОВ
Не могу вспомнить, как начались у нас разговоры о быте. После голодных, холодных первых лет революции и гражданской войны возврат бытовых привычек стал тревожить нас. Казалось, вместе с белыми булками вернется старая жизнь. Мы часто говорили об этом, но не делали никаких выводов.
Не помню, почему я оказалась в Берлине раньше Маяковского. Помню только, что очень ждала его там. Мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса искусства и техники…
Но посмотреть удалось мало.
У Маяковского было несколько выступлений, а остальное время… Подвернулся карточный партнер, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере гостиницы и играл с ним в покер. Выходил, чтобы заказать мне цветы — корзины такого размера, что они с трудом пролезали в двери, или букеты, которые он покупал вместе с вазами, в которых они стояли в витрине цветочного магазина. Немецкая марка тогда ничего не стоила, и мы с нашими деньгами неожиданно оказались богачами…
Из Берлина Маяковский ездил тогда в Париж по приглашению Дягилева. Через неделю он вернулся, и началось то же самое.
Так мы прожили два месяца.
Вернувшись в Москву, Маяковский вскоре объявил два своих выступления. Первое: «Что Берлин?» Второе: «Что Париж?» (Кажется, так они назывались на афише.)
В день выступления — конная милиция у входа в Политехнический…
В зале давка. Публика усаживается по два человека на одно место. Сидят в проходах на ступенях и на эстраде, свесив ноги. На эстраде — в глубине и боком — поставлены стулья для знакомых.
Под гром аплодисментов вышел Маяковский и начал рассказывать — с чужих слов. Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями.
Я сидела, стиснутая на эстраде. Маяковский испуганно на меня косился. Комсомольцы, мальчики и девочки, тоже сидевшие на эстраде, свесив ноги, и слушавшие, боясь пропустить слово, возмущенно и тщетно пытались остановить меня. Вот, должно быть, думали они, буржуйка, не ходила бы на Маяковского, если ни черта не понимает… Так они приблизительно и выражались.
В перерыве Маяковский ничего не сказал мне. Но Долидзе, устроитель этих выступлений, весь антракт умолял меня не скандалить. После перерыва он не выпустил меня из артистической. Да я и сама уже не стремилась в зал.
Дома никак не могла уснуть от огорчения. Напилась веронала и проспала до завтрашнего дня.
Маяковский пришел обедать расстроенный, мрачный. «Пойду ли завтра на его вечер?» — «Нет, конечно». — «Что ж, не выступать?» — «Как хочешь».
Маяковский не отменил выступления.
На следующее утро звонят друзья, знакомые: почему вас не было? Не больна ли? Не могли добиться толку от Владимира Владимировича… Он мрачный какой-то… Жаль, что не были… Так интересно было, такой успех…
Маяковский чернее тучи.
Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий.
Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет…
Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, еще ночью, я решила — расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить.
Маяковский как будто даже обрадовался этому выходу из безвыходного положения. Сказал: «Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся», — и ушел.
Вечером он переслал мне письмо.
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Лилек.
Я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя боль. Но, Лилик, слишком страшно то, что случилось сегодня со мной, чтоб я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо.
Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобою, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал, теперь я это чувствую, чувствую всем своим существом, все, все, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.
Я не грожу, я не вымогаю прощения. Я ничего, ничего с собой не сделаю — мне чересчур страшно за маму и Люду, с того дня мысль о Люде как-то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю, нет такого обещания, в которое ты бы поверила. Я знаю, нет такого способа видеть тебя, мириться, который не заставил бы тебя мучиться.
И все-таки я не в состоянии не писать, не просить тебя простить меня за все.
Если ты принимала решение с тяжестью, с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее, ты простишь, ты ответишь.
Но если ты даже не ответишь, ты одна моя мысль, как любил я тебя семь лет назад, так люблю и сию секунду, что б ты ни захотела, что б ты ни велела, я сделаю сейчас же, сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь и в расставании сам виноват.
Я сижу в кафэ и реву, надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такою.
Я пишу только о себе, а не о тебе. Мне страшно думать, что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их, и я забыт совсем.
Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвращения, ответь ради Христа, ответь сейчас же, я бегу домой, я буду ждать. Если нет, страшное, страшное горе.
Целую. Твой весь
????????????????????????????Я.
Сейчас 10, если до 11 не ответишь, буду знать: ждать нечего.
(Маяковский — Л. Брик. 28 декабря 1922 г. Москва)
Два месяца провел Маяковский в своей добровольной тюрьме. Он просидел два месяца добросовестно, ничего себе не прощая и ни в чем себя не обманывая. Ходил под моими окнами. Передавал через домработницу Аннушку письма, записки («записочную рябь») и рисуночки. Это было единственное, что он позволял себе — несколько грустных или шутливых слов «на волю», но и в этом он как бы оправдывался. На книге «13 лет работы», которую он прислал мне тогда, надпись:
Вы и писем не подпускаете близко,
закатился головки диск.
Это, Киска, не переписка,
а всего только переписк.
Тогда же он прислал мне свою новую книгу «Лирика». Экземпляр этот пропал, но я запомнила надпись на нем:
Прости меня, Лиленька, миленькая,
за бедность словесного мирика,
книга должна называться «Лилинька»,
а называется «Лирика».
…Он присылал мне письма, записки, рисунки, цветы и птиц в клетках — таких же узников, как он. Большого клеста, который ел мясо, гадил, как лошадь, и прогрызал клетку за клеткой. Но я ухаживала за ними из суеверного чувства, что, если погибнет птица, случится что-нибудь плохое с Володей. Когда мы помирились, я раздарила всех этих птиц. Отец Осипа Максимовича пришел к нам в гости, очень удивился, что их нет, и спросил глубокомысленно: «В сущности говоря, где птички?» Владимир Владимирович процитировал его в «Мелкой философии»:
Годы чайки.
??????????????????Вылетят в ряд —
и в воду —
????????????????брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
????????????????????????В сущности говоря,
где птички?
Он присылал мне письма, записки, рисунки и писал поэму про все ЭТО — поэму о любви, о быте, — о том, о чем он приказал себе думать два месяца. Впереди была цель — кончить поэму, встретиться, жить вместе по-новому. Он писал день и ночь, писал болью, разлукой, острым отвращением к обывательщине, к «Острову мертвых» в декадентской рамочке, к благодушному чаепитию, к себе, как тогда казалось, погрязшему во всем этом, и к таким же своим «партнерам» и «собутыльникам».
Иногда, не в силах удержаться, Володя звонил мне по телефону, и я как-то сказала ему, чтобы он писал мне, когда очень нужно.
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Я сижу с нравственным удовольствием, но с все возрастающей физической мукой. Я буду честен до мелочей 2 месяца. Людей измерять буду по отношению ко мне за эти два месяца. Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни, если б такое случилось с Личикой, я б прекратил это в тот же день. Если Лилик меня любит, она (я это чувствую всем сердцем) прекратит это или как-то облегчит. Это должна почувствовать, должна понять. Я буду у Лилика в 2 1/2 часа дня 28 февраля. Если хотя б за час до срока Лилик ничего не сделает, я буду знать, что я любящий идиот и для Лилика испытуемый кролик. Вол.
(Маяковский — Л. Брик. 28 декабря 1922 г. Москва)
Лилик.
Пишу тебе сейчас, потому что при Коле я не мог тебе ответить. Я должен тебе написать это сейчас же, чтоб моя радость не помешала бы мне дальше вообще что-либо понимать. Твое письмо дает мне надежды, на которые я ни в каком случае не смею рассчитывать и рассчитывать не хочу, так как всякий расчет, построенный на старом твоем отношении ко мне, — не верен. Новое же отношение ко мне может создаться только после того, как ты теперешнего меня узнаешь.
Мои письмишки к тебе тоже не должны и не могут браться тобой в расчет — т. к. я должен и могу иметь какие бы то ни было решения о нашей жизни (если такая будет) только к 28-му. Это абсолютно верно — т. к. если б я имел право и возможность решить что-нибудь окончательно о жизни сию минуту, если б я мог в твоих глазах ручаться за правильность — ты спросила бы меня сегодня и сегодня же дала б ответ. И уже через минуту я был бы счастливым человеком. Если у меня уничтожится эта мысль, я потеряю всякую силу и всю веру в необходимость переносить весь мой ужас.
Я с мальчишеским, лирическим бешенством ухватился за твое письмо. Но ты должна знать, что ты познакомишься 28 с совершенно новым для тебя человеком. Все, что будет между тобою и им, начнет слагаться не из прошедших теорий, а из поступков с 28 февраля, из «дел» твоих и его.
Я обязан написать тебе это письмо, потому что сию минуту у меня такое нервное потрясение, которого не было с ухода.
Ты понимаешь, какой любовью к тебе, каким чувством к себе диктуется это письмо.
Если тебя не пугает немного рискованная прогулка с человеком, о котором ты только раньше понаслышке знала, что это довольно веселый и приятный малый, черкни, черкни сейчас же. Прошу и жду. Жду от Аннушки внизу. Я не могу не иметь твоего ответа. Ты ответишь мне как назойливому другу, который старается «предупредить» об опасном знакомстве: «идите к черту, не ваше дело — так мне нравится!»
Ты разрешила мне написать, когда мне будет очень нужно — это очень сейчас пришло.
Тебе может показаться — зачем это он пишет, это и так ясно. Если так покажется, это хорошо. Извини, что я пишу сегодня, когда у тебя народ — я не хочу, чтоб в этом письме было что-нибудь от нервов надуманное. А завтра это будет так. Это самое серьезное письмо в моей жизни. Это не письмо даже, это: «существование».
Весь я обнимаю один твой мизинец.
??????????????????????????????????????????????????????????Щен.
Следующая записка будет уже от одного молодого человека 27-го.
(Маяковский — Л. Брик. Нач. января 1923 г. Москва)
Дорогой и любимый Лиленок.
Я строго-настрого запретил себе впредь — что-нибудь писать или как-нибудь проявлять себя по отношению к тебе — вечером. Это время, в которое мне всегда немного не по себе. После записочек твоих у меня «разряд», и я могу и хочу тебе раз написать спокойно.
При этих встречах у меня гнусный вид, я сам себе очень противен.
К тому же я знаю, что это больше всего вредит мне. Ты понимаешь, что такой я никому и ни к чему не нужен.
Понимаю, что тебя всякий раз при этом ежит мысль, неужели тебе придется когда-нибудь канителиться с такой падалью.
Не тревожься, детик. Таким я не буду. Если я буду такой, я не позволю себе попасться на твои глазки.
Еще одно: не тревожься, мой любименький солник, что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю, что ты их пишешь больше для того, чтоб мне не было зря больно. Я ничего, никаких твоих «обязательств» на этом не строю и, конечно, ни на что при их посредстве — не надеюсь.
Заботься, детанька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что я еще буду когда-нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких выходок.
Клянусь тебе твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях, сквозь них, через них я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело.
Не ругай меня, детик, за письма больше, чем следует.
Целую тебя и птичтов.
???????????????????????????????????Твой Щен.
(Маяковский — Л. Брик. Сер. января 1923 г. Москва)
Я рада!
Верю, что ты можешь быть таким, какого я всегда мечтала любить.
Твоя Лиля (28-го!).
(Л. Брик — Маяковскому. Сер. января 1923 г. Москва)
Москва. Редингская тюрьма
Любимый, милый мой, солнышко дорогое, Лиленок.
Может быть (хорошо, если — да!), глупый Левка огорчил тебя вчера какими-то моими нервишками. Будь веселенькая! Я буду. Это ерунда и мелочь. Я узнал сегодня, что ты захмурилась немного, не надо, Лучик!
Конечно, ты понимаешь, что без тебя образованному человеку жить нельзя. Но если у этого человека есть крохотная надеждочка увидеть тебя, то ему очень и очень весело. Я рад подарить тебе и вдесятеро большую игрушку, чтоб только ты потом улыбалась. У меня есть пять твоих клочечков, я их ужасно люблю, только один меня огорчает, последний — там просто «Волосик, спасибо», а в других есть продолжения — те, мои любимые.
Ведь ты не очень сердишься на мои глупые письма. Если сердишься, то не надо — от них у меня все праздники.
Я езжу с тобой, пишу с тобой, сплю с твоим кошачьим имечком и все такое.
Целую тебя, если ты не боишься быть растерзанной бешеным собаком.
Твой Щен
он же Оскар Уайльд
он же шильонский узник
он же:
сижу — за решеткой в темнице
— сухой (это я сухой, а когда надо,
буду для тебя жирный).
Любимый, помни меня. Поцелуй Клеста. Скажи, чтоб не вылазил — я же не вылажу!
(Маяковский — Л. Брик. 19 января 1923 г. Москва)
Милый, милый Лиленок.
Я знаю, ты еще тревожная, ты еще хмуришься. Лечи, детка, свои милые нервочки. Я много и хорошо о тебе думаю. Немножко помни меня. Нам ужасно нужно хорошо пожить. До бесконечности хочется, чтоб это сделалось вместе. Если у меня голова не лопнет от этой мысли — я выдумаю. Люби клеста — он похож на меня: большой нос (у меня только красный) и все цепляется за прутики (в окно смотрит).
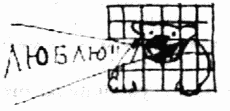
По глобусу я уже с тобой езжу.
Шильонский узник
Урожденный Щен.
Целовать буду когда-нибудь лично. Можно?
(Маяковский — Л. Брик. Январь 1923 г. Москва)
Волосик! Щеник!
Больше всего на свете люблю тебя. Потом — птичтов. Мы будем жить вместе, если ты этого захочешь.
(Л. Брик — Маяковскому. Январь 1923 г. Москва)
Когда мы познакомились, Маяковскому нравилось, что вокруг меня толпятся поклонники. Помню, он сказал: «Боже, как я люблю, когда ревнуют, страдают, мучаются».
Сам он всю жизнь не только не старался преодолеть в себе эти чувства, но как бы нарочно поддавался им, искал их. С особенной силой они вспыхнули теперь, когда он был от меня оторван.
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Милый дорогой Лилек.
Посылая тебе письмо, я знал сегодня, что ты не ответишь. Ося видит, я не писал. Письмо это, и оно лежит в столе. Ты не ответишь, потому что я уже заменен, что я уже не существую для тебя, что тебе хочется, чтоб я никогда не был. Я не вымогаю, но, Детка, ты же можешь сделать двумя строчками то, чтоб мне не было лишней боли. Боль чересчур! Не скупись даже после этих строчек — у меня остаются пути мучиться. Строчка не ты! Но ведь лишней не надо боли, детик! Если порю ревнивую глупость — черкни — ну, пожалуйста. Если это верно — молчи. Только не говори неправду — ради бога.
(Маяковский — Л. Брик. До 31 января 1923 г. Москва)
Я не скуплюсь, Володик; я не хочу «переписки»! Ты не заменен. Это правда, хотя я и не обязана быть правдивой с тобой. Обнимаю тебя и целую крепко. Клест кланяется, он вылетел, но я его сама поймала, погладила перышки и поцеловала от твоего имени.
(Л. Брик — Маяковскому. До 31 января 1923 г. Москва)
Личика.
Напиши какое-нибудь слово здесь. Дай Аннушке. Она мне снесет вниз.
Ты не сердись. Во всем какая-то мне угроза.
Тебе уже нравится кто-то. Ты не назвала даже мое имя. У тебя есть. Все от меня что-то таят. Если напишешь, пока не исчезнет словечко, я не пристану.
(Маяковский — Л. Брик. Январь — февраль 1923 г. Москва)
Я сердилась на него и на себя, что мы не соблюдаем наших условий, но была не в силах не отвечать ему — я так любила его! — и у нас возникла почти «переписка». А несколько раз мы случайно столкнулись на улице.
Я получала письма почти ежедневно.
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Володя, ввиду того, что к Оксане ты в мое отсутствие «приставал», так же, как и ко всем остальным женщинам (она сама мне об этом рассказывала), то от апельсина следовало удержаться. Это письмо не в счет. Никто не должен знать о нем. Не отвечай. Если б не жар — не написала бы. Это, конечно, пустяк, но мне известны со всеми подробностями все твои лирические делишки.
(Л. Брик — Маяковскому. 11 февраля 1923 г. Москва)
Личика.
Твоя записка для меня больше, чем огромная неприятность, это безвыходное горе.
Надо узнать мою теперешнюю жизнь, чтоб как-нибудь подумать о каких-то «делишках», страшно не подозрение, страшно что я при всей бесконечной любви к тебе не могу знать всего, что может огорчить тебя. Что мне делать в будущем? Только потому, что я абсолютно болен, я позволяю себе написать, несмотря на твое запрещение.
Я влезу к себе еще больше, ничего не понимая, совсем побитый.
Нужен я тебе или не нужен.
Твой любящий Щен.
Неужели ты кончила со мной?
(Маяковский — Л. Брик. 11 февраля 1923 г. Москва)
Волосик, я люблю тебя. Делай что хочешь. Готовься к 28-ому. Я так жду. Я себя очень плохо чувствую и не могла удержаться — написала про апельсин. Обнимаю тебя и целую весь твой шарик.
??????????????Твоя Лиля!
???????????????(кошечка).
(Л. Брик — Маяковскому. Ок. 11 февраля 1923 г. Москва)
Личика.
Мне кажется все, что ты передумала меня видеть, только сказать этого как-то не решаешься: — жалко.
Прав ли я.
Если не хочешь, напиши сейчас, если ты это мне скажешь 28-го (не увидав меня), я этого не переживу.
Ты совсем не должна меня любить, но ты скажи мне об этом сама. Прошу. Конечно, ты меня не любишь, но ты мне скажи об этом немного ласково. Иногда мне кажется, что мне сообща придумана такая казнь — послать меня к черту 28-го! Какая я ни на есть дрянь, я немного все-таки человек. Мне просто больно. Все ко мне относятся, как к запаршивленному нищему — подать, если просит, и перебежать на другую улицу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через Гринберговских прислуг. Но, детик, ответь (это как раз «очень нужно»). Я подожду внизу. Никогда, никогда в жизни я больше не буду таким. И нельзя. Детик, если черкнешь, я уже до поезда успокоюсь. Только напиши верно правду!
??????????????Целую, твой Щен.
(Маяковский — Л. Брик. Февраль 1923 г. Москва)
Волосик, детик, щеник, хочу поехать с тобой в Петербург 28-го.
Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко.
??????????????Твоя Лиля
??????????????(кошечка).
(Л. Брик — Маяковскому. Февраль 1923 г. Москва)
Лисичка, Киса.
Билет я могу тебе прислать только 28-го (выдают лишь в день отъезда), не позднее, чем без пяти три (постараюсь), а то в три кончаются сроки и стоять еще у семафора это совсем грустно.
Лилик, обязательно достань себе какой-нибудь вид на жительство (может, в домкоме), а то тебя не пропишут — я для тебя никакого удостоверения достать не мог. На всякий случай, если ты будешь менять иностранный на трудовую книжку, шлю тебе записку к Томчину — чтоб зря не ждать.
Детик.
Мне все кажется, что ты была бы рада меня никогда не видеть?
Давай пусть это будет неправда. Целую Кису и птичков.
Твой

(Маяковский — А. Брик. 23 февраля 1923 г. Москва)
Деточка Кисик!
Только 28-го я могу получить билет (выдаются в день отъезда).
Когда идет поезд — еще не знаю — думаю, вечером.
Билет пришлю до 3-х часов, тогда же напишу точно о времени отхода поезда.
Целую тебя, родненькая.
???????????????????????????????????????Твой
???????????????????????????????????????????????Щен.
(Маяковский — А. Брик. Кон. февраля 1923 г. Москва)
Дорогой Детик.
Шлю билет.
Поезд идет ровно в 8 ч. Встретимся в вагоне.
Целую, твой
???????????????????Щен.
(Маяковский — А. Брик. 28 февраля 1923 г. Москва)
Волосик.
Хочешь 28-го уехать в Петербург, на несколько дней?
Если хочешь, встретимся на вокзале. Напиши мне 27-го — в котором часу, и пришли билет.
Если есть лишние деньги — закажи комнату в Европейской для того, чтобы разные Чуковские не знали о нашем приезде.
Никому не говори об этом, даже Оське.
??????????????Лиля.
(Л. Брик — Маяковскому. 7 февраля 1923 г. Москва)
Милый Володенька, я больна. Температура 38,1. Лежу в постели. Как твое здоровье? Целую тебя.
??????????????Лиля.
(Л. Брик — Маяковскому. Перв. пол. февраля 1923 г. Москва)
Целую тебя, детик!
Ужасно волнуюсь по поводу твоих 38,5. Не мог тебя никак поцеловать эти дни, потому что сам только сегодня встал.
Поправляйся, родная, пожалуйста, скорей!
Твой Щененок. Грустно не мочь зайти.
(Маяковский — Л. Брик. Перв. пол. февраля 1923 г. Москва)
Щеняточка, ты прислал такую грустную записку, прямо до слез! Боюсь поцеловать тебя, у меня такая паршивая испанка, — еще заразишься! Все-таки целую переносик. Твоя Лиля
??????????????(лежащая кошечка).
(Л. Брик — Маяковскому. Перв. пол. февраля 1923 г. Москва)
Лиска, Личика, Лучик, Лиленок, Луночка, Ласочка, Лапочка, Деточка, Солнышко, Кометочка, Звездочка, Деточка, Детик, Любимая Кисанька, Котенок.
Целую тебя и твою испанку (вернее, испанца, потому что испанок я никаких целовать не хочу). Посылаю тебе всякую мою ерунду. Улыбнись, Котик, Даже шлю известинскую чушь. Вдруг хихикнешь! Целую тебя.
Твой.
(Маяковский — Л. Брик. Перв. пол. февраля 1923 г. Москва)
Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский зашифровал ее. В черновиках: «Лиля в постели. Лиля лежит». В окончательном варианте: «В постели она, она лежит». Маяковский в черновике посвятил ее «Лиле и мне», а напечатал «Ей и мне». Он не хотел, чтобы эта вещь воспринималась буквально, не хотел, чтобы «партнеров» и «собутыльников» вздумали называть по именам.
«Про это» перекликается с поэмой «Человек», написанной семь лет тому назад. Потому и название одной из глав — «Человек из-за семи лет». Уже в «Человеке» Маяковский начал войну с пошлостью, с обывательщиной, ставшими темой «Про это».
Нет, он начал ее раньше, еще в «Трагедии». Помните?
Я искал
ее,
невиданную душу…
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
Еще в «Трагедии» он объявил войну «чаепитию», и продолжалась она до самой смерти.
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Если бы он много и прочувственно рассказывал девушкам, гуляя с ними по берегу моря: вот как я увидел входящий в гавань пароход «Теодор Нетте», вот как я пережил это видение, вот что я при этом чувствовал и какая это замечательная литературная тема, — то, может быть, знакомые и говорили бы, что Маяковский увлекательнейший собеседник, но он растратил бы свое чувство на переливание из пустого в порожнее и, вероятно, стихотворение не было бы написано. Маяковский был остроумен и блестящ, как никто, но никогда не был «собеседником» и на улице или природе, идя рядом с вами, молчал иногда часами…
…После Володиной смерти я нашла в ящике его письменного стола в Гендриковом переулке пачку моих писем к нему и несколько моих фотографий. Все это было обернуто в пожелтевшее письмо-дневник ко мне, времени «Про это». Володя не говорил мне о нем…
(Лиля Брик. «Из воспоминаний»)
Солнышко Личика!
Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это, по крайней мере, часов 500 непрерывного думанья!
Я пишу потому, что я больше не в состоянии об этом думать (голова путается, если не сказать), потому что думаю, все ясно и теперь (относительно, конечно) и, в-третьих, потому что боюсь просто разрадоваться при встрече, и ты можешь получить, вернее, я всучу тебе под соусом радости и остроумия мою старую дрянь. Я пишу письмо это очень серьезно. Я буду писать его только утром, когда голова еще чистая и нет моих вечерних усталости, злобы и раздражения.
На всякий случай я оставляю поля, чтоб, передумав что-нибудь, я б отмечал.
Я постараюсь избежать в этом письме каких бы то ни было «эмоций» и «условий».
Это письмо только о безусловно проверенном мною, о передуманном мною за эти месяцы, — только о фактах. (1 февр.)…
Ты прочтешь это письмо обязательно и минутку подумаешь обо мне. Я так бесконечно радуюсь твоему существованию, всему твоему даже безотносительно к себе, что не хочу верить, что я сам тебе не важен…
Что делать со «старым»
Могу ли я быть другой?
Мне непостижимо, что я стал такой.
Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, я три раза ведущий такую «не совсем обычную жизнь», как сегодня, — как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью.
Это не оправдание, Личика, это только новая улика против меня, новое подтверждение, что я именно опустился.
Но, детка, какой бы вины у меня не было, наказания моего хватит на каждую — не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а один, до сегодняшнего дня длящийся, теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние — всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью. Я вынес мое наказание как заслуженное. Но я не хочу иметь поводов снова попасть под него. Прошлого для меня до 28 декабря, меня по отношению к тебе до 28 февраля — не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах.
Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет — за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой — если я увижу опять начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того, чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным, что ты это допустишь.)
Решение мое ничем, ни дыханием не портить твою жизнь — главное. То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше, чем со мной, это удар хороший.
Это мое желание, моя надежда. Силы своей я сейчас знаю. Если силенки не хватит на немного — помоги, детик. Если буду совсем тряпка — вытрите мною пыль с вашей лестницы! Старье кончилось. (13 февраля 1923 г. 9 ч. 8 м.)
Сегодня (всегда по воскресеньям) я еще со вчерашнего дня неважный. Писать воздержусь. Гнетет меня еще одно: я как-то глупо ввернул об окончании моей поэмы Оське — получается какой-то шантаж на «прощение» — положение совершенно глупое. Я нарочно не закончу вещи месяц! Кроме того, это тоже поэтическая бытовщина — делать из этого какой-то особый интерес. Говорящие о поэме думают, должно быть, — придумал способ интригировать. Старый приемчик! Прости, Лилик, — обмолвился о поэме как-то от плохого настроения. (4/11)
Сегодня у меня очень «хорошее» настроение. Еще позавчера я думал, что жить сквернее нельзя. Вчера я убедился, что может быть еще хуже — значит, позавчера было не так уж плохо.
Одна польза от всего от этого: последующие строчки, представляющиеся мне до вчера гадательными, стали твердо и незыблемо.
О моем сидении
Я сижу до сегодняшнего дня щепетильно честно, знаю, точно так же буду сидеть и еще до 3 ч. 28 ф. Почему я сижу — потому что люблю? Потому что обязан? Из-за отношений?
Ни в каком случае!!!
Я сижу только потому, что сам хочу, хочу подумать о себе и о своей жизни.
Если это даже не так, я хочу и буду думать, что именно так. Иначе всему этому нет ни названия, ни оправдания.
Только думая так, я мог не кривя писать записки тебе — что «сижу с удовольствием» и т. д.
Можно ли так жить вообще?
Можно, но только не долго. Тот, кто проживет хотя бы вот эти 39 дней, смело может получить аттестат бессмертия.
Поэтому никаких представлений об организации будущей моей жизни на основании этого опыта я сделать не могу. Ни один из этих 39 дней я не повторю никогда в моей жизни.
Я только могу говорить о мыслях, об убеждениях, верах, которые у меня оформляются к 28-му, и которые будут точкой, из которой начнется все остальное, точкой, из которой можно будет провести столько линий, сколько мне захочется и сколько мне захотят.
Если бы ты не знала меня раньше, это письмо было бы совершенно не нужно, все решалось бы жизнью. Только потому, что на мне, в твоем представлении, за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек — привычек и пр. гадости — только поэтому тебе нужно, кроме моей фамилии, при рекомендации еще и этот путеводитель.
Теперь о создавшемся:
Люблю ли я тебя? (5/II 23 г.)
Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом писать, ты сама это знаешь.
Мне ужасно много хотелось здесь написать. Я нарочно оставил день продумать все это точно. Но сегодня утром у меня невыносимое ощущение ненужности для тебя всего этого.
Только желание запротоколить для себя продвинуло эти строчки.
Едва ли ты прочтешь когда-нибудь написанное здесь. Самого же себя долго убеждать не приходится. Тяжко, что к дням, когда мне хотелось быть для тебя крепким, и на утро перенеслась эта нескончаемая боль. Если совсем не совладаю с собой — больше писать не стану. (6/II)…
Опять о моей любви. О пресловутой деятельности. Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без тебя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет «деятельности» — я мертв. Значит ли это, что я могу быть всякий, только чтоб «цепляться» за тебя. Нет. Положение, о котором ты сказала при расставании «что ж делать, я сама не святая, мне вот нравится …чай пить», положение при любви исключается абсолютно…
О твоем приглашении
Я хотел писать о том, любишь ли ты меня, но твое письмо совершенно меня разбудоражило, я должен для себя еще остановиться на нем.
Может ли быть это письмо продолжением отношений? Нет, ни в каком случае, нет.
Пойми, детик! Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем, длить отношения не хотела ты, вдруг ты вчера решила, что отношения быть со мной могут, почему же мы не вчера поехали, а едем через 3 недели? Потому что мне нельзя? Этой мысли мне не должно и являться, иначе мое сидение становится не добровольным, а заточением, с чем я ни на секунду не хочу согласиться.
Я никогда не смогу быть создателем отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два месяца, а по мановению другого срываюсь, даже не зная, что думаешь, и, бросив все, мчусь. Не словом, а делом я докажу тебе, что я думаю обо всем и о себе также, прежде чем сделать что-нибудь.
Я буду делать только то, что вытекает и из моего желания.
Я еду в Питер.
Еду потому, что два месяца был занят работой, устал, хочу отдохнуть и развеселиться.
Неожиданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины.
Может ли быть у меня с ней что-нибудь? Едва ли. Она чересчур мало обращала на меня внимания вообще. Но ведь и я не ерунда — попробую понравиться.
А если да, то что дальше? Там видно будет. Я слышал, что этой женщине быстро все надоедает. Что влюбленные мучаются около нее кучками, один недавно чуть с ума не сошел. Надо все сделать, чтоб оберечь себя от такого состояния.
Чтоб во всем этом было мое участие, я заранее намечаю срок возврата (ты думаешь, чем бы дитя не тешилось, только б не плакало, что же, начну с этого), я буду в Москве пятого, я все сведу так, чтоб пятого я не мог не вернуться в Москву. Ты это, детик, поймешь. (8/II 23)
Любишь ли ты меня?
Для тебя, должно быть, это странный вопрос — конечно, любишь. Но любишь ли ты меня? Любишь ли ты так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?
Нет. Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне, у тебя — вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть, даже большое), но если я кончаюсь, то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять всплывается над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я б хотел так любить. …
Детик, ты читаешь это и думаешь — все врет, ничего не понимает. Лучик, если это даже не так, то все равно это мной так ощущается. Правда, ты прислала, детик, мне Петербург, но как ты не подумала, детик, что это на полдня удлинение срока! Подумай только, после двухмесячного путешествия подъезжать две недели еще ждать у семафора полдня! (14/II 23 г.)…
Лилятик — все это я пишу не для укора, если это не так, я буду счастлив передумать все. Пишу для того, чтоб тебе стало ясно — и ты должна немного подумать обо мне.
Если у меня не будет немного «легкости», то я не буду годен ни для какой жизни. Смогу вот только, как сейчас, доказывать свою любовь каким-нибудь физическим трудом. (18/II 23 г.)…
Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная любовь. А любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» — только свободным соревнованием со всем миром.
Я не терплю: «должен» приходить!
Я бесконечно люблю, когда я «должен» не приходить, торчать у твоих окон, ждать хоть мелькание твоих волосиков из авто.
Быт
Я виноват во всем быте, но не потому, что я лиричек-среднячек, любящий семейный очаг и жену-пришивальщицу пуговиц.
Нет!
Тяжесть моего бытового сидения за 66 — какая-то неосознанная душевная «итальянская забастовка» против семейных отношений, унизительная карикатура на самого себя. …
Я чувствую себя совершенно отвратительно и физически, и духовно. У меня ежедневно болит голова, у меня тик, доходило до того, что я не мог чаю себе налить. Я абсолютно устал, так как для того, чтоб хоть немножко отвлечься от всего этого, я работал по 16 и по 20 часов в сутки буквально. Я сделал столько, сколько никогда не делал и за полгода.
Характер
Ты сказала — чтоб я подумал и изменил свой характер. Я подумал о себе, Лилик, что б ты не говорила, а я думаю, что характер у меня совсем не плохой.
Конечно, «играть в карты», «пить» и т. д. это не характер, это случайность — довольно крепкие, но мелочи (как веснушки: когда к тому есть солнечный повод, они приходят, и уж тогда эту «мелочь» можно только с кожей снять, а так, если принять вовремя меры, то их вовсе не будет или будут совсем незаметные).
Главные черты моего характера — две:
1) Честность, держание слова, которое я себе дал (смешно?).
2) Ненависть ко всякому принуждению. От этого и «дрязги», ненависть к домашним принуждениям и… стихи, ненависть к общему принуждению.
Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, (а) по принуждению даже несение какой-нибудь покупки, самая маленькая цепочка вызывает у меня чувство тошноты, пессимизма и т. д. Что ж отсюда следует, что я должен делать все, что захочу? Ничего подобного. Надо только не устанавливать для меня никаких внешне заметных правил. Надо то же самое делать со мной, но без всякого ощущения с моей стороны. … Целую Кисю. (27/II 23)
Какая жизнь у нас может быть, на какую я в результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужасно по тебе соскучился и ужасно хочу тебя видеть.
(Маяковский — А. Брик. 1–27 февраля 1923 г. Москва)
Опасная профессия — профессия поэта. Она выматывает душу и сердце, и нервы!..
Часто вспоминаю слова Осипа Максимовича: не тот человек богат, у которого денег много, и не тот беден, у кого их мало. Богач тот — у кого денег больше, чем ему нужно (нужно три, а есть пять рублей), и нищий тот — у кого их меньше, чем нужно (есть три тысячи, а нужно десять).
У него же записано:
«Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня — как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за меня. Малейшее отклонение, малейшее колебание — уже измена. Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений. Не может быть, чтобы я ждал солнца, а оно не взойдет. Не может быть, чтобы я наклонился к цветку, а он убежит. Не может быть, чтобы я обнял березку, а она скажет „не надо“. По Маяковскому, любовь не акт волевой, а состояние организма, как тяжесть, как тяготение.
Были ли женщины, которые его так любили? Были. Любил ли он их? Нет! Он их принимал к сведению. Любил ли он сам так? Да, но он был гениален. Его гениальность была сильней любой силы тяготения. Когда он читал стихи, земля приподымалась, чтобы лучше слышать. Конечно, если бы нашлась планета, неуязвимая для стихов… но такой не оказалось!»
Да, такой не оказалось. Но он сумел уговорить себя, что она существует — для того, чтобы так писать стихи про это, для того, чтобы посадить себя в тюрьму, не поддаться «позорному благоразумию».
Маяковский был одинок не оттого, что он был нелюбим, непризнан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого «ненасытный вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит.
Ничего не поделаешь!
28 в 3 часа дня кончился срок нашей разлуки, а поезд в Ленинград отходил в 8 вечера.
Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона.
Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму «Про это». Прочел и облегченно расплакался…
Не раз в эти два месяца я мучила себя за то, что В. страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не хотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это было именно так.
(Лиля Брик. Из воспоминаний)
* * *
Несмотря на «хеппи-энд», которым разрешился этот любовный кризис, прежние его отношения с Лилей так и не восстановились. А вскоре и совсем разладились.
? С 1925 года, после возвращения поэта из Америки, их интимная жизнь кончилась, остались отношения чисто дружеские. До последнего времени об этом нигде в мемуаристике сказано не было, точки над i не стояли, что порождало кривотолки и множило слухи…
(Василий Катанян. «Прикосновение к идолам. Воспоминания». М., 2002, стр. 84–85)
Насчет того, что «до последнего времени об этом нигде в мемуаристике сказано не было» и «точки над i не стояли», — это правда. Но и никакого секрета Василий Васильевич Катанян нам не открыл.
В 1924 году, то есть за год до того, как «их интимная жизнь кончилась», Маяковский сам высказался на эту тему вполне ясно и определенно:
Я
??теперь
????????????свободен
??????????????????????????от любви и от плакатов.
??????????????????????????????????????????????????????????????Шкурой
ревности медведь
???????????????????????????лежит когтист.
Можно
??????????убедиться,
??????????????????????????что земля поката —
сядь
???????на собственные ягодицы
???????????????????????????????????????????и катись!..
…Было всякое:
???????????????????????и под окном стояние,
письма,
???????????тряски нервное желе.
Вот
?????когда
?????????????и горевать не в состоянии —
это,
??????Александр Сергеич,
????????????????????????????????????много тяжелей.
Айда, Маяковский!
????????????????????????????Маячь на юг!
Сердце
???????????рифмами вымучь —
вот
?????и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Когда я прочел Лиле Юрьевне и Василию Абгаровичу отрывок из своего «Случая Мандельштама», после обмена мнениями о Мандельштаме (был ли он на самом деле большим поэтом или всего лишь «Мраморной мухой»), Л. Ю. вдруг сказала:
— У меня к вам личная просьба.
Просьба состояла в том, чтобы я убрал из своего текста одно слово.
Слово это относилось к Маяковскому.
Я уже говорил, что отрывок, который я им читал, был не столько о Мандельштаме, сколько о Маяковском. И в этом отрывке, приведя знаменитые строки Владимира Владимировича — «Мне скучно здесь одному впереди, — поэту не надо многого, — пусть только время скорей родит такого, как я, быстроногого», я писал:
? Идеи, проповедуемые Маяковским, были официальными догматами и расхожими массовыми лозунгами. Говорить о том, что современники не доросли, не дозрели до понимания и приятия этих идей, разумеется, не приходится.
Почему же и у него вдруг прорвалось это чувство человека, оторвавшегося от своих, забежавшего далеко вперед? Ведь не о личном же одиночестве старого холостяка эти тоскливые жалобы:
Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души не шагает рядом.
Или:
Если б был я
???????????????????Вандомская колонна,
я б женился
??????????????????на Place de la Concorde.
Вот эти слова об одиночестве «старого холостяка» Л. Ю. и попросила меня вычеркнуть. Собственно, даже не слова, а только одно слово: «холостяк».
— Я была женой Маяковского, — сказала она. — И это вскользь брошенное о нем слово «холостяк» меня задело.
Я легко пообещал Лиле Юрьевне выполнить эту ее личную просьбу. Но — не выполнил.
Когда я давал ей это свое обещание, проблема публикации моего «Случая Мандельштама» была из области фантастики. Я тогда и думать не думал, что доживу до возможности увидеть этот свой опус напечатанным типографским способом. А когда такая возможность представилась (четверть века спустя), — забыл про свое обещание. То есть — не то, чтобы совсем забыл. Помнил, конечно. Но не только оно, а и сама просьба Л. Ю., как мне тогда казалось, уже потеряла свою актуальность.
Ведь слово «холостяк» так больно задело ее тогда только лишь потому, что оно неожиданно (неожиданно для меня!) рифмовалось с той гнусной кампанией, которая на протяжении нескольких лет велась против нее в печати.
Кроме строк, обращенных к Пушкину, в которых он признавался, что «теперь свободен от любви и от плакатов», в том же 1924 году он сделал такое же признание женщине. Не совсем, правда, реальной женщине, а женщине-мифу. Но сделал он ей не только это признание, но и, можно сказать, формальное предложение руки и сердца:
Любви я заждался,
????????????????????????????мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
???????????????????????????????Попросту.
Да так,
??????????чтоб скала
??????????????????????????распостелилась в пух.
От черта скраду
????????????????????????и от бога я!
Ну что тебе Демон?
?????????????????????????????Фантазия!
???????????????????????????????????????????Дух!
К тому ж староват —
??????????????????????????????мифология.
Не кинь меня в пропасть,
?????????????????????????????????????будь добра.
От этой ли
????????????????струшу боли я?
Мне
??????даже
??????????????пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
?????????????????????????тем более.
Отсюда
???????????дашь
??????????????????хороший удар —
и в Терек
??????????????замертво треснется.
В Москве
??????????????больнее спускают…
???????????????????????????????????????????Куда!
Ступеньки считаешь —
?????????????????????????????????лестница.
Я кончил,
??????????????и дело мое сторона.
И пусть,
???????????озверев от помарок,
про это
???????????пишет себе Пастернак,
А мы…
?????????Соглашайся, Тамара!
(«Тамара и Демон»)
Это предложение руки и сердца было, конечно, шуточное. Но боль, прорвавшаяся в строчке «В Москве больнее спускают… Куда!», — настоящая.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Главная опасность
Главная опасность — Самое опасное — это подушка безопасности, — сообщил мне человек, сидевший за рулем «десятки»; — Если не пристегнут, может вообще убить!— А если пристегнуться? — поинтересовался я. Водитель посмотрел на меня презрительно:— Кто ж
Главная книга
Главная книга И вот с того года, с той ночи, когда Глеб Максимилианович Кржижановский, замирая, мечтал «одним глазком» взглянуть на будущее, а потом вскоре включил его зримую, деловую, сияющую карту; с того года, как мы уехали из Углича; с того первого, смутного ощущения
Главная профессия
Главная профессия Литературный сценарий — это, как правило, история, событие, которое читаешь как повесть, как рассказ. В режиссерском сценарии явно проступает личность режиссера, который увидел это событие, эту историю по-своему. Для меня главное в режиссерском сценарии
ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ
ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ Самой большой его любовью была Лиля. Это признавали даже ее недоброжелатели: А та, которой он все посвятил, стихов и страстей лавину, свой смех и гнев, гордость и пыл — любила его вполовину. Все видела в нем недотепу-юнца в рифмованной оболочке: любила
ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ (ОКОНЧАНИЕ)
ГЛАВНАЯ ЕГО ЛЮБОВЬ (ОКОНЧАНИЕ) 30 июня 1928 года в «Комсомольской правде» было напечатано стихотворение Маяковского «Дачный случай»: Я ??нынешний год ???????????????????????проживаю опять в уже ?????????классическом Пушкино. Опять ????????облесочкана ???????????????????????????каждая
Главная книга
Главная книга В 1973 году в Париже всплывает самое знаменитое произведение Солженицына – «Архипелаг ГУЛАГ».С точки зрения литературы это шедевр. Одна беда: «Архипелаг ГУЛАГ» – произведение, претендующее на документальность. На правду. А в этом смысле дело обстоит – хуже
Главная роль
Главная роль Находясь под арестом, Шабельская впервые ощущает себя настоящей трагической актрисой. Суд станет ее триумфом, которого она не испытала в театре. Елизавета Александровна посылает угрозы Суворину: «Чтобы знали, что если я, не дотянув до суда – покончу в
Глава 12. «Любовь, о моя любовь, я дал обет тебя утратить…»
Глава 12. «Любовь, о моя любовь, я дал обет тебя утратить…» Самые прекрасные молодые годы Гала пришлись на время становления дадаизма. Время сюрреализма, повлекшее за собой плавное перетекание «дада» в «сюр», будет иметь непредсказуемые последствия в жизни этой странной
Мэрилин Ялом Любовь по-французски, или Как французы придумали любовь
Мэрилин Ялом Любовь по-французски, или Как французы придумали
Глава 12 «Любовь, о моя любовь, я дал обет тебя утратить…»
Глава 12 «Любовь, о моя любовь, я дал обет тебя утратить…» Самые прекрасные молодые годы Гала пришлись на время становления дадаизма. Время сюрреализма, повлекшее за собой плавное перетекание «дада» в «сюр», будет иметь непредсказуемые последствия в жизни этой
Главная утрата
Главная утрата Знакомый кинозрителям по фильму «Антон Иванович сердится», где исполнял куплеты «По улицам ходила большая крокодила», легендарный опереточный комик Александр Александрович Орлов, семидесяти пяти лет, рассказывал, как когда-то на ночной пирушке на пари с
Главная роль
Главная роль Все столики в ресторане Дома кино были заняты, и я сиротливо торчал у входа в зал. Мой телевизионный коллега А. Габрилович, удобно восседавший за столом с двумя дамами, пригласил меня на свободное место. Я с благодарностью подсел. Одна из дам, сексуальная
65. Главная премия
65. Главная премия В 1915 году в жизни Теслы произошло событие, которое удивило и разочаровало научный мир. На Нобелевскую премию по физике в числе прочих претендентов были номинированы Томас Эдисон и Никола Тесла – создатели современной электротехнической индустрии,
5. Главная опасность
5. Главная опасность Многие сомневаются, что такая позиция соответствует исторической правде. Недолгое время спустя, был опорочен, удален с кафедры и заточен в монастырь достойнейший из иерархов, архиепископ Ермоген. В свою очередь, епископ оказывается вынужденным