НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович

11(23).12.1858 – 25.4.1943
Режиссер, прозаик, драматург. Публикации в журналах и газетах «Стрекоза», «Жизнь», «Артист», «Новое время», «Голос», «Русский курьер», «Санкт-Петербургские новости» и др. Романы и повести «На литературных хлебах» (М., 1891, 1893), «Старый дом (Мертвая ткань)» (М., 1895), «Драма за сценой» (М., 1896), «Губернаторская ревизия» (М., 1896, 1897), «В степи» (М., 1897), «Сны» (М., 1898); пьесы «Шиповник» (1882, отд. изд. 1888), «Последняя воля» (1888), «Новое дело» (1890), «Золото» (1895), «Цена жизни» (1896), «В мечтах» (1901, отд. изд. 1902, Грибоедовская премия 1903). Постановки «Одинокие» Гауптмана (1899), «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Ибсена (1900), «На дне» М. Горького (1902, совм. с К. Станиславским), «Столпы общества» Ибсена (1903), «Юлий Цезарь» Шекспира (1903), «Иванов» Чехова (1904, совм. с К. Станиславским), «Дети Солнца» М. Горького (1905, совм. с К. Станиславским), «Бранд» Ибсена (1906), «Горе от ума» Грибоедова (1906, совм. с К. Станиславским), «Ревизор» Гоголя (1908; совм. с К. Станиславским), «Борис Годунов» Пушкина (1907), «Росмельсхорм» Ибсена (1908), «На всякого мудреца довольно простоты» Островского (1910), «Живой труп» Толстого (1911), «Нахлебник» Тургенева (1912), «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина (1914), «Каменный гость» Пушкина (1915) и др.
«Душой, совестью, сердцем и вождем театра был Станиславский. В Немировиче-Данченко чтили ум, организаторский талант, образованность и то, что он был писателем. Это последнее его качество особенно импонировало Станиславскому, который в делах литературных во всем уступал своему соратнику» (А. Серебров. Время и люди).
«Он, 2-й директор Московского Художественного театра, был полной противоположностью Станиславского, и ничего московского в нем не было: безукоризненно одетый (он носил всегда цилиндр), с аккуратно подстриженной бородой, со сдержанными манерами, с размеренной, спокойной речью, Немирович был как бы „сдерживающим центром“ для порывов Станиславского, и его спокойствие и здравомыслие Станиславским очень ценились, и всегда каждая его постановка перед концом проверялась этим умнейшим и тактичнейшим человеком. И наоборот, каждая постановка Немировича корригировалась Станиславским (один как бы смягчал углы и закруглял, другой придавал, где надо, „перцу“ и обострял). Этот „симбиоз“ держался очень прочно, и чрезвычайно редко возникали между ними трения» (М. Добужинский. Воспоминания).
«Несмотря на то что о встрече со Станиславским рассказывалось в печати так много и часто, любители театра все еще сохранили к ней какой-то романтический интерес.
…Как началась наша беседа, я, разумеется, не помню. Так как я был ее инициатором, то, вероятно, я рассказал обо всех моих театральных неудовлетворенностях, раскрыл мечты о театре с новыми задачами и предложил приступить к созданию такого театра, составив труппу из лучших любителей его кружка и наиболее даровитых моих учеников.
Точно он ждал, что вот придет наконец к нему такой человек, как я, и скажет все слова, какие он сам давно уже имел наготове. Беседа завязалась сразу с необыкновенной искренностью. Общий тон был схвачен без всяких колебаний. Материал у нас был огромный. Не было ни одного места в старом театре, на какое мы оба не обрушились бы с критикой беспощадной. Наперебой. Стараясь обогнать друг друга в количестве наших ядовитых стрел. Но что еще важнее, – не было ни одной части во всем сложном театральном организме, для которого у нас не оказалось бы готового положительного плана – реформы, реорганизации или даже полной революции.
Самое замечательное в этой беседе было то, что мы ни разу не заспорили. Несмотря на обилие содержания, на огромное количество подробностей, нам не о чем было спорить. Наши программы или сливались, или дополняли одна другую, но нигде не сталкивались в противоречиях. В некоторых случаях он был новее, шел дальше меня и легко увлекал меня, в других охотно уступал мне.
Вера в друг друга росла в нас с несдерживаемой быстротой. Причем мы вовсе не старались угождать друг другу, как это делают, когда, начиная общее дело, прежде всего торгуются о своих собственных ролях. Вся наша беседа заключалась в том, что мы определяли, договаривались и утверждали новые законы театра, и уж только из этих новых законов вырисовывались наши роли в нем.
…В оценках Художественного театра его организация всегда славилась чуть ли не наравне с его искусством. В нашей восемнадцатичасовой беседе были заложены все основные принципы этой организации. Мы не упивались самовлюбленным обменом мечтаний. Мы знали, как быстро распадались предприятия, когда люди с наивной горячностью отдавались „благим намерениям“, а в практическом осуществлении рассчитывали на каких-то деловых, второстепенных персонажей, которые вот придут помочь сразу все устроить и к которым идейные руководители чувствовали даже некоторое пренебрежение.
Разрабатывать план во всех подробностях было нетрудно, потому что организационные формы в старом театре дотого обветшали, что словно сами просились на замену новым.
…Отношение к публике было одним из крупных вопросов нашей беседы. В принципе нам хотелось поставить дело так, чтобы публика не только не считала себя в театре „хозяином“, но чувствовала себя счастливой и благодарной за то, что ее пустили, хотя она и платит деньги. Мы встретим ее вежливо и любезно, как дорогих гостей, предоставим ей все удобства, но заставим подчиняться правилам, необходимым для художественной цельности спектакля.
Опускаю еще много других частностей нашей беседы: афиша должна составляться литературнее казенной афиши Малого театра; занавес у нас будет раздвижной, а не поднимающийся; вход за кулисы запрещен, о бенефисах не может быть и речи; весь театральный аппарат должен быть так налажен до открытия театра, чтоб первый же спектакль производил впечатление дела, организованного людьми опытными, а не любителями; чтобы не было запаздывания с началом, затянутых антрактов: там что-то случилось со светом, там зацепился занавес, там кто-то шмыгнул за кулисы и т. д.
Крупнейшими кусками организации были:
репертуар,
бюджет
и, – самое важное и интересное, – порядок репетиций и приготовление спектакля.
Наиболее глубокая организационная реформа заключалась именно в том, как готовился спектакль.
…Вот что было в самом корне сближения между мною и Станиславским. И, может быть, чем больше в нашей беседе было деловых, кажущихся скучными, подробностей, чем меньше мы избегали их, тем больше было веры, что дело у нас пойдет» (Вл. Немирович-Данченко. Из прошлого).
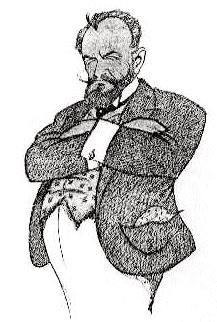
Владимир Немирович-Данченко
«Это был учитель и режиссер в большом, широком смысле слова: он вел актеров, учил их пониманию авторов, современному восприятию искусства, беседовал об истории и психологии, давал уроки высочайшей культуры.
…Владимир Иванович был чуток, внимателен, тактичен. Он всегда точно определял, когда артист готов к внутреннему раскрытию и какой сложности задачу может решить в данный момент. Постепенность, с которой он добивался необходимого результата, исключала у артиста опасную мысль, что роль не по плечу. Все это я наблюдала на других, испытывала на себе. Он создавал человека-актера – не мучая его, всегда прислушиваясь к нему, приходя на помощь. Его подробные наставления и объяснения, его замечательные по четкости мысли показы помогали вжиться в образ, действовать в нем, они давали пищу для размышления о роли, о пьесе, о назначении артиста, о театре вообще. Его режиссерский авторитет был непререкаем. Во время работы с ним мной руководило одно желание – хорошо выполнять все его задания. Он вел нас со ступеньки на ступеньку, и я знала – им нет числа, потому что верх этой лестницы – совершенство. Немногим дано дойти, но сам путь с таким ведущим – счастье.
Ценя на сцене превыше всего правду и простоту, Немирович-Данченко равно не терпел серой, безразличной простотцы, выдаваемой за реализм, и выспренно-фальшивой декламационности, почитаемой романтизмом. Романтическую возвышенность чувств Владимир Иванович так же находил в исполнении мхатовскими актерами пьес Чехова, как и в игре Ермоловой, Федотовой или Самарина, подчеркивая их отличие от ложного, по его мнению, романтизма Малого театра» (С. Гиацинтова. С памятью наедине).
«Что касается Немировича-Данченко, рассказывалось главным образом о его „епиходовщине“ и его „двадцати двух несчастьях“. То как, въезжая во двор театра, извозчичья пролетка, на которой он ехал, задела колесом за тумбу, резко качнулась, и сидевший в ней, как обычно гордо и величаво выпрямившись, Владимир Иванович подскочил, ткнулся носом в спину извозчика, и с него свалился и упал под колесаего знаменитый ярко лоснящийся цилиндр. И как назло по двору шла большая группа актеров, которые, конечно, не удержали взрыва веселого хохота. Владимир Иванович, подобрав цилиндр, нанял другого извозчика и уехал домой…И еще – как он опрокинул себе на живот и колени стакан очень горячего чая и, оглянувшись, поискав глазами Василия Ивановича [Качалова. – Сост.], прячущего за чужие спины смеющееся лицо, сказал ему: „Ну почему со мной все это случается обязательно в вашем присутствии, ведь я знаю, что вы это коллекционируете“. Дунул в портсигар и запорошил себе глаза; элегантно присел на край режиссерского стола – и крышка стола перевернулась, на Владимира Ивановича полетели графин, чернила, лампа… Споткнулся о чью-то ногу и растянулся в проходе между креслами в партере. И, наконец, любимейший рассказ: во время какой-то очень напряженной паузы, последовавшей за очень резким замечанием Владимира Ивановича одной из актрис, он вскочил, вылетел из-за режиссерского стола в средний проход и начал с хриплыми возгласами „ай! ай! ай!“ кружиться вокруг своей оси и бить себя ладонями по бедрам и груди, потом сорвал с себя пиджак и стал топтать его ногами… Оказалось, что у него загорелись в кармане спичкии прожгли большие дыры в брюках и пиджаке. Репетиция сорвалась» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943)
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943) Один из основателей и руководителей Московского Художественного театра, драматург и прозаик; участвовал в постановке всех пьес Чехова, шедших на сцене МХТ; в 1940 году осуществил последнюю, классическую постановку «Трех
Вл. И. Немирович-Данченко
Вл. И. Немирович-Данченко Первое время нашего знакомства мы встречались не часто, даже не могли бы назвать себя «приятелями». Впрочем, я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?У него была большая семья: отец, мать, четыре брата и сестра. По
Вл. И. Немирович-Данченко
Вл. И. Немирович-Данченко Передо мной три портрета Чехова, каждый выхвачен из куска его жизни.Первый: Чехов «многообещающий». Пишет бесконечное количество рассказов, маленьких, часто крошечных, преимущественно в юмористических журналах и в громадном большинстве за
Вл. И. Немирович-Данченко
Вл. И. Немирович-Данченко В Москве часто организовывались кружки писателей, всегда не надолго, быстро рассыпались. Одним из таких кружков заведовал Николай Кичеев, редактор журнала «Будильник». Всегда очень приличный, корректный, приветливый, немножко холодноватый,
Вл. И. Немирович-Данченко
Вл. И. Немирович-Данченко Писал Чехов «Чайку» в Мелихове. Оно находилось в двух-трех часах от Москвы по железной дороге, и потом одиннадцать верст по проселочной дороге леском. В имении был довольно большой одноэтажный дом. Туда часто наезжали гости. Чехов положительно
КАСТОРСКИЙ Владимир Иванович
КАСТОРСКИЙ Владимир Иванович 2(14).3.1871, по другим сведениям 1870 – 2.7.1948Оперный певец (бас). С 1898 солист Мариинского театра. Один из лучших исполнителей партий в операх Вагнера (Вотан – «Кольцо нибелунга», Хаген – «Гибель богов», король Марк – «Тристан и Изольда»). Участвовал в
НАРБУТ Владимир Иванович
НАРБУТ Владимир Иванович 2(14).4.1888 – 14.4.1938Поэт, прозаик, критик, журналист, редактор. Член «Цеха поэтов» (с 1911). Стихотворные сборники «Стихи (Год творчества первый)» (СПб., 1910), «Аллилуйя» (СПб., 1912), «Любовь и любовь» (СПб., 1913), «Вий» (Пг., 1915), «Веретено» (Киев, 1919), «Стихи о войне»
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович 24.12.1844(5.1.1845) – 18.9.1936Прозаик, поэт, журналист, военный корреспондент. Публикации в журналах и газетах «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Дело», «Русская речь», «Русское слово», «Исторический вестник», «Нива» и др. Начиная с
РЕБИКОВ Владимир Иванович
РЕБИКОВ Владимир Иванович 19(31)(?).5.1866 – 4.8.1920Композитор. В 1898–1901 участвовал в организации первого в истории русской музыки официального творческого объединения «Общество русских композиторов». Основатель Одесского и Кишиневского отделений Русского музыкального
Василий Немирович-Данченко{198} Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве)
Василий Немирович-Данченко{198} Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве) Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева — «К синей звезде»{199}. Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва
ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО[3] «ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ»
ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО[3] «ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ» Близость между Художественным театром и Чеховым была чрезвычайно глубока. Родственные художественные идеи и влияние Чехова на театр были так сильны, что кажутся несоизмеримыми с тем коротким сроком, который они продолжались. Ведь
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ И ОСИП ИВАНОВИЧ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ И ОСИП ИВАНОВИЧ 1Но был еще Осип Иванович…Был Осип Иванович, маленький чиновник (и ростом маленький, с тяжелым горбом за спиной) — переписчик; по должности — переписчик, но главное — жизнью слепленный переписчик. Ему ведь и чинишки кое-какие шли за
Вл. Ив. Немирович-Данченко. И. Д. Сытину
Вл. Ив. Немирович-Данченко. И. Д. Сытину Глубокоуважаемый Иван Дмитриевич!Все культурные дороги устремлены к одной цели — к утверждению духовной красоты. По всем культурным дорогам, как бы ни были разнообразны их средства, идет непрерывная расчистка путей, запущенных
Потапов Владимир Иванович
Потапов Владимир Иванович Уходил в армию я где-то 20 апреля 1984 года из города Киров Калужской области. В Калуге пробыли трое суток, ждали, пока приедет «покупатель» из Литвы. Приехали в Литву, город Гайджунай, известное место, там еще снимали фильмы «В зоне особого