Глава IX РОБЕР МАКЭР
Глава IX
РОБЕР МАКЭР
3ло, как и добро, имеет своих героев.
Ларошфуко
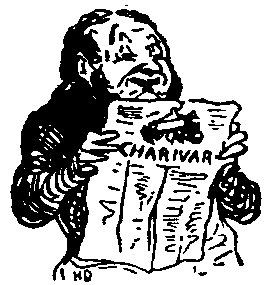
Почти год минул с того дня, как вышел последний номер «Карикатюр». Филипон, однако, не прекратил своей кипучей деятельности. Продолжалось издание «Шаривари», в ней работали все те же художники, в числе которых был, конечно, и Оноре Домье.
Домье казалось, что ход времени ощутимо замедлился.
Прежние годы пролетали стремительно. Они были наполнены политической борьбой, юношескими надеждами, радостью первых успехов, поисками своего пути. Теперь многое переменилось. События, в которых он раньше принимал деятельное участие, совершались сейчас помимо него. Он мог радоваться или возмущаться, но как художник оставался немым. К тому же он стал старше. За свои двадцать восемь лет Домье пережил три восстания, тюрьму. Жизнь не сделалась менее любопытной. Просто он смотрел на нее более проницательным, чем прежде, спокойным взглядом зрелого человека.
Жизнь Домье текла с внешней невозмутимостью, так отличной от бурных событий минувших лет. Но в глубине души он переживал нелегкое время. Его искусство росло на сюжетах острых, волнующих; его литографии были рождены возмущением, гневом, горькой иронией. Раньше Домье рисовал тех, кого ненавидел, или тех, кем восхищался: убийц, мошенников или героев. Остальное казалось мелким, не заслуживающим внимания. Большие события рождали большие чувства. Ныне же его творчество оставалось в стороне от настоящей борьбы. Ему пришлось заняться бытовой карикатурой, изображать забавные сценки, делать рисованные анекдоты. Это угнетало Домье.
После вступления в силу законов о печати в «Шаривари» настало вынужденное затишье. Политические карикатуры исчезли. Чтобы «Шаривари» не стала обычным развлекательным листком, Филипону приходилось проявлять чудеса изобретательности. Он старался скрывать политическую сатиру за внешней невинностью сюжетов, рассчитывая, что читатели окажутся проницательнее цензуры.
Король, министры, депутаты были защищены от любых нападений печати «плотной кольчугой Сентябрьских законов. Но разве только эти люди были достойны осмеяния? В воздухе словно носился густой запах золота. Со сказочной быстротой возникали и исчезали состояния. Затевались гигантские спекуляции. Все можно было купить и продать: орден, дворянскую грамоту, почетную должность. Биржа бурлила, как никогда. Можно было подумать, что микробы наживы расползаются из Тюильри, где царствует король-банкир, во все уголки страны. Как ядовитые грибы после дождя, появлялись сотни темных дельцов. Париж наводняли акции сомнительных предприятий; открывались и лопались, как мыльные пузыри банки, промышленные компании. Золото, отобранное в виде налогов или просто украденное у народа, сыпалось в казну, оседая по дороге в карманах всевозможных должностных лиц — от сборщика налогов до министра. Все это было порождением государственной системы. Героем времени становился буржуа — банкир, делец, промышленник.
Филипон задумал создать его двойника и подобие: собирательный портрет, который не изображал бы никого в отдельности, но был бы похож на любого.
Филипон мечтал о новом шедевре «Шаривари», способном сравниться со «Знаменитостями Золотой середины». Рисунки будет делать Домье, подписи — сам Филипон.
Герой этой серии не был вполне вымышленным. Он родился давно, больше десяти лет назад, на подмостках маленького театра Амбигю-Комик.
Его звали Робер Макэр.
Он хорошо был знаком Домье. Еще совсем мальчишкой, с галереи Амбигю-Комик он смотрел мелодраму «Постоялый двор в Адре» и до сих пор помнил курьезную фигуру одноглазого разбойника Макэра, которого играл никому еще не известный актер Леметр.
Робер Макэр имел свою историю.
Когда двадцатитрехлетний артист Фредерик Леметр получил роль злодея-разбойника в пьесе Бенжамена, Сент-Амана и Полианта «Постоялый двор в Адре», его охватило уныние. Ходульный образ кровожадного бандита был до тошноты банален. В двадцатых годах бандиты на сцене встречались двух родов: благородные, сумрачные герои и гнусные убийцы. Макэр представлял собою самый неудачный образец последней категории. Его было просто стыдно играть.
Леметр нашел единственно возможный выход — он решил осмеять своего героя, сделать из него пародию на собственную роль.
Совсем случайно в маленьком кафе Леметр встретил какого-то проходимца, который показался ему идеальным прототипом будущего Робера Макэра. Леметр запомнил его облик, костюм и манеры.
В вечер премьеры на сцену вышел человек, ничем не напоминавший театрального разбойника. Наряд его был необычен: яркий шарф до ушей, заменявший и воротничок и галстук, белый жилет, зеленый фрак, пунцовые штаны в заплатах, дамские ботинки. На голове его красовалась серая шляпа, глаз закрывала черная повязка, на шее болтался лорнет. В руках оглушительно скрипела табакерка.
Свои злодейские тирады Макэр произносил так, что зрители умирали со смеху. Леметр вставлял в скучный авторский текст собственные остроты. Трафаретный злодей был единственным живым человеком в третьесортной пьесе. Он стал настоящим героем спектакля.
Все же мелодрама была так безнадежно плоха, что ее не смог выручить даже замечательный талант Леметра. Она скоро сошла со сцены. Пьеса погибла, но ее истинный герой остался в памяти зрителей. Парижане не забыли одноглазого проходимца.
Через несколько лет Робер Макэр опять появился на сцене: спектакль возобновили вскоре после июльской революции. Новый Макэр рождался постепенно. Ставший уже известным актером, Леметр раз от разу все больше изменял текст пьесы. Наконец она была написана заново, только уже с участием самого Леметра. Макэр был в ней главным действующим лицом.
Премьера нового «Робера Макэра» состоялась два года назад — 26 июня 1834 года в театре Фоли-Драматик.
На сцене появился преображенный Робер Макэр. Он сбросил свои лохмотья и нарядился в отличную черную пару. Прежде взлохмаченные волосы легли напомаженными волнами. Он был представителен, почти элегантен. С большой дороги, из сомнительных кабачков бандит перекочевал в пышные гостиные богачей июльской монархии. О прежнем Макэре напоминала лишь повязка на глазу, скрипучая табакерка и неугасимая страсть к мошенничеству. Но масштабы его предприятий изменились. Что жалкие убийства на постоялом дворе из-за нескольких тысяч франков! Сейчас он занят крупными делами. Он организует «Общество борьбы с ворами», обладающее солидным капиталом, он помышляет о выгодной женитьбе. Его разбойничьи таланты ныне действуют в высоких сферах финансовой политики. Робер Макэр нашел свое истинное призвание. Став дельцом, бандит обрел самого себя.
Перерожденного Макэр а публика встретила с восторгом. Каждый вечер он был нов, неповторим. Леметр вставлял в текст роли реплики и остроты, связанные со злободневными событиями. Иногда представление заканчивалось арестом Леметра, но его быстро отпускали, боясь волнений. Актер был слишком популярной фигурой.
Впитывая все гнусные черты буржуазии, Макэр перерастал самого себя. Он становился квинтэссенцией буржуазного дельца и политикана. Как-то министр Гизо заявил в ответ на протесты против высокого избирательного ценза: «Обогащайтесь, и вы будете избирателями!»; Макэр шел по пути, который указал Гизо.
Рассказывали, что однажды на спектакль приехал Тьер вместе со своим тестем. Оба, глядя на сцену, хохотали и аплодировали — каждый думал, что видит пародию на другого.
Наконец, осознав, насколько опасен Робер Макэр, правительство начало борьбу; зашевелилась цензура. Леметр, усмехаясь, говорил: «Не понимаю, почему допускают на сцене присутствие страшных разбойников, вооруженных до зубов, но кричат о безнравственности, видя Робера Макэра и его тестя в черных костюмах и перчатках…»
Уже тогда Макэр стал проникать в карикатуры. Его черты придавали королю и министрам. Незадолго до Сентябрьских законов Домье тоже рисовал в образе Робера Макэра короля и Тьера.
Растущая популярность Макэра приближала его неминуемую гибель. Леметр понимал, что дни его героя сочтены, и решил нанести противнику последний, сокрушительный удар.
На очередном представлении облик Робера Макэра изменился. У него появились густые, распушенные книзу бакенбарды, щеки обрюзгли, нос сделался длинным и горбатым. Макэр стал копией Луи Филиппа. Леметр соединил в одном образе бандита, дельца и короля.
Спектакль был немедленно запрещен.
Но исчезнуть бесследно Робер Макэр уже не мог. Его видели сотни парижан и лондонцев — Леметр был на гастролях в Англии. Макэр стал почти реальной фигурой. Его уже не могли забыть, как не забывали Сандрильону или Фанфана Тюльпана. К тому же Макэр не был веселым сказочным героем — он был олицетворением пороков времени и потому вдвойне бессмертен.
Цензура могла запретить пьесу, но кто мог помешать рисовать вымышленного героя? Расчет Филипона оказался правильным. Роберу Макэру были обеспечены успех и относительная безопасность.
Решили, что в серию войдет сто один лист — по числу выстрелов орудийного салюта нации., «Шаривари» салютовала политическому пройдохе.
Во всем этом превосходном плане имелась лишь одна деталь, огорчавшая Домье. Рисунки зависели от текста Филипона, должны были иллюстрировать его. За минувшие годы Домье убедился в том, что карикатура, снабженная длинным пояснением, много теряет в своей выразительности. Когда под рисунком нет ничего, кроме названия, внимание зрителя не дробится, художник говорит с ним языком только своего искусства. Занимательность уступает место цельному яркому впечатлению. Так было с «Гаргантюа», с «Законодательным чревом», с «Улицей Транснонен».
Но Домье знал и ю, что серия Робера Макэра — одна из немногих возможностей продолжать борьбу. Поэтому он без колебаний принял предложение Филипона.
20 августа 1836 года появилась первая литография серии, получившей название «Карикатюрана». И с тех пор, в течение двух лет, почти каждую неделю Домье неизменно рисовал нового Робера Макэра.
Получив в редакции текст, Домье по пути к дому уже думал над будущим рисунком. Роберы Макэры неизменно занимали его воображение. Вольно или невольно Домье отдавал «Карикатюране» весь запас наблюдений, все, что оседало в памяти во время прогулок, разговоров, случайных встреч. Он вглядывался в прохожих, искал в их лицах, манерах, жестах то, что можно было вложить в литографии. Забавная походка идущего впереди человека, характерное лицо, одежда заставляли Домье пройти вслед за незнакомцем несколько кварталов, пока впечатление прочно не оседало в памяти. Тогда он возвращался домой довольный, новый образ давал толчок фантазии, заставлял работать воображение.
Текст Филипона представлял собой диалог Робера Макэра с его приятелем и помощником Бертраном или каким-нибудь другим персонажем. Домье самому приходилось решать, где и в какой обстановке находятся его герои.
Макэр много говорил, внешнее действие в рисунках почти всегда отсутствовало. Приходилось искать такую позу, выражение лица, движение рук, которые соответствовали бы не одной короткой фразе, а длинному разговору или монологу. Это была неблагодарная задача, далеко не все литографии получались удачными.
Открывающий серию лист, где Домье впервые изобразил своих персонажей, заставил его вспомнить свои юношеские литографии. Герои «Карикатюраны» только начинали обрисовываться, им не хватало живых характеров, они походили на кукол. Домье изобразил Робера Макэра и Бертрана на постоялом дворе в изорванном платье, которое они носили в прежней скитальческой жизни. Макэр сообщает Бертрану, что обожает промышленность и собирается всерьез заняться ею. Разговор заканчивается блестящей фразой Макэра, сказанной в ответ на сомнение и страхи Бертрана, опасающегося полиции: «Разве арестовывают миллионеров?!»
Разочаровавшись неудачей первого листа, Домье нарисовал следующую литографию по-иному: выдвинул фигуры Робера и Бертрана на первый план, вы, — делил их более густым тоном, сделал движения резче. Лицу Макэра он придал постное и лицемерное выражение. Облик Макэра определился: одутловатые щеки, вздернутый нос, лохматые бакенбарды. Домье отнюдь не копировал образ, созданный Леметром. Театральный герой был худым, поджарым, да и грим Леметра был совсем иным.
Робер и Бертран только что водрузили на стене гигантское объявление об основании нового филантропического общества — «Общества клистира». «Видишь ли, Бертран, мы будем ухаживать за акционерами даром — ты им будешь ставить клистир, ты их очистишь, а я буду им пускать кровь!»
Так начинал свою жизнь Робер Макэр под карандашом Оноре Домье.
Скоро Макэр сбросил лохмотья. Уже на следующей литографии он восседает в собственной гостиной, облаченный в роскошный парчовый халат. Он все больше расширяет дела — учитывает и переучитывает векселя, занимается адвокатской практикой, становится полицейским агентом. Иногда он вновь надевает традиционные лохмотья, иногда на нем элегантный костюм. Его речи неизменно собирают зевак. Он торгует акциями. «Серебряные рудники, золотые и алмазные россыпи — все это мыльные пузыри по сравнению с каменноугольными конями. Но тогда, скажете вы, тогда он продает свои акции за миллионы! Мои акции, господа, я не продаю, я отдаю их за жалкие двести пятьдесят франков. Я даю их две за одну, а к ним еще булавку, ухочистку, наконечник для шнурка и свое благословение в придачу! Вперед, бей в барабан!»
Бертран меланхолически стучит по барабану, а толпа в мучительном недоумении взирает на вздорную фигуру Робера Макэра — люди не в состоянии оторваться от созерцания акций, сулящих такие невероятные прибыли.
Работа над «Сто одним Робером Макэром» приносила Домье больше разочарований, чем удовлетворения. Иногда он подолгу просиживал перед камнем, в двадцатый раз перечитывая текст и чувствуя мучительную пустоту в голове. Первые литографии он сделал довольно легко, но потом дело пошло все хуже и хуже. Он видел, что начинает повторяться. Нередко приходилось кончать рисунок наспех, так и не отыскав живого, острого решения. Тогда литография оставалась лишь приложением к тексту, и Домье смотрел на нее с отвращением,
Париж щедро рассыпал перед взглядом Домье бесчисленное множество прихотливых впечатлений. Часто они бывали печальными, часто смешными, чаще всего — и теми и другими одновременно. Любое кафе на полдюжины шатких столиков было местом, где за два часа можно увидеть немало обрывков самых разных человеческих судеб.
Сидя где-нибудь в углу за кружкой пива и посасывая мундштук своей трубки, к которой он пристрастился за последние годы, Домье предавался любимому занятию — смотрел на людей. На поручне, ограждавшем исцарапанное зеркало, сохли промокшие шляпы и зонты, усатая буфетчица дремала за цинковым прилавком, где между бутылками мирно спал кот. За соседним столиком играли в домино, напротив спорили о политике: «Моле, пожалуй, ничем не лучше, чем Гизо!..»
Какое разнообразие лиц и характеров!.. Опустившийся рантье с сальными космами давно не стриженных волос, в грязной сорочке, но с дорогим фамильным кольцом на пальце; добродушный каменщик разгоняет дневную усталость за стаканом дешевого вина; случайный щеголь с Шоссе-д’Антен пережидает дождь; мечтательный юноша в розовом галстуке, вот уже два часа безнадежно ждущий кого-то, в десятый раз перечитывает залитый кофе номер «Трибюн».
Домье не брал с собой карандаша. Движение рук, улыбки, гримаса лавочника, нашедшего муху в тарелке, тусклые глаза задумчивого пьяницы — все отчетливо врезалось в память. До поры до времени впечатления оставались в запасе. Но при первой же необходимости Домье мог наделить любого из своих персонажей неповторимо-индивидуальной внешностью.
В ясные дни, если только работа не поглощала его времени целиком, Домье по-прежнему много бродил по городу.
Париж стремительно рос. Накопленное и наворованное золото переплавлялось в особняки и дворцы. На площади Согласия 23 октября торжественно установили огромный египетский обелиск. Он весил пятьсот тысяч фунтов и стоил два миллиона. Парижане острили: «Нашему обелиску цена — четыре франка за фунт…» В конце проспекта Елисейских полей высилась гигантская Триумфальная арка. Ее строили тридцать шесть лет и кончили только этим августом. Ее задумали в годы Великой революции, строили в честь Наполеона и завершили при Луи Филиппе. «Король-гражданин» ухитрился подыскать место для своей собственной статуи на одном из пилонов арки. И все же арка нравилась Домье — при всей ее пышности была в ней спокойная прочность, соразмерность, она торжественно завершала центральный проспект столицы. Но больше всего Домье восхищался скульптурной группой правого пилона, работы Рюда. Официально она именовалась: «Выступление добровольцев в 1792 году». Но парижане называли ее «Марсельезой».
Высеченная из серого камня крылатая женщина в фригийском колпаке Напоминала и «Свободу на баррикадах!» Делакруа и греческую статую богини победы Ники, стоящую на площадке луврской лестницы. В ней сочетались ясная строгость классики с горячим порывом. Навсегда застывшая в стремительном полете, фигура действительно казалась окаменелым гимном. Брови были гневно сдвинуты, рот открыт, создавалось полное впечатление рвущейся с губ песни. Прео, знавший все на свете, рассказывал Домье, что Рюд «заставлял позировавшую ему свояченицу громко кричать», чтобы схватить движение рта.
В этой скульптуре страсть соединялась с простотой и точным расчетом, Домье подолгу любовался группой Рюда. Вот еще один пример того, что величие Франции — в прошлом. Героика ушла из современности, художников больше не вдохновляет народный порыв. А сейчас у подножия арки ходят Роберы Макэры. Домье становилось тошно от таких мыслей, в душе поднималась злость на этих мелких и пошлых людей.
Серия Макаров росла. К Новому году вышло около двадцати листов. «Карикатюрана» имела шумный успех, перед окнами Обера теснился народ, подписчики даже потребовали увеличить формат литографий.
Домье, когда его поздравляли, отмалчивался, иногда отвечал: «Если кого-нибудь можно хвалить, то месье Филипона, я только иллюстратор». Друзьям он признавался: «Я думаю, что подписи бесполезны. Если рисунок сам по себе ничего не говорит, текст не сделает его лучше. Если же он хорош, то он сразу понятен — зачем же тогда подпись?»
Он ценил «Карикатюрану» как политический памфлет, но свою роль в ней не ставил высоко. Все же над многими рисунками он работал с увлечением. От листа к листу его Робер Макэр терял все случай» ное, внешнее, как будто сам Домье все ближе знакомился с ним. Традиционный костюм уже не был так заметен, часто Макэр обходился без повязки на глазу. Зато в постановке фигуры, в прищуре глаз, в наклоне головы все больше выступал наружу совершенный по своей законченности характер. Все качества, которые приобретают люди, ставящие превыше всего деньги и готовые разменять на звонкую монету последние остатки чести и совести, ясно проступали в Робере Макэре: развязность, черствость, пошлая аффектация, грубый цинизм. Качества эти не были абстрактными пороками, они раскрывались в неповторимо «макэровских» жестах и ужимках. И вместе с тем в десятки листов «Карикатюраны» Домье вкладывал столько живых наблюдений над дельцами июльской монархии, а деятельность Робера Макэра была так разнообразна, что в образе его концентрировался портрет огромной массы люден. В рисунках Домье Макэр, как талантливый актер, играл стряпчих, адвокатов, банкиров, маклеров, врачей, финансистов, нотариусов, журналистов. Каждый раз он был новым и каждый раз наделял свои роли частью своего собственного «я».
Не случайно в литографиях Домье, посвященных Роберу Макэру, был легкий отзвук буффонады. С детских лет Домье любил театр, в его душе жила истинно провансальская страсть к ярким, остроумным зрелищам, впитанная, наверное, с молоком матери. На театральной сцене жизнь обрисовывалась с особенной четкостью, характеры концентрировались, сгущались, жесты точно выражали чувства. Вечера, проведенные в театре, не проходили даром, Домье уносил оттуда много полезных наблюдений. И, конечно, рисуя Макэра, он не раз вспоминал Фредерика Леметра.
Макэр не был одинок, его окружало много других персонажей. Домье населял свои литографии образами людей, сохранившихся в его редкостной памяти.
Только в одну литографию «Робер Макэр — биржевой игрок» Домье ввел четыре настоящих портрета — каждый из них мог бы стать героем отдельного рисунка.
Ораторствующего Робера Макэра окружает толпа. Прямо ему в лице смотрит пухлый молодой человек с большим рыбьим ртом — он хочет, но не решается возразить Макэру. Это один из бесчисленных бульварных фланеров, мечтающий о неожиданном богатстве, какой-нибудь неудавшийся бакалавр; его рыхлая физиономия, мелькнувшая на мгновение у витрины модного магазина, сохранилась в памяти Домье. За плечом Макэра другое лицо — круглое, с крошечными напомаженными усиками: франтоватый приказчик из галантерейной лавки, исправный посетитель трехфранковых балов в «Клозери де Лила»[9]. Дальше мрачный вислоносый субъект, пройдоха, мало чем уступающий самому Макэру, какой-нибудь разорившийся маклер, торгующий сомнительными акциями в тени биржевых колонн. Слева — старичок с пергаментным лицом, он увлеченно говорит, почти не^слушая Макэра. Это пустой болтун, разоблачающий в кафе все правительства подряд, обо всем на свете имеющий готовое мнение. Все эти люди, подсмотренные в жизни, оставляли свои портреты в литографиях Домье. Из них и создавалась та «питательная среда», в которой вольно резвился Робер Макэр.
Сам он был великолепен на этой литографии. В сдвинутом на один глаз цилиндре, белом жилете и лакированных ботинках, Макэр говорил одновременно со всеми. Все в нем говорит: руки, брови, глаза, кажется, даже лорнет на черной ленте подпрыгивает на животе в такт его речам. Он настолько увлечен своей ролью, что, кажется, сам верит тому, что говорит: «Меня известили чрезвычайной почтой, что у английского короля коклюш… В Париже холера, я видел ее так же, как вижу вас, полиция напала на ее след…»
Все это говорится для того, чтобы напугать окружающих, понизить курс акций и купить их с выгодой.
Домье все свободнее обращался с карандашом. В этой литографии он лишь четыре фигуры нарисовал целиком, у остальных только наметил лица, показал толпу в глубине, лишь наметив очертания цилиндров. Все ненужное, второстепенное растворялось в нейтральном полутоне.
Литографии «Карикатюраны» нравились даже ее героям, подобно тому как Тьеру нравилась игра Леметра. Каждый видел в образе Макэра своего соседа, никто не хотел видеть в нем самого себя. Об этом Домье с Филипоном рассказали в литографии, где был изображен визит Макэра в мастерскую художника.
Домье нарисовал себя почти без всякого сходства и в придачу с длинным унылым носом. Он подсмеивался над собой — таким он представлял себя со стороны: худым, чахлым, замороченным бесчисленными Роберами Макэрами. «Домье» сидит за рабочим столом, склонившись над литографским камнем, а перед ним сам Робер Макэр, созданный его воображением и теперь воплотившийся в живую реальность. Он со снисходительным одобрением говорит художнику: «Месье Домье, ваша серия Роберов Макэров очаровательна! Это точное изображение всех мошеннических дел нашей эпохи… Это правдивый портрет множества негодяев, существующих повсюду — в торговле, в юриспруденции, в финансах, везде, везде!.. Мошенники должны быть невероятно злы на вас… Но зато вы завоевали уважение всех честных людей. Вас еще не наградили орденом Почетного легиона? Это возмутительно!»
Все же иногда сам Робер Макэр, как и его реальные прообразы, чувствовал опасность серии. Домье изобразил Робера и Бертрана в галерее Веро-Дода, где у витрины Обера толпа хохочет над листами «Карикатюраны». Бертран восклицает: «Ну, что в них остроумного?» — «Это отвратительно! Клевета на общество!» — отвечает Макэр. — «Полиции не следовало бы терпеть подобных мерзавцев!» — «О ком ты говоришь, болван?» — «О карикатуристах…» — «Ну то-то же!» — говорит возмутившийся было Макэр.
Неделя за неделей, месяц за месяцем проходила «Карикатюрана» перед глазами зрителей, демонстрируя пороки времени. Трудно было бы найти сословие и профессию, куда не проник бы вездесущий Робер Макэр.
Неторопливое время, поглощаемое работой, проходило незаметно. Со дня опубликования первого листа «Карикатюраны» минуло уже два с половиной года.
Изведав все профессии, Робер Макэр завершал свою деятельную жизнь на страницах «Шаривари». Перебирая листы «Карикатюраны», Домье думал, что по-настоящему удачными можно назвать едва ли два десятка литографий, что в остальных рисунках Макэр повторяет самого себя. А Робер Макэр уже жил самостоятельной жизнью, независимой от своих создателей. Он был куда более знаменит, чем Домье или Филипон. Ведь в течение двух лет читатели «Шаривари» и все те, кто проходил мимо витрин магазина Обера, еженедельно встречались с Робером Макэром.
Закончив свои похождения во Франции, набив золотом увесистые мешки, Робер Макэр на одном из последних листов «Карикатюраны» покидал свою страну: «Я уношу мои пенаты, промышленность и капиталы, но оставляю свое сердце тебе, отчизна…»
Как еще можно было завершить серию? Наказать Макэра — значило бы погрешить против истины, возвести в министры — не дала бы цензура. У Макэра и Бертрана уже было много последователей, настолько много, что на одной из литографий они с опаской глядели на толпу учеников, справедливо подозревая в них будущих конкурентов: «Это очень лестно иметь столько учеников! Но это уже чересчур, это слишком. Конкуренция убивает коммерцию, еще немного — и она станет чрезмерной — мы выйдем из моды, как старые парики, мы умрем с голоду, нам придется стать жандармами или капуцинами».
Макэр сделал свое дело и уходил безнаказанным, олицетворяя торжествующее мошенничество.
Последний лист «Карикатюраны» появился в ноябре 1838 года. Домье с удовольствием вложил его в пухлую папку, которая уже не закрывалась, и задвинул ее в угол.
Домье остался недоволен «Карикатюраной» и, когда ее начинали хвалить, отвечал, сердито посасывая трубку:
— Почему мне вечно твердят о моих Роберах Макэрах? В жизни я не делал ничего хуже!
А между тем его Робер Макэр оказался несравненно счастливее героя Леметра. Тот остался лишь в памяти зрителей. А литографии Домье, сотни, тысячи листов, ложились в толстые папки библиотек, в альбомы коллекционеров, красовались на стенах квартир, уезжали за границу в чемоданах путешественников, повсюду разнося славу французской карикатуры.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
РОБЕР СЮРКУФ. ВЫКОРМЫШ «ОСИНОГО ГНЕЗДА»
РОБЕР СЮРКУФ. ВЫКОРМЫШ «ОСИНОГО ГНЕЗДА» Городок Сен-Мало на берегу Бискайского залива считается родиной многих французских корсаров. Их английские «коллеги», ненавидевшие французов, своих конкурентов и противников на море, называли этот порт «Осиным гнездом». Одним из
Робер Параго
Робер Параго ПРЯМОЕ КАК СТРУНА Прямое как струна... прямое как струна... Сто раз повторяемая формула Жана Франко[2] не выходит у меня из головы. Прямое, как струна... Без единого отступления... Невероятная конструкция... Невозможная, добавляли Купэ и Виалат, товарищи Жана в
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера
ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая
Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр
Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА
Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная
Глава 24. Новая глава в моей биографии.
Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне
02. Анн Робер Жак Тюрго
02. Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781) Французский мыслитель и общественный деятель, философ-энциклопедист, министр при дворе Людовика XVI, представитель школы физиократов, один из основоположников экономического либерализма РЕФОРМАТОР Анн Тюрго был подлинным человеком эпохи
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним