ТРАГИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ
ТРАГИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ
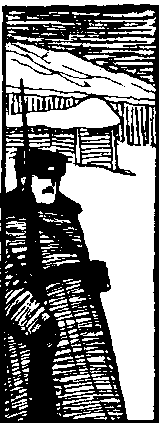
— Где ваш муж?
…Софья Богомолец знала, что Александр Михайлович, спасая от ареста ее брата Ивана, под видом тяжелобольного увез его сначала в Австрию, а потом во Францию. Но полковнику сказала:
— В Туркестане.
— А письма шлет из Берна?
— Напрасно утруждаете себя — ничего не скажу!
— Я забочусь о вас…
Софья отвернулась.
Мысленно она перенеслась к своему другу. Высокий, стройный, с полными ума, сияющими детской добротой голубыми глазами, Александр Михайлович многим казался личностью примечательной. Сын нежинского мелкопоместного дворянина, у которого, кроме дворянского герба да обветшалого домишки, уже ничего не осталось, воспитанник Киевского университета, он среди местных разночинцев слыл за идеалиста. Исповедуя революционные лозунги, цель которых — всенародное благоденствие, Александр Михайлович формально до конца своей жизни ни к какой из партий и групп так и не примкнул. Впервые с запрещенной литературой он пересек границу по просьбе прихворнувшего университетского товарища. С тех пор много раз доставлял для народовольцев из Женевы и Цюриха взрывчатку и оружие.
Познакомились они у родственников Софьи.
Врач Богомолец в первый же вечер пленил гимназистку-восьмиклассницу. Она тоже тяготится своим образом жизни, стремится к подвигам во имя счастья простого народа. Отец — поручик в отставке, человек старых взглядов, верный слуга царя. Он хотел воспитать из Ольги, Софьи и Марии добродетельных хозяек.
Зимой 1876 года родители получили от Софьи письмо.
«Я выбыла из гимназии, так как не хочу увеличивать свой долг перед народом, — писала Соня. — Впредь буду жить своим трудом. Кроме этого, сообщаю, что выхожу замуж за молодого врача Александра Богомольца».
Родные, конечно, не догадывались, что брак доче-. ри вначале был фиктивным. Таким образом она стремилась обрести свободу. Других путей к независимости русские женщины в ту пору не имели. Со временем оформлялся развод, и «мужья» предоставляли своим «женам» «виды» на самостоятельное жительство. С этого времени женщина получала право гражданства — могла учиться, выезжать за границу и т. п.
Но очень скоро фиктивный брак Софьи Николаевны и Александра Михайловича перешел в настоящий.
Пока Софья училась на женских врачебных курсах при Николаевском военном госпитале в Петербурге, Александр Михайлович врачевал в селе Братском Елисаветградского уезда. Время от времени он ездил за границу, чтобы нелегально доставлять в Россию запретную литературу.
За год до ареста Софьи чета Богомольцев провела лето на Кубани, в станице Усть-Лабе. После отъезда вдогонку за ними местный становой отправил секретный пакет с добросовестным изложением крамольных речей, говоренных обоими «ходоками в народ» местным казакам. Но негласное наблюдение за Богомольцами оборвалось неожиданным образом: по выезде из Кременчуга супруги как в воду канули.
Софья понимала, что полиция хоть и убеждена в причастности ее мужа к революционному делу, но прямыми уликами против него не располагает.
…Новицкий впился в арестантку сверлящим взглядом. Совсем девочка! Подстриженные волосы, по-детски пухлые губы, задорно приподнятый нос, искристые серые глаза, но в них непроницаемая суровость и упорная непреклонность. По всем приметам, сообщенным агентам, это и есть Софья Богомолец, одна из руководительниц союза.
— Чем занимались в Киеве?
— Я революционерка, социалистка. А в России этого, кажется, вполне достаточно, чтобы судить человека. Никаких других показаний давать не буду!
— Но вы должны знать, что Киев на военном положении и вам, одной из руководительниц союза, грозит смерть!
— Все равно!
— Товарищи вас называют идейной силой союза… Третьему отделению известно, что вы мутили казаков на Дону, пропагандировали рабочих на харьковском заводе Вебера, а в Киеве, в кружке Иванова, читали политическую экономию. Как могла ваша матушка-дворянка, допустить, чтобы трое детей порвали со своим сословием, в смутьянах оказались, отцовский офицерский мундир замарали?
Софья отвернулась.
Полковник делает еще ход:
— Вы молоды, зачем так рано умирать? Будьте откровенны! Никто не узнает о ваших показаниях. Мы поможем вам уехать за границу. Слово русского офицера…
— Потрудитесь оставить камеру! — прервала его Софья. — Я не желаю выслушивать гнусные предложения!
В ночь на 5 января 1881 года в Петербург ушла депеша:
«…Жандармы задержали Киеве двух женщин. Из них одна отказалась объявить фамилию и давать показания… По имеющимся сведениям прихожу более чем когда к убеждению, что неизвестная — жена врача Богомольца, сестра второй задержанной — Марии Присецкой и скрывшегося за границей Ивана Присецкого…»
13 февраля киевский генерал-губернатор на письме из министерства внутренних дел начертал: «Очень рад! Вызвать унтер-офицеров в управление». Речь шла о награждении шести жандармов, особо отличившихся при задержании Софьи Богомолец и ее семи товарищей по киевскому Южно-русскому рабочему союзу. В этом недавно образовавшемся сообществе Петербург видел смертельную для самодержавия опасность.
Южно-русский рабочий союз был типичной народнической организацией. Однако его руководители, убедившиеся в невозможности поднять на борьбу деревню, наряду с террором стали вести широкую пропаганду в образованных ими рабочих кружках. Продолжая считать крестьянство основной движущей силой революции, они полагали, что подготовленные рабочие — в большинстве недавние выходцы из деревень, — вернувшись в родные села, смогут более успешно вести пропаганду среди крестьян, чем интеллигенты. Тем не менее трудно переоценить значение Южно-русского рабочего союза как одной из первых революционных организаций рабочих в России.
Государю императору «угодно было изъявить высочайшее соизволение» — «произведение дознаний о государственных преступлениях членов сообщества поручить военному прокурору Киевского военно-окружного суда генерал-майору Стрельникову».
Обнаружено, — докладывает прокурор, — что южные и юго-западные губернии империи стали местом возникновения наиболее крайних социально-революционных воззрений, особенно среди рабочих и учащейся молодежи.
Глаза шефа жандармов Дурново выражают интерес.
— Должен присовокупить, — продолжает прокурор, — пропаганда среди рабочих Киева, к сожалению, идет не менее успешно, чем в Харькове и Одессе. По агентурным данным, насчитываем десятки кружков. Сходки по ночам собирали на Днепре, в Кадетской и Байковой рощах, а когда похолодало — в трактирах, кухмистерских и библиотеках. Требуют сокращения рабочего дня на два часа, отмены неоплачиваемых сверхурочных. На инспектора Арсенала готовили покушение!..
— А после арестов?
Стрельников открывает свой пухлый портфель и извлекает прокламацию.
Взор Дурново падает на печать — скрещенные молот, топор и револьвер — и на подпись: «Вольная, типография».
— Как? В Киеве подпольная типография?
— «Союз, — читает обер-жандарм, — будет и впредь изыскивать все способы для выполнения своих постановлений… Главная задача его — защита интересов рабочих всевозможными средствами и наказание нарушителей этих интересов…» «…В случае неисполнения требований рабочих в течение двухнедельного срока, — читает шеф жандармов, — союз предаст арсенальское начальство своему суду, и наказание не замедлит постичь его».
— Городовые, осмелюсь доложить, находят листки на дверях своих квартир и в извозчичьих ландо… Даже супруге губернатора прислали, — откровенничает Стрельников.
В Киеве к каждому обывателю приставлено по городовому. Но наперекор слежке — весь город в прокламациях. Недавно в одном из домов на Крещатике состоялось публичное чтение о положении женщин в семье по понятиям социалистов и об отношении к государственной и частной собственности. Маркса читают!
Дурново грозен.
— Настоящему делу правительство придает совершенно исключительное значение. Учтите это, генерал, и действуйте сообразно. Крамолу надо выжечь!
«Легко сказать: «действуйте сообразно»! — думает Стрельников, — если и тебя союз предупредил: «Предадим своему суду, и наказание не замедлит постигнуть!»
Когда следствие по делу Богомолец, ее сестры Марии Присецкой и их товарищей по союзу — Щедрина, Ковальской, Преображенского, Иванова и Кашинцева — приближалось к концу, с крыши Зимнего дворца в Петербурге неожиданно исчез императорский штандарт Александра II. Свое царствование Александр III начал с виселиц. Правительство намеревалось укрепить позиции репрессиями, безудержным террором.
Прокурор Стрельников, визируя обвинительный акт по делу руководителей киевского Южно-русского рабочего союза, окончательно решил: всех подследственных приговорить к смерти.
Софья готовится стать матерью. Близкие беспокоятся. «Скоро ли ты надеешься на появление на свет (хоть тюрьма и не свет ребенка? — спрашивает кто-то в письме, перехваченном следователем. — Потому что, как себе хочешь, а ведь в такой необычной обстановке нужно хоть техническую сторону дела выполнить хорошо».
В другом письме тревожились:
«Гуляешь ли? Я знаю, что тебе необходимо гулять. Но наверняка прогулку ограничивают каким-то ничтожным временем, тогда как в твоем положении минимальная прогулка — это три часа… Неужели «власть имущие» будут так жестоки, что не разрешат тебе этого минимума? Или обыкновенные правила гуманности не проникли еще в их сердца?»
Нет, не проникли! Софью тошнило от запаха карболки. Она просила дезинфицировать камеру марганцовокислым калием. Но в жандармском управлении отказали, ссылаясь на то, что он может служить для тайной переписки. Продолжительность прогулок все чаще сокращалась «по непосредственному усмотрению» пристава.
Выпущенная до суда на поруки сестра Мария передала зашитые в шов рубашки пять рублей. Их обнаружили и спрятали в сейф. Военно-окружной суд в распорядительном заседании специально рассмотрел, как поступить с этими деньгами. «Если, — рассудили глубокомысленно, — судебные издержки по делу Богомолец будут покрыты, то на основании статьи 28-й «Уложения о наказаниях» деньги должны подлежать наследнику последней».
Только с того дня, когда начальник губернского жандармского управления отдал распоряжение о предании руководителей Южно-русского рабочего союза военному суду, власти с нетерпением гончих, почуявших жертву, стали проявлять к Софье такое внимание, каким в России пользовались, пожалуй, только лица царской фамилии.
Начальника жандармского управления пристав Томашевский просил: «Ввиду скорого наступления родов, по собственному заявлению Богомолец, имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего высокоблагородия. о передаче преступницы на время болезни в лазарет».
«Пригласите немедленно городского врача! — приказал тот. — Если врач признает необходимость отправить в больницу, тогда безотлагательно передайте в тюремную».
И хотя акушерка нашла, что Софья Николаевна «состояния здоровья довольно удовлетворительного и разрешение ее от бремени последует приблизительно не раньше трех недель», Томашевский сдал ее в тюремную больницу.
Наконец 24 (12) мая 1881 года в крошечной каморке лазарета киевской Лукьяновской тюрьмы у Софьи Николаевны Богомолец родился сын. Через несколько минут — около половины девятого утра — дежурный адъютант на серебряном подносе подал киевскому губернатору телеграмму: «Богомольцева сейчас разрешилась от бремени благополучно».
Тот облегченно вздохнул:
— Слава богу, можно начинать процесс!
В день суда женщин разбудили на рассвете, затолкали в длинную, похожую на трамвайный вагон карету, и четверка лошадей помчала их по пустынным улицам еще сонного города. Со всех сторон стеной гарцевали казаки.
Ровно в десять председательствующий велел ввести подсудимых в зал. Их было семеро. Старшему едва минуло двадцать пять лет.
Бесстрастны фразы обвинительного акта. Красноречивы факты.
Председательствующий обращается к Ковальской:
— Признаете себя виновной?
— Я суд царского правительства не признаю и участвовать в нем не желаю!
Напрасно генерал стучит по столу, размахивает колокольчиком: Щедрин, Преображенский, Кашинцев, Иванов, Софья Богомолец ответ Ковальской повторяют почти слово в слово.
Суд переходит к осмотру вещественных доказательств.
— Это отобрано у вас? — обращается председательствующий к Софье, указывая на вместительный сундук.
Секретарь зачитывает протокол обыска:
— «Сто двадцать две возмутительные прокламации киевского Южно-русского рабочего союза, запрещенные журналы «Вперед» и «Народная воля», принадлежности для фабрикации фальшивых видов, поддельные печати, шифрованные письма, револьверы, патроны, кинжалы, шанцевые топорики, типографский шрифт…»
Софья молчит. Секретарь записывает: «От показаний опять отказалась».
Судьи вне себя. Среди свидетелей нет ни одного доносчика. А ведь подсудимые встречались с сотнями киевских рабочих! Одна надежда на унтер-офицеров. Но им напрасно помогают наводящими вопросами: «унтеры» растеряны и так сбиваются, что члены суда только разводят руками.
Перерывы сокращаются: департамент внутренних дел торопит с судебным разбирательством. Софья едва успевает покормить малыша.
Генерал Стрельников яростно набрасывается на программу союза, многословно доказывает, что зародившаяся нелегальная организация для государства куда опаснее всех известных ему доныне, так как стремится разжечь вражду между классами.
— Всем требую смертной казни! Всем!
Генеральская ладонь тяжело опускается на кафедру. Софье кажется, что так вбиваются гвозди в крышку гроба. Но взгляд ее серых глаз неустрашим. Прокурору от него явно не по себе.
Приговора ждали долго. Тем временем генерал-адъютант граф Игнатьев добивался у монарха внеочередной аудиенции. В папке у него — срочная шифровка. После недавних волнений, последовавших за казнью первомартовцев, рассчитавшихся с Александром II, в Киеве не знают, каковы виды высшего правительства на казни? И без того за новым царем укрепилась недобрая слава…
— Признаете ли возможным, — почтительно изогнулся перед монархом генерал-адъютант, — утвердить смертный приговор киевским нигилистам, или губернатор должен испросить высочайшее Вашего императорского величества соизволение на замену высшей меры наказания каторгой?
— Позвольте, граф: а кого там судят?
— Четырех дворян, сына священника, жену врача и дочь отставного поручика.
— Они в кровавых преступлениях изобличены?
— Нет! И в то же время, осмелюсь доложить, все принадлежат к числу упорных и вредных деятелей на юге. Правда, преимущественно в области пропаганды преступных воззрений…
Царь понимает, что казнь этих людей в будущем заставит правительство прибегать к ней весьма часто. Предстоят новые суды над лицами, степень виновности которых несравненно большая, чем у ожидающих приговора. За ним же и без того укрепилась кличка «Кровавый».
— Потрудитесь, граф, сообщить, что мы — против казни.
Через два часа Стрельников знал: «Исполнение смертного приговора над лицами, не обвиняемыми в насильственных действиях, не представляет необходимости с точки зрения государственной пользы».
…Третий час ночи. Окна в зале заседания Киевского Военно-окружного суда закрыты наглухо.
— Встать! Суд идет!
Приговор длинный, пересыпанный статьями, параграфами. Наконец прозвучало: «Смертная казнь»… для всех, кроме Присецкой и Кузнецовой. Приговоренные спокойны, но какой-то караульный теряет сознание. Его уносят из зала заседания, и чтение приговора продолжается. Оказывается, исполняющий обязанности киевского губернатора Дрентельн милостив! Всем дарована каторга. Софье — десять лет.
Еще недавно равнодушные лица солдат караула становятся мягче. Слова «каторга», «смертная казнь» потрясли их. Они пристально вглядываются в подсудимых. В их взорах светится что-то новое — не то ужас, не то жалость, не то уважение.
Вторая в день вынесения приговора телеграмма генерал-адъютанта Игнатьева в дом губернатора: «Желательно, чтобы отчет по рассматриваемому в Киеве политическому процессу не был печатаем», — опоздала. Разносчики «Киевлянина» на Крещатике и Фундуклеевекой уже кричали:
— Процесс окончен!
— Смертный приговор нигилистам!
Газету принесли и в кузницу арсенальских мастерских. Тайком от мастера рабочие читали: «За принадлежность к образовавшемуся в России тайному революционному сообществу, явно стремившемуся ниспровергнуть путем насилия существующий в империи государственный и общественный порядок, суд приговорил…»
В особые, смягчающие вину осужденных обстоятельства, перечисленные в газете, как «отсутствие опыта и зрелости воззрений», кузнецы не поверили. Они-то знали своих вожаков! Такие не могли стать «жертвами заблуждения».
В тюремной приемной — две решетки. Они протянулись от стены к стене на расстоянии аршина друг от друга. В образованном ими коридоре маячит надзиратель. Слева от него на скамейке присел старик. Беда согнула его, побелила голову. В темных, впалых глазах застыло выражение отчаяния. Софья, бледная, с горькой улыбкой на устах, прижалась к решетке. «Милый папа! Как ему тяжело!»
Софья окликнула, как в детстве:
— Родненький!
Вскочил, прильнул к решетке, слезы застлали глаза. Сказать бы ему что-нибудь, утешить… А в голове настойчивые мысли о матери. Мама писала:
«Мы совершенно понимаем, что при сложившихся по несчастью обстоятельствах вместе с детьми/жить не можем… Что ж, можно и врозь… А нам с папой больше ничего и не надо, как только знать, что вы здоровы». Бедная, бедная! Маленькая, высушенная шестнадцатилетним параличом женщина. «Можно и врозь…» Хоть бы увидеть ее еще раз! Думает о матери, а говорит о какой-то ерунде: обоях в девичьей комнате, испорченных часах…
Нет, не об этом надо.
— Папочка, родной, пойми: наступило время, когда честные люди не могут бездействовать. Ни я, ни Мария иначе поступить не могли!.. Самое главное для меня теперь судьба сына и ваша…
У отца — суровый, осуждающий взгляд и дрожащая рука, в последний раз осеняющая крестом непокорную дочь.
— И мама шлет свое благословение… Благословляет и гордится вами…
И вдруг не выдержал: зарыдал тяжелыми, мужскими слезами. В эту минуту Софья впервые ощутила, как ни разу не ощущала с момента суда, не далекую, абстрактную, а уже наступившую, обрушившуюся каторгу. Понадобилось огромное усилие, чтобы не закричать. Тихо сказала:
— О смягчении моей участи царя не просите! Запрещаю!
В дверях задержалась и улыбнулась затуманенными от слез глазами — очень ласково, очень тепло.
Камера — ящик: три шага в длину и два в ширину. Смотреть в окно запрещено. Одна радость — теплое тельце крошки, завернутое в бурую тюремную простыню.
А рядом с радостью поселилась в сердце нестерпимая боль неизбежной разлуки. Что будет с сыном? Мытарства начались с того, что в детском белье, приготовленном бабушкой, отказали. Боятся, как бы с ним в тюрьму не попали письма с воли.
Рожденному в камере тоже положено ходить в арестантской одежде? — зло спросила Софья начальника тюрьмы. — Тогда потрудитесь сделать надлежащее распоряжение!
— Не успею! — прогнусавил тюремщик.
И правда. Рано утром малыша разбудил топот кованых сапог и звон ключей: Софью вызвали в канцелярию. Ребенок закричал громко, обиженно, будто догадываясь, какая беспримерная расправа совершается с ним.
— Сашуня, Сашко! — впервые назвала мать своего первенца именем мужа.
Сашко то хмурит белесые брови, то морщит носик. А мать смотрит, смотрит, будто старается запомнить на всю жизнь каждую черточку этого беспомощного существа — и крохотные ноготки, и выпуклый лобик, и завитки волос.
— Кончайте! — торопит надзиратель. — Еще свидитесь!
В конторе — суета. Готовится к отправке в Сибирь новая партия каторжников. С сестрой Софью разлучат здесь: Марии — путь на поселение в Томскую губернию, а ей через Иркутск — на Кару.
Формальности выполняются нехотя, медленно. А сердце в тревоге: ребенок один в камере!.
— Успокойтесь! Уже отбыли! — хихикает тюремщик.
Как кнутом хлестнуло по сердцу.
— Как отбыли?
— Будьте надежны: по адресу, в корзиночке!
Впервые в жизни Софья потеряла сознание.
Июньское солнце греет щедро и ласково. Воздух напоен ароматом цветов. Софья подставила лицо солнечным лучам. Нежится? Нет, плачет; сердце разрывается от тоски. Вдруг из угла тюремного двора, откуда-то сверху раздается многоустый протяжный крик:
Софья и ее товарищи переделывают песню на свой лад. «Еще усилие, — поют они, — и прогнившее здание русского деспотизма рухнет!»
Каторжанок — Софью Богомолец и Елизавету Ковальскую — ведут какими-то пристанционными закоулками. Руки унтеров на расстегнутых кобурах наганов. А в сердцах молодых женщин крепнет по-детски чистая гордость: их боится сам царь!
Поезд через Орел в Москву отправляется в час дня: звонит станционный колокол, переливчато свистит кондуктор. Маленький большетрубый паровоз откликается сипловатым гудком. За окном мелькает станционная — черным по белому вывеска: «Киевъ» — и тает в клубах дыма.
9 июня отец Софьи привез внука в свое имение в селе Климово Зеньковского уезда, на Полтавщине. Местный священник нарек его, как того хотела мать, Александром. А 10 июня 1881 года начальник усиленного конвоя капитан Озерецкий по телеграфу донес киевскому генерал-губернатору: «Сегодня благополучно доставлены и сданы Орле полковнику Старову две арестантки. Тут же они отправлены дальше».
Губернатор перекрестился:
— Слава богу, избавились!
Средневековые, мокрые от сырости, замшелые стены. Изъеденные грибком, дышащие гнилью камеры за четырьмя замками, часовые на каждом шагу. Это иркутский тюремный замок — самый страшный в Сибири. Но Софья и ее подруга Ковальская считают, что бежать с каторги будет гораздо труднее: надо попытаться из тюрьмы.
Бежать! Во что бы то ни стало! «Впереди беспросветная тьма, обидная неволя, жизнь, томящая душу и мозг, — писала Софья мужу в случайно попавшем в руки полиции и дешифрованном письме. — А жить так хочется, так неудержимо тянет на волю! Так жадно просит все существо дела, горячего дела! Так страстно хочется видеть близких, дорогих людей, прижать к сердцу дитя — любимое, милое».
Накануне побега тюремный «голубь» принес с воли план Иркутска и записку — где и кто будет ждать беглянок.
Вечереет. Уже мигнул под тюремным грибом фонарь. Через десять минут придет смена часовых. Надо успеть переодеться и под видом лазаретных надзирательниц выйти через наружные ворота.
Коридорный отвернулся. Пора… За Софьей на расстоянии двух шагов идет Ковальская. Лестницей вниз — бегом, через двор — под руку, неторопливым шагом. Часовой у фонаря еще не сменился. Он зябко кутается в тулуп, пританцовывает, глядя на дежурку— уже идет смена. Только бы у ворот не рассмотрели, что под салопами у «надзирательниц» тюремные халаты! Вот за спиной захлопнулись тяжелые тюремные ворота. Оглянулись — улица пуста. Никого! Только бы не сорваться, не побежать.
Исчезновение двух «политичек» подняло на ноги всю иркутскую полицию. Около месяца переодетые в штатское шпики ощупывали глазами прохожих. На всех дорогах из города дежурили усиленные пикеты. Только в последний день февраля в доме мещанина Терентия Бабичева дворник заметил двух незнакомых женщин.
Ковальскую и Богомолец, а заодно и помогавшего им в побеге специально присланного для этого в Иркутск из Петербурга народовольца Петра Федорова опять приняла под свои своды тюрьма. Обозленные тюремщики грубо ругались, били беззащитных женщин. Одну заковали в ручные кандалы, на вторую надели смирительную рубашку. Пробовали товарищи вступиться — их упрятали в карцеры. Только Щедрин успел дать оплеуху особенно зверствовавшему тюремному инспектору Соловьеву.
Срок каторги двум женщинам разбух еще на пять лет. Пожизненную каторгу взамен смертной казни Щедрину сочли наказанием слабым. Появилась приписка: «с прикованием к тачке». Ее специально смастерили из тяжелого дерева и приковали к кольцу ножных кандалов. Ступит человек шаг — и тачка за ним громыхает, спит — и она рядом в камере замирает, похожая на немое чудовище.
Кар?. Собственность «кабинета его величества». Всероссийская каторга. Давняя страна изгнания, место погребения заживо всяческих ослушников за «предерзости супротив власти», «осквернительные действия и непочтение императорского величества».
Кара в приговоре означала ту же смерть, только растянутую на долгие годы. Отсюда почти никто не возвращался. Чахотка и малярия в союзе с тюремщиками делали свое дело: заключенные умирали, сходили с ума, кончали жизнь самоубийством.
Тюрьма опоясана стеной из высоких, заостренных палей. По углам сторожевые каменные башенки — старые, покрытые мхом. Вдали молчаливые, мрачные сопки, словно еще одним кандальным кольцом охватили мертвый дом. На две тысячи каторжан тысяча солдат охраны — целый легион воспитанных в бесшабашном сибирском произволе мучителей.
У пожилого ротмистра — небольшие хитрые глазки, любезная, но явно злая улыбка:
— Слава всевышнему — еще каторжаночек прибавилось!
Загремел засов, открылась калитка:
— Пожалте!
С этой минуты жизнь Софьи втиснулась в рамки уныло-бездушного режима. Все ограничивалось и запрещалось здесь для «лишенных всех прав состояния». На вооружении у тюремщиков — закон, сила, безнаказанность. У Богомолец и подруг — только неукротимая ненависть к мучителям.
Камера-могила. Всегда в ней тесно, душно, полумрак. Сквозь решетки просвечивает только клочок неба. Двор тоже узкий, неприветный — без кустика и травинки. И все-таки прогулки — большая радость. В небе играет весеннее солнце, слышно, как где-то журчит ручеек. Прильнешь к палям, и в крохотную щель виден лиловый ковер цветущего ургуя. А конвой гонит в камеры.
— Не пойду! — уперлась Софья.
— Как смеешь? — орет поручик Шубин.
— Не хочу и не пойду!
— Я приучу подчиняться! Введите насильно!
Дюжие казаки тащат женщину к двери. Но на помощь ей спешат подруги. Теперь в одиночках — шесть бунтарок. В знак протеста они объявили свою первую голодовку, подожгли двери.
Шубин мстителен. Карийской одиночки для Софьи ему кажется мало: кони мчат каторжанку в Амурский караульный дом. Что-то гадкое, затхлое, скользкое и холодное наполняет здесь нору-карцер. Ни сесть, ни лечь. Собственные одежду, чай, сахар, табак, спички, книги и даже постель отобрали. А узница все бушует: бьет стекла, трясет решетку, стучит в двери. В ход пустила даже крышку от параши.
— Подчинись тюремному режиму! — требует Шубин.
— Умру, но не сделаю этого!
— Молчать!
— Души, мучитель, души, палач! Молчать все равно не буду!
— Свяжу! — угрожает взбешенный ротмистр.
— Вяжи, но и на тебя придет управа!
Жандарм спешит покинуть Амур: крик Софьи слышен в казармах казачьего караула.
А потом вдруг притихла: надумала еще раз бежать. Лучше смерть от пули солдата, чем жизнь в неволе! Между печью и потолком легко вынула два кирпича. Еще три — и откроется путь на крышу. А рядом кусты и дальше — лес. Но простая задача решена без нужной математической точности. О попытке к побегу составлен акт. Срок каторги увеличился еще на два года.
Александр Михайлович тоже не избежал тюрьмы.
10 января 1882 года на станции Нежин жандармы в поисках крамолы поломали все детские игрушки, бережно уложенные им в саквояж. Свидание отца с сыном не состоялось.
У следователя под роскошными усами змеится улыбка.
— Будете говорить?
А сам торопливо выводит: «Я, следователь отдельного корпуса жандармов…»
— Пожалуй, я вас ничем порадовать не смогу.
— Куда ездили?
— За границу.
— Точнее!
— Это дело прошлое! — уклоняется от прямого ответа задержанный.
— Причина?
— Сопровождал тяжелобольного.
— И оба без заграничных паспортов? — просверлил доктора взглядом-буравчиком следователь.
— На оформление документов не было времени. Больной был плох, очень плох!..
У полковника от явной насмешки побагровела шея.
— Я спрашиваю: с кем и куда ездили?
— Это врачебная тайна. Выдать ее считаю делом безнравственным, профессионально недопустимым.
Следователю осталось записать: «На дальнейшие вопросы отвечать отказался». Сунул Богомольцу протокол на подпись и хмуро сказал вахмистру:
— Уведите!
Мать Софьи Николаевны, глубоко признательная зятю за спасение своего единственного сына от ареста, как могла утешала Александра Михайловича. «Сынок ваш процветает, — писала в лукьяновскую тюрьму, — здоровенький такой… Недели через две, пожалуй, ходить начнет. А говорить уже начал. «Мама» и «папа» выговаривает твердо. Напишите, пожалуйста, что было поводом к арестованию вас?» И не без иронии добавляла: «Неужели вследствие того, что жена ваша сослана? Так, пожалуй, сошлют и Сашк?.
Он сын, а сыновья ведь всегда находятся под влиянием матери. Жаль, что ему всего восемь месяцев!»
В начале апреля последовало «высочайшее повеление» относительно шестидесяти двух привлеченных к ответственности за социальную пропаганду в Киеве. В пункте «б» шестым значился А. М. Богомолец. Распоряжение «выслать в Западную Сибирь под надзор полиции» еще на три года отдалило первое свидание отца с сыном.
Александр Михайлович возлагал большие надежды на «всемилостивейший манифест» от 15 мая 1883 года «Об облегчении участи государственных преступников». Но. Особое совещание специальным постановлением изъяло от «действия» его таких непокорных, как ссыльнокаторжная Софья Богомолец и ее подруги.
Александра Михайловича сильно тревожили частые перемещения жены из одной тюрьмы в другую. Он просил, умолял иркутского губернатора — раз, второй, третий — исходатайствовать ему разрешение на переезд поближе к Софье Николаевне. Только через год и четыре месяца прибыл долгожданный ответ. «Ссыльнокаторжная Софья Богомолец здорова, — говорилось в нем. — Что касается вашего перемещения, то я не вижу для него должных оснований».
Село спряталось за косогором между двух отлогих холмов. У въезда в него стоят, как часовые, дубы. Такие пятиобхватные да угрюмые, каких на свете в другом месте не увидишь. Справа от дороги, резкой черной полосой прорезавшей изумрудную зелень, в тени вишневых садов притаились крестьянские избы. Господский одноэтажный домик со всех сторон обступили стройные тополя. За домом — сад, за садом — заросший пруд, за прудом — неоглядные дали украинских степей, обрамленные серебристой лентой быстрого Псла.
Усадьба отставного поручика Присецкого невелика. Доходы от нее слишком скромны, чтобы хозяева могли жить безбедно. Убранство в доме — старинное, дряхлое, еда по-крестьянски простая. Но Сашку хорошо живется у деда с бабушкой. Старики нежно привязаны к малышу. Ему еще непонятны жестокие обстоятельства, в силу которых у него нет ни мамы, ни папы. В доме всегда тихо. Дедушка молчит, ходит насупленный. А то остановится в гостиной и долгодолго в задумчивости глядит на портреты мамы и теток Марии и Ольги. Портрет Сашиного отца он не позволил повесить рядом с маминым.
— Он загубил маму! — говаривал не раз. А когда сердился на Сашка, то грозился: — Вот подожди, пострел, возьму и на Старчевозе отвезу тебя к отцу! Будешь знать. Он погубил твою мать и тебя погубит.
Старчевоз — это худая, старая кляча, на которой возят в усадьбу воду. Сашко знает, что на Старчевозе далеко не уедешь, и угрозу деда не принимает всерьез.
Бабушка — старая, слабая. Она гладит своей бессильной высохшей рукой непокорно торчащие вихры внука и вытирает всегда красные от слез глаза: «Сиротка! Что с тобой будет, когда меня не станет?»
Дед Присецкий в округе слывет за человека старого образа мыслей, а вот жена и дети — за крамольников, не почитающих царя-батюшку. Соседи стороной объезжают усадьбу Присецких. Поэтому Сашко дружит только с крестьянскими детьми. А те любят сына каторжанки, «вступившейся за народ». Научили карасей ловить, лазать по деревьям, берут в ночное.
Оглушительный детский гомон стоит в усадьбе летом и зимой с утра до ночи. Это Сашко в жмурки играет или ледышку гоняет. Только бы дедушка не застал! Правда, если вдруг раздастся его зычный окрик: «Что вы здесь затеяли?» — внук все на себя возьмет. И такое милое лицо у этого лобастого озорника, что деду жаль устраивать ему взбучку.
Чудесны на Полтавщине летние ночи! Спит залитый лунным светом хутор. Темный бархат неба усыпан звездами. Тишина обнимает землю. Вдруг звучно залаяли сторожевые псы — к крыльцу господского дома подкатил экипаж. Это из Семипалатинска после шестилетней административной ссылки возвратился Александр Михайлович. Наспех поздоровался и заторопился в детскую: сыну уже седьмой год, а он еще его не видел…
В спаленке тускло мигает свечка. Спит Сашко! Разметался, зажав в руке телеграмму отца. Брови свел у переносицы и по-детски шевелит пухлыми губами. Опустился Богомолец у кроватки на колени и не утирает слез.
Наутро мальчик увидел отца — большого, статного, с русой бородкой, добрыми глазами, — и неприязни, посеянной дедом, как не бывало! Вдвоем пошли гулять к реке. У корявого береста, печально опустившего ветви в воду, Александр Михайлович долго рассказывал Сашку о матери.
— А за что ее заслали на каторгу? — не поймет Сашко.
— Царь ее боится!
— А няня говорит — за то, что заступалась за бедных!
— И то правда.
— Что же в этом плохого? — недоумевает малыш.
Александру Михайловичу пора уезжать. По окончании срока административной ссылки полиция разрешила ему год прожить в Могилевской губернии у брата Михаила — чиновника по акцизной части. Снова расставание: Богомолец уважил просьбу тещи не разлучать ее перед смертью с внуком.
Ей действительно немного осталось жить. Как-то весной Сашко поймал кузнечика, хотел показать бабушке, а комната ее оказалась пустой. «Отмучилась!» — говорит няня. И правда, двадцать два года пролежала в постели, сгорела в тоске по сосланным детям.
Совсем одиноко стало Сашку в Ковалевке, и его отправляют в Нежин, на родину отца, под опеку его двух сестер. Так осталось только мечтой желание старика Присецкого отдать Сашу в Пажеский корпус.
Осунувшийся, постаревший, он дрожащей рукой крестит единственного внука.
— Трогай, с богом! — торопит ямщика, чтобы скрыть непрошеные слезы.
К имению Толстого — Ясной Поляне — тянутся бесконечные вереницы паломников. Большинство из них видит в нем некое олицетворение протеста против всяческого угнетения — политического, сословного, религиозного. По наивной вере в торжество добра над злом писатель во многих принимает большое участие. Это его «служение людям».
Приветливо, с душевной лаской принял Толстой доктора Богомольца. Сумерничали вдвоем за самоваром, уютно шумевшим на столе. Смущение гостя быстро исчезло: хозяин с искренней заинтересованностью расспрашивал о деятельности киевского Южно-русского рабочего союза.
Взгляд у Толстого внимательный, но далекий. А голос спокойный, проникновенный — одновременно судьи и мыслителя.
Да, он писал Александру III, что, ссылая, уничтожая революционеров, нельзя бороться с ними. Не важно их число, важны их мысли. Их идеал — общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить идеал такой, который был бы выше их идеала.
— А ответ знает вся Россия — пять виселиц и сотни каторжников! — заметил приезжий.
Когда гость заговорил об ужасах тюремной жизни на Каре, лицо Льва Николаевича приняло страдальческое выражение. Отрицая революционные методы борьбы, писатель сочувствует политическим.
— Да, хорошая, сильная ваша жена. Это характер, а может, и больше. — В голосе хозяина столько тепла, даже увлеченности. — Я вот интересовался Перовской и поражен нравственной силой таких людей… Забывают все, ничего не боятся. Они мне напоминают весенние ручейки, которые сгоняют снег. Больше ручейков — и земля покроется зеленью…
И после паузы добавил:
— Все, что в моих силах, я сделаю для вас, жены и сына.
Своему другу, литератору Н. Страхову, Толстой написал незамедлительно: «Есть некто… врач Богомолец… Он был под надзором, теперь освобожден, но только с запрещением жить в столицах; жена его приговорена в 1881 году на Кар? на 10 лет. Она пыталась бежать, возвращена, и ей прибавлено 6 лет. Муж ее желает хлопотать о ней в Петербурге у начальства, — главное желание его то, чтобы ему разрешено было жить с ней, ему и их ребенку — в Каре. Не можете ли Вы узнать или даже попросить кого нужно — можно ли ему приехать в Петербург для этого?»
Поездка в столицу ничего не дала. Министр внутренних дел Дурново, скользкий как угорь, был любезен, обещал свое содействие, а потом письмом в разрешении на свидание с женой отказал.
И снова навстречу Богомольцу шагают те же стройные сосны, голые, бледные, задумчивые березы. Как и в прошлый раз, на большом застекленном балконе лакей накрывает стол к утреннему чаю. Появляется Лев Николаевич.
— Рад, очень рад вам, доктор!
— Я, собственно, Лев Николаевич, ненадолго… — начал гость.
От проницательного взора Толстого не укрылось смущение приезжего. Желая вывести из затруднительного положения, поспешил предложить:
— С английского переводить со мной хотите?
Александр Михайлович уверен, что переводчик писателю не нужен: он свободно владеет французским, английским и немецким языками, читает на итальянском, арабском, древнегреческом и древнееврейском. Но предложение сделано таким мягким, просительным тоном, что Богомолец, почувствовав все тепло сердечного к себе отношения, поспешил дать согласие.
Когда зашли в рабочую комнату писателя взять недавно полученные из Америки книжку «Диана» и письмо Элизы Бернс — один из многочисленных отзывов на недавно изданную «Крейцерову сонату», — Александр Михайлович убедился, что его помощь действительно нужна писателю. На обложке книги рукой Толстого написано: «Верно ли физиологически?» Значит, при переводе заинтересовавшей его книги Толстому нужен человек с медицинским образованием.
— Врачей, как людей, я высоко ценю, — говорит Толстой, бесшумно шагая в мягких, без каблуков сапогах. — Завидная участь у вас — быть нужными и полезными людям. Но наука ваша, согласитесь, слабая.
И задумался, устремив глаза вдаль. Лицо стало грустно-сосредоточенным.
— Пристроилась она к богатым классам и своей задачей ставит решение, как лечить людей, которые все могут достать для себя. Это какой-то возмутительно безнравственный порядок, при котором богатая купчиха имеет возможность выписать Шарко из Парижа и вылечивается, а жена ее дворника, страдающая той же болезнью даже в меньшей степени, умирает, так как никто не придет ей на помощь. Пока медицина может служить лишь богатым классам, то черт с ней!
— А земская медицина?
Из-под косматых бровей на гостя метнулись острые стальные глаза:
— Вылеченное от дифтерии одно дитя из тех детей, которые болеют дифтерией и нормально мрут в деревне в количестве пятидесяти процентов и в количестве восьмидесяти процентов в воспитательных домах, не может убедить меня в большой благотворительности земской медицины…
— Да, да, вы правы, Лев Николаевич. Я земский врач и хорошо знаю собственную беспомощность. Крестьяне живут в бедности, а темень страшная, глухая, беспросветная… Крестьянки, к примеру, у нас в Черниговской губернии считают корь и скарлатину обязательными болезнями. К врачу не принято обращаться, а медикаменты просто не признаются.
Свежая грязь с бруска, на котором оттачивают топоры, считается универсальным средством.
Толстой облокотился на подоконник, положив в ладони подбородок. От этого белая борода распустилась и лицо потонуло в ней.
— А власти?
— Совсем недавно я вошел в ходатайство перед Нежинской уездной земской управой о принятии чрезвычайных мер против эпидемии холеры и тифа. Управа с ответом не задержалась: священникам было предписано строжайше соблюдать правила погребения умерших от заразных болезней…
Жилистые, огрубевшие от работы руки писателя нервно задвигались:
— Кощунство! Иначе не скажешь.
Но Толстой не забыл главное, из-за чего приехал к нему этот человек.
— А как ваши дела, доктор?
— Ни с места! Сын тоскует по матери… Изболелось и у меня сердце.
— Крепитесь! Будем еще стучаться.
Сам вызвался проводить. Видно, сумятно было на душе у старика. Правительство к тому времени усмотрело в писателе отъявленного революционера. Запрещая розничную продажу пьесы «Власть тьмы», царь написал: «Надо бы положить конец этому безобразию Льва Толстого. Он чисто нигилист и безбожник». Теперь в тиши апартаментов Третьего отделения вынашивалась мысль об изъятии Толстого из общества путем заточения его в монастырь или объявления умалишенным.
Вышли. На Толстом черная блуза, подпоясанная черным же шнурком. Шагал легко, молодо перепрыгивая через ровчики, промытые дождем. Ветер задувал бороду, точно играл ею. В глазах — задумчиво-грустных — светилась вся глубина смятенной души.
— Я последнее время часто думаю о вашей жене. И ближе, понятнее становится ее протест… — И, вспомнив собственную боль, доверительно: — Ведь до чего в мерзостях дошли: меня приглашают к московскому губернатору Долгорукому для «должного внушения»! Я отказался явиться. Не могу по своим убеждениям, так как в этих действиях усматриваю вторжение в свой духовный мир!
Долго молчал. Потом вдруг торопливо стал прощаться. Ему подвели лошадь. Придерживаясь за луку, Толстой по-молодецки встал ногой в стремя и легко метнул вверх свое тело. Широкогрудый рысак с места пошел плясовой рысью.
В тот день за дневник Лев Николаевич не брался — чувствовал недомогание. А 14 октября 1889 года, среди записей о вреде «безумного церковного учения», «подрывающего веру в разум», записал: «Третьего дня был доктор Богомолец, и я с ним переводил статью «Диана» о половом вопросе, очень хорошую». А Страхова в письме опять просил о деле Богомольца: «…Нужно надоедать, а то забудут».
В начале декабря, после добрых вестей из Петербурга об обещании сенатора Семенова помочь доктору, допытывался у Страхова: «…Я не понял только, что значат слова Семенова: «Все будет сделано». Можно ли написать Богомольцу, чтобы он ехал в Петербург?» И торопил: «Напишите, пожалуйста, тотчас же только ответ на этот вопрос».
Но более подробные сведения были неутешительны. Во-первых, Софье Николаевне еще не вышел срок отправки на поселение. Во-вторых, надзиратели недовольны ею. «Не могу придумать, что можно бы еще сделать», — сокрушался Страхов и заключил: «Да, Лев Николаевич, Ваше учение еще не довольно действует: как не видят безумцы, что злом зло вызываемся?»
Надзирателям Софьи Николаевны есть отчего быть недовольными: каторжанка бушует. Для укрощения ее на Кару прискакал сам начальник Иркутского губернского жандармского управления полковник фон Платто.
Растет груда протоколов и постановлений, дышащих злобой и ненавистью: «О неисправимо дурном поведении Богомолец», «О неисполнении ею установленных правил, неповиновении, сопротивлении, оскорблениях на словах и действием должностных лиц», Карийские палачи кричат о дерзких выходках, неуместных словах, буйном поведении, «дурном влиянии Богомолец». В доносах начальству непокорная именуется «человеком закоренелым во вредных убеждениях, направленных против существующего порядка». Тюремщики убеждены: она «не изменит их даже в виду виселицы». Не ровен час, от такой «может пострадать приезжее начальство».
В наказание один сатрап лишает газет и писем, второй — держит на хлебе и воде, третий — заточает в зловонный карцер, четвертый — сажает в одиночку.
Было ясно: сломать такую — можно, согнуть — нет. Такие не гнутся.
Тюремщики прибавили Богомолец три года. Итого— девятнадцать лет каторги. Софья же прежняя — «неистовая», как называют ее тираны. Она не остается в долгу у них.
Тюремщики хотели даже пустить в ход «кобылу». С этой скамьи для наказания плетью встают только, чтобы умереть на тюремной койке. Но забайкальский губернатор не дал согласия: все-таки Богомолец дворянка. Впрочем, разъяснил: «По закону, вам принадлежит право употреблять силу к дерзновенным, не испрашивая на то разрешения». Но «не испрашивая разрешения» не посмели.
Тогда в карцер! Он вытравит из ее души остатки сил! Но и карцер превратил ее не в пепел, а в сталь.
— И что с ней делать? — ломает голову начальник тюрьмы.
Придумай! «Богомолец, — писал в Иркутск, — не подает никакой надежды на исправление, но дает право предполагать, что умственные силы ее совершенно ненормальны… Комиссию бы для освидетельствования»…
«Быть может, так и лучше поступить…» — ответил губернатор.
Но даже каторжные психиатры не осмелились подтвердить невменяемость Софьи. И все же было чему радоваться тюремщикам. У заключенной открытый туберкулез легких, но, несмотря на болезнь, она в двадцать третий раз восьмые сутки голодает. Департамент полиции, не таясь, ждет ее смерти. «Покорнейше прошу, — диктует Дурново, — не обращать никакого внимания на эту голодовку. Администрации безразлично, едят или нет преступники».
Наконец у отца на руках с таким трудом выпрошенная бумага из Петербурга: «Департамент полиции имеет честь уведомить о — неимении со стороны Министерства внутренних дел препятствий к разрешению проживающему в Нежине врачу А. М. Богомольцу отправиться с малолетним сыном в Восточную Сибирь».
Все детали поездки обсуждаются деловито и обстоятельно сначала с тетками, а потом с дедом Присецким. Сашку сшили теплый полушубок, кибитку обили войлоком.
Последнюю ночь перед отъездом в доме Богомольцев спали тревожно. Встали, когда на темно-сером небе еще мигали звезды. У крыльца фыркали лошади. Возница укреплял чемоданы и тюки.
— В добрый час!
— С богом!
Одинокая кибитка то взбирается на пригорки, то скатывается в низины. Вздрагивают, кренятся на ухабах узелки и корзины. А вокруг неоглядная ширь полей — то ровных, как скатерть, то изрытых оврагами, то покрытых перелесками.
Саше все нравится — мягкий стук лошадиных копыт, взлохмаченные встречным ветром гривы, песни ямщиков, бесконечное мелькание верстовых столбов. Изредка встретится хуторок, изредка — уездный городок.
Невесело выглядит окружающий мир. В селах народ хмурый, неразговорчивый. «Сонным царством», «глухоманью», «медвежьими углами» называют они сибирский край. Дома у крестьян — раз, другой шагнул — и стена. Земляные полы, огромные печи.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Трагический шлейф двусмысленности
Трагический шлейф двусмысленности Актриса Шэрон Мари Тейт была зверски растерзана сатанистами после того, как её муж Роман Полански снял фильм о женщине, носящей под сердцем ребёнка дьяволаВ 1968 году кинокомпания «Парамаунт пикчерс» вышла на рынок с новой лентой
ТРАГИЧЕСКИЙ КОНЕЦ АКСЕНОВА
ТРАГИЧЕСКИЙ КОНЕЦ АКСЕНОВА Наш маленький людской муравейник на реке Тамбее взволнован вестями из Обдорска: бывший инструктор и позже заведующий факторией Аксенов ударом ножа в грудь заколол свою жену Валентину и, приняв большую дозу стрихнина, через несколько минут
Трагический кордебалет
Трагический кордебалет После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился.Пешкова: «Когда Липа об этом сказала, А. М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: “Не надо, надо кончать”».Крючков вспоминал, что «впрыскивания
Глава I ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЕДИНОК
Глава I ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЕДИНОК Этот ужасный удар лишил Францию покоя, а наш дом счастья. Маргарита Был жаркий июнь 1559 года, когда обитатели улицы Сент-Антуан, ведущей от Бастилии к улице Сен-Поль, узнали новость, которая повергла их в уныние. Их улица была самая широкая в
Трагический кордебалет
Трагический кордебалет Да простит автора читатель за чрезмерные медицинские подробности, но после первого укола ожившему Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это соглашается.Пешкова: «Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и
Трагический кордебалет
Трагический кордебалет Да простит читатель автора за чрезмерные на первый взгляд медицинские подробности, но они необходимы. После первого укола пришедшему в сознание Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на него соглашается.Пешкова: «Когда Липа об этом
Трагический рецидив
Трагический рецидив После ареста и осуждения Пауэрса, а также разоблачения агрессивных намерений американского правительства, Пентагона и Центрального разведывательного управления были все основания полагать, что они сделают соответствующие выводы и прекратят
Трагический финал
Трагический финал По меньшей мере в одном война должна сослужить хорошую службу: мы должны навсегда покончить со своим прошлым, покончить с вечно жаждущей войны немецкой реакцией. Национальный Комитет «Свободная Германия», статья 25 Манифеста. Громовой ответ Вокруг все
Глава 17 Трагический рубеж
Глава 17 Трагический рубеж Александр III был искренне счастлив в браке. Счастлив со дня свадьбы и до последнего земного мига. Будучи цельной и откровенной натурой, он никогда бы не смог хоть на минуту забыть о святых узах брака и позволить даже мимолетный флирт или невинную
Трагический финал
Трагический финал По меньшей мере в одном война должна сослужить хорошую службу: мы должны навсегда покончить со своим прошлым, покончить с вечно жаждущей войны немецкой реакцией. Национальный Комитет «Свободная Германия», статья 25 Манифеста. Громовой ответ Вокруг все
октябрь 25 Трагический артист
октябрь 25 Трагический артист Каждый жест распадается на атомы.Сначала рука долго лежит на пюпитре, на нотах. Как будто окаменев. Зал притих — ощущение мертвости. Он медленно окидывает оком тех, кто расположился на стульях. Их, с инструментами, он пригвоздил, закрепил
ТРАГИЧЕСКИЙ ГОД
ТРАГИЧЕСКИЙ ГОД В 1795 году Бетанкур пережил сразу две трагедии. На Канарских островах, в возрасте семидесяти пяти лет, умер отец, а потом дочь, которой не исполнилось ещё и года. В один из дней девочку охватил жар. Срочно послали за доктором. Пришёл опытный, пожилой, очень
Трагический случай в 60-м полку
Трагический случай в 60-м полку На ряду всех этих дел в жизни дивизии произошли два трагических случая, благодаря личной неосторожности самих погибших. В 60-м полку поручик Войнов[688] и стрелок Косимов[689] были убиты, а стрелки Булдаков[690] и Столбов[691] были тяжело ранены
ГЛАВА ШЕСТАЯ ТРАГИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ
ГЛАВА ШЕСТАЯ ТРАГИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВ После ареста и осуждения Пауэрса, а также разоблачения агрессивных намерений американского правительства, Пентагона и Центрального разведывательного управления были все основания полагать, что они сделают соответствующие выводы и
ГЛАВА 6 Трагический циркуляр
ГЛАВА 6 Трагический циркуляр Радости ходят рядом с печалями. В апреле 1865 года вышел закон о литографии и книжной торговле, по которому открывать эти заведения разрешалось только людям вполне благонадежным и имеющим некоторое образование. Голы-шевы думали, что новый закон