Глава тридцать шестая. Южной дорогой
Глава тридцать шестая. Южной дорогой
Перевалив через эту гряду, мы вышли на равнину, изрезанную сухими руслами и арыками, уходившими большею частью на юг, где виднелись одиноко росшие тополя; тремя километрами дальше на глинисто-песчаной почве этой равнины появились выцветы соли, травянистая растительность (камыш, джантак, чий и Calamagrostis) стала гуще, и дорога на протяжении 4 км пошла типичным солончаком. За границей этого последнего тра?вы вновь стали скудны, черными площадями появилась мелкая галька, и мало-помалу мы втянулись в пустыню, которой и шли до первых хотунтамских полей.
В Хотун-таме нас встретил дорга, который был извещен о нашем возвращении в Mop-гол накануне. После обмена приветствиями, он проводил нас в уже знакомое нам помещение, где тотчас же сервирован был дастархан: чай, изюм, пшеничные лепешки и… дыни. Впоследствии такие дыни мы забраковали бы, теперь же они показались нам бесподобными, и на радостях, что мы опять в культурном районе, мы одарили доргу больше, чем позволял наш почти истощившийся запас безделушек.
На следующий день мы встали до свету, так как мне предстоял далекий путь: дорогой на Баркюль добраться до Багдашской усадьбы и отсюда свернуть на Ортам, куда брат должен был следовать с караваном прежней дорогой, вдоль южной подошвы хребта Карлык-таг.
До ущелья речки Аглик я ехал уже знакомым путем частью вдоль, частью поперек низких черных холмов, сложенных из темно-зеленого, очень мелкозернистого, хлоритового диабаза. Холмы эти отделялись узкой долиной от южных уступов Карлык-тага, который в том месте, где к нему подходит дорога, образован серым хлоритовым среднезернистым гранитом. Среди скал этого гранита я вступил в ущелье речки Аглик и через 200 м стал взбираться на гребень отрога, образующего его западный склон.
Этот первый подъем оказался настолько крутым, что его пришлось сделать пешком. Перевал носит название Тёшик-таг и при абс. выс. 7179 футов (2188 м) возвышается над речкой метров на 2130. В основании этой толщи лежит серо-зеленый хлоритовый гнейсогранит, выше же обнажается гнейс, переслаивающийся как с хлоритовым сланцем, так и с более зеленым эпидотовым гнейсом. Пока мы спускались среди скал этих сланцев, растительность попадалась лишь кое-где и состояла из кипца и кустов шиповника (Rosa pimpinellifolia) и караганы (Caragana tragacanthoides); но ниже характер ландшафта вдруг изменялся: скала ушла под почву, а последнюю густым покровом одели полынь и кипец, среди коих виднелась зелень и других растительных типов. Мы вышли здесь в межгорную падь, которая, несмотря на свою близость к Хотун-таму, оставалась почему-то нетронутою скотом. Это показалось мне тем более странным, что обилием пастбищ хотунтамцы вообще похвалиться не могут. Недоумение мое, однако, кончилось, когда дотоле упорно молчавший проводник, обведя рукой долину, вдруг объявил: «Ханское угодье».
Противоположный скат этой пади был пологий и выводил на перевал Тагнё-дабан, сложенный из среднезернистого амфиболитового гранита, прорезанного жилами фельзита. Его абсолютная высота оказалась равной 7608 футам (2319 м).
С перевала открылся вид на мрачное, скалистое ущелье речки Кырчумак (или Карчумак?), которая с оглушительным шумом, вся в пене и брызгах, неслась средн огромных камней. Вдоль ее русла виднелся редкий лес тополей, которые подымали свои стройные стволы прямо из груд навороченной в бортах гальки и валунов.
Эту речку мы перешли по мосту, а затем километрами двумя ниже стали подыматься боковым ущельем ручья Шото-гол на перевал Шото-дабан.
Ущелье это столь же дико, как и главное: исполинские стены, голый камень и почти полное отсутствие зелени характеризуют его суровую красоту, которая, вероятно, импонирующим образом действовала на душу прежнего обитателя этой горной пустыни. Иначе трудно понять, почему именно это ущелье избрал он для подвигов благочестия, выразившихся в выбитии на скалах тибетским и монгольским алфавитом известной буддийской формулы: «ом-мани-падме-хум»[261].
Эти надписи украшают гранитные глыбы несколько выше того места, где порода эта сменяет глинисто-слюдяной сланец, сопровождающий дорогу от устья ущелья. Шото-дабан, находящийся, как нам кажется, ближе других перевалов к главной массе хребта, слагает бледно-красный крупнозернистый гранит, пересеченным более темным мелкозернистым аплитом. Подъем на него идет третьестепенным ущельем, крут, но короток; спуск столь же крут и выводит в широкую, но значительно всхолмленную падь, густо поросшую травами высокой степи, показавшимися мне также не тронутыми скотом, хотя дальше нам и попалось навстречу огромное стадо баранов, перегонявшееся вверх по долине. Кстати замечу, что еще во времена Ван Янь-дэ (в 982 г.) в Хамийском княжестве разводились обе породы курдючной овцы: монгольская с малым и киргизская с большим курдюком[262], ныне же последняя здесь совсем вывелась.
Обходя холмы, в коих основная порода (сперва темно-бурый кремнистый сланец, а затем черный глинистый) обнажалась лишь по гребню или в редких обрывах, мы постепенно поднялись на побочный отрог Чакыр-дабан, за которым невдалеке следовали еще два перевала – Еки (двойной) и Ак-таш-котёль, разделенные узкими травянистыми долинами, мало в чем отличающимися от только что пройденной. Впрочем, восточный склон перевала Ак-таш-котёль, как и самый перевал, был почти совсем бесплоден.
С Ак-таш-котёля открылся величественный вид на мрачный Карлыг-таг, неприступной стеной уходивший под облака, которые клубами спускались в долину по его диким ущельям. Влево вставали также исполинские скалы; они неожиданно вырастали на продолжении Еки-котёльского гребня, но, очевидно, состояли из другого материала, чем этот последний. Впоследствии я обогнул их с запада и убедился, что они действительно сложены не из осадочных, а из массивных кристаллических пород – гранита и сиенита. Впереди пологий спуск выводил нас в Багдашскую котловину.
На третьем километре от перевала мы встретили первые пашни и первых тагчей, от которых узнали, что застанем в Багдаше таджи Садык-бека, присланного из Хами для ревизии ханской усадьбы. Я очень обрадовался этому известию. С Садык-беком мы познакомились еще в прошлом году; он был свидетелем того расположения, которое старался показывать нам при всяком удобном случае Шах-Махсут, и этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить нам теперь радушный прием. Впрочем, многого нам и не требовалось: чашка горячего чая, да, пожалуй, два-три указания, которые затруднился дать нам наш молчаливый вожатый. Всю дорогу он понуро тащился в хвосте, то и дело подгоняя свою лошаденку, которой оказался не под силу быстрый, почти 47-километровый перегон по крутогорью; а так как до точлега в Ортаме должно было остаться еще по крайней мере 25 км по таким же горам, то я, глядя на его жалкую фигуру, давно уж решил с ним развязаться в Багдаше, благо оттуда дорога шла ущельем Гаиб, где сбиться с пути, как я думал, было нельзя.
Багдашская усадьба славится своим фруктовым садом, но едва ли заслуженно; по крайней мере, поданные нам яблоки – сладкие, но мелкие и червивые – оказались много хуже турфанских. Она известна также как центр ханского коневодства.
Говорят, что некогда багдашские лошади считались лучшими во всем Притяньшанье, теперь же от этой былой славы осталось немного. Ураган инсуррекционного [повстанческого] движения шестидесятых годов, так жестоко обрушившийся на Хамийский оазис, разметал и хамийские табуны, так что, когда Шах-Махсут принял наконец бразды правления над разоренным краем, то не нашел в княжеских конюшнях ни одной доброй лошади. Их пришлось собирать поодиночке, скупая что и где только возможно, лишь бы принадлежность к прежним ханским табунам не подвергалась сомнению. Так было сведено десятка два порядочных маток и несколько плохих жеребцов, которые и положили начало теперешнему заводу.
Из расспросов я убедился, что приемы коневодства в Хами те же, что и в наших степных хозяйствах: матки разбиваются на косяки, к которым подпускается по одному жеребцу, причем никакого сознательного подбора не производится. Лошади круглый год находятся на подножном корму и подкармливаются заготовленным сеном лишь в самых исключительных случаях. Молодые, плохо развитые жеребцы холостятся и выводятся из табуна, кобылы же вовсе не сортируются.
В Багдаше мы пробыли не более получаса. Убедившись, что мы не останемся у него ночевать, Садык-бек дал понять, что в таком случае нам следует торопиться, дабы успеть еще засветло перевалить через Ортамский отрог, крутой и каменистый. Под впечатлением этих слов мы даже отказались от чая и, наскоро покончив с дыней и сухими закусками, рысью выехали из усадьбы по направлению к видневшемуся на юге ущелью Гаиб.
Речка Гаиб выбегает в Багдашскую котловину с запада и, соединившись здесь с Багдашским ручьем и приняв его направление, устремляется шумным потоком на юг, в глубокую щель между крутыми сиенитовыми утесами.
В этом ущелье царил уже полусумрак. Солнце успело закатиться за высокий гребень правобережных скал и бросало из-за них прощальные лучи на вершины противоположных гор. Мы жадно следили за тем, как одна за одной потухали эти вершины, и все шибче и шибче погоняли вперед лошадей. Но, увы, у меня на руках была съемка пути, связанная с остановками, которые приходилось делать чуть не на каждом километре. Они нас задержали настолько, что к перевалу мы подъехали уже в глубокие сумерки.
– Ну что ж! Выберемся на гребень, так опять будет светло!
И с этой мыслью я стал взбираться на гребень отрога. Но дорога, до этого места хорошо наезженная, с прочными новыми мостами, вдруг превратилась в узкую тропу и, вильнув в сторону, пошла под гору.
– Глаголев, а ведь, пожалуй, мы не туда едем…
– Должно быть, что так…
И, точно по уговору, мы повернули обратно; но и выбравшись на торный путь, мы тщетно искали сворота к горам: его нигде не было. Так доехали мы снова до спуска.
– Стало быть, верно ехали!
Но нет, тропинка привела нас к реке и уткнулась в нее в том месте, где воды ее с пеной перебрасывались через огромные валуны. Осмотрелись: вдоль реки ни справа, ни слева дороги не было видно.
– Что же теперь?
Решили еще раз попытать счастье и снова вернулись обратно. Обшарили гранитные осыпи в предположении, что, может быть, ими пошла дорога на перевал, но… безуспешно. Между тем совершенно стемнело, и так как у нас не было иного выбора, как идти вдоль Гаиба, то я и спустился к реке. Не возвращаться же в самом деле обратно в Багдаш!
И вот начались наши мытарства!
Описывать их я не буду, но они станут ясны, если мы представим себе те условия, в каких мы шли последние 5–6 км по ущелью.
Ночь. Небо вызвездилось, но его слабое мерцание не достигает дна ущелья, где все черно: и с шумом несущаяся вода, и стеснившие реку скалы, и разросшийся вдоль нее лес и кустарник, и, наконец, бурелом и камни, торчащие отовсюду. Все это сплелось и перемешалось в дикий черный хаос, из которого, казалось, не было выхода: отведешь рукой лезущие в лицо ветви – наткнешься на камень, станешь его обходить – сорвешься в воду потока…
У Глаголева нашлось штук двадцать серничек [спичек]. В критические моменты мы ими пользовались; но этих моментов оказалось так много, что запас их был на первых же порах израсходован, и дальше мы уже двигались совсем вслепую.
В Ортамский сад мы прибыли как раз в полночь, когда нас перестали уже ждать, порешив, что непредвиденная случайность заставила нас задержаться в Багдаше. Всего нами пройдено было в этот день 75 км, съемкой же 65.
На следующий день мы выступили в Хами, куда и прибыли вскоре после полудня. На этот раз мы обошли туземный город с востока и остановились на лугу, близ его южной стены. Николай и Ташбалта, которым кто-то дал знать, что мы едем, явились тотчас же. Они опередили нас на двое суток и остановились в Син-чэне, в том же тане, в котором когда-то стояли и мы.
В Хами мы рассчитывали отдохнуть по крайней мере дней пять, но наши возчики этому воспротивились и объявили, что ни за что не выедут в несчастный день.
– Но какой же день вы считаете благоприятным для выезда?
– Десятое число десятой луны.
Это число соответствовало 2 октября.
Делать нечего, пришлось покориться и выехать в назначенный нам китайцами день, но случай этот весьма кстати познакомил меня с весьма распространенным в Китае предрассудком, не только подразделяющим все дни в году на счастливые и несчастные, но и отличающим среди этих последних такие, которые неблагоприятны для выезда в одном каком-нибудь направлении, от таких, которые неблагоприятны для всякого выезда, в каком бы направлении этот последний ни предпринимался. И суеверие это настолько прочно вкоренилось в души китайских извозчиков, что было бы совершенно напрасным трудом убеждать их от него отказаться.
В Хами мы простились с нашим верным Хассаном. В лохмотьях явился он к нам в Урумчи. Начал с того, что за кусок хлеба стал собирать казакам топливо, пасти баранов и лошадей. Его допустили в отряд, как перед тем допустили собаку Кальту. У нас нашлась лишняя лошадь, и он поехал за нами, подгоняя баранов. В Гу-чэне мы его одели; в Хами ему поручен был караван ишаков, и тут-то он показал себя настоящим мастером своего дела. Всегда ровный, скромный, услужливый и работящий, он завоевал общую нашу симпатию, и теперь мы расставались с ним, пожалуй, даже труднее, чем впоследствии со стариком Сарымсаком. Но сам Хассан был на седьмом небе, не потому, конечно, что покидал нас, а потому, что один год службы превратил его из нищего в богача; мы оставляли ему весь наш ишачий караван – 12 молодых, превосходных животных, все полагающееся сюда снаряжение, верховую лошадь и ланов двадцать денег. С этим он не только мог начать извозное дело, но и становился в ряды наиболее состоятельных ишакчей; недаром же последние тотчас же стали величать его баем!
Нo если нами остался доволен Хассан, то того же нельзя сказать о хамийском князе, который, очевидно, ждал от нас лучших подарков, чем те, которые мы могли ему предложить. Особенно же раздосадовал его наш решительный отказ подарить ему штуцер Haedge’a. Он долго не хотел с ним помириться и несколько раз подсылал к Сарымсаку адъютантов с вопросом, не изменили ли мы своего решения.
В Хами мы увеличили свой арбяной обоз еще одной телегой, в которую сложили ящики, оставшиеся на хранении у вана, и рухлядь, шедшую на ишаках.
2 октября, несмотря на то что мы выступили поздно, никто не явился нас проводить. Хассан-бай еще накануне ушел в Су-чжоу, получив подходящий подряд, среди же местного населения у нас как-то сразу не оказалось приятелей: нам давали почувствовать, что ван на нас сердится.
Сейчас за городом дорога вышла на солонец. Блеклая растительность, грязно-желтая почва и желтоватая пыль, висевшая в воздухе, придавали всему ландшафту донельзя тоскливый характер. Он не изменился, когда местность стала более пересеченной и дорога пошла среди плоских высот, сложенных из глины, песка и мелкой гальки. Эти высоты перемежались с впадинами, поросшими очень густо камышом и осокой; но и здесь глазу не на чем было остановиться – так все выглядело тускло, пыльно и однообразно в своей серо-желтой окраске. Пыль образовала и ту полупрозрачную завесу, за которой скрылась подошва Тянь-Шаня, тогда как его зубчатый гребень, увенчанный пятнами снега, рисовался довольно явственно на горизонте.
Мы выступили из Хами после полудня и лишь под вечер добрались до Сумкаго, по-китайски – Тоу-пу-ли, где и остановились в небольшом, но опрятном дунганском тане. Селение это расположилось в ключевой впадине, находящейся, по-видимому, в связи с руслом речки Ху-лу-гоу и развивающейся в плоский овраг южнее дороги.
На следующий день выступили с рассветом. Ехали знакомыми местами, которые выглядели еще печальнее, чем зимой. Тогда как-то мирился с царствовавшим тут запустением – мертвая природа вполне гармонировала, а местами лежавший снег частью скрывал следы разрушения, – теперь же картина погрома выступала во всем своем страшном объеме: запущенные поля, заросшие джантаком арыки, развалившиеся дома, остатки стен и группы деревьев за ними – все это напоминало о кипевшей здесь некогда жизни и рисовало воображению кровавые сцены беспощадного избиения сотен людей.

Со времени замирения края прошло свыше пятнадцати лет, и тем не менее беглецы все еще продолжали возвращаться на родные свои пепелища. Не всегда добровольно, однако. Нам передавали, что Шах-Махсуту удалось исходатайствовать в Пекине приказ о насильственном возвращении в Хами тех из его подданных, которые не пожелали бы добровольно вернуться на родину, и что приказ этот стал приводиться в исполнение так ретиво, что вскоре большая дорога в Хами запестрела переселенцами.
Одна такая группа попалась и нам на пути. Вереница арб, переполненная скарбом, женщинами и детворой, мужчины в рубище, подростки, то и дело подгонявшие из сил выбившихся лошадей, старцы на ишаках – весь этот караван, подымая невероятную пыль, медленно двигался нам навстречу; и когда поравнялся, то от него повеяло такой усталостью, нищетой и горем, что как-то не хотелось верить, что это были люди, возвращавшиеся на родину после долголетнего пребывания на чужбине.
От них-то мы и узнали о существовании помянутого приказа.
– Там, в Курле, – жаловались они, – мы были свободны, сюда же возвращаемся крепостными; там мы обжились, поженились, нажили дома и земли, а здесь нас ожидает жизнь впроголодь, если только не полная нищета. Нам не дали возможности постепенно ликвидировать наши дела, нас разорили… и вот мы возвращаемся на родину беднее, чем были даже тогда, когда бежали отсюда.
Жалобам этим положил конец сопровождавший караван китайский солдат. При появлении его хамийцы рассыпались, и возы их, тяжело тронувшись с места, медленно покатились к Хами.
Эта встреча случилась в солонцах, к западу от селения Астына. Солонцами, перемежавшимися с песчано-щебневымн участками пустыни, мы проехали еще несколько километров, а затем поднялись на песчано-известково-глинистое, частью распаханное плато, с которого открылся вид на богатую ключами долину Ябешэ, сливающуюся на юге с оазисами Лапчук и Кара-тюбе. Многоводный ручей Ябешэ, как нам говорили, образован ключами, которые выбиваются на дневную поверхность километрах в пяти к северу от дороги. Находятся ли эти последние в связи с исчезающими в рыхлом конгломерате водами речки Саир-кира, установить я не мог, но в направлении глубокого русла Ябешэ находится и ущелье, по которому сбегает с Тянь-Шаня в низину помянутая речка. Вдоль Ябешэ виднелись пашни, группы деревьев и хутора.
Двумя километрами дальше мы вступили в Токучи или Сань-пу-ли, где и остановились в единственном на все селение тане. Токучи, разбросавшееся вдоль небольшой ключевой речки, состоит из десятка домов, ютящихся в тени тополей. Его абсолютная высота оказалась равной 2358 футам (719 м).
На следующий день нам предстоял путь по местности, не пройденной минувшей зимой, но о ней многого сказать не приходится: это почти бесплодная пустыня, частью глинисто-песчаная, частью каменистая, сохранившая лишь в немногих местах остатки прежней культуры. По-видимому, она бедна даже грунтовой водой, а о проточной и говорить нечего: ключевые ручьи, которые мы пересекли зимой по дороге из Джигды в Токучи, сюда не доходят, очевидно, без остатка просачиваясь в ее песчанистую рыхлую почву. Только на третьем километре от Токучи мы прошли, по-видимому, ключевой лог, густо поросший травами и кустарником, среди которого я заметил и розу пустыни – Rosa elasmacantha Trautv.
Здесь сходились дороги: магистраль вела в Турачи, вправо отходила дорога на селения Деваджин (Де-ва-цзин) и Джигду, влево – на селения Чокагу и Чиктым.
Селение Чокагу находится в преддверии к пустыне, которую китайцы в древности называли Бо-лун-дуй, позднее же – Фан-гоби (Fong-gobi) или Ветреной гоби[263]. Это – «долина бесов» Ван Янь-дэ, о которой я имел уже случай говорить выше, С тех пор завеса, скрывавшая ее от взоров европейцев, была сорвана экспедицией В. И. Роборовского, который и дал нам довольно подробное ее описание[264].
Пройдя описанной степью километров двадцать, мы вышли к селению Турачи, также Сы-пу-ли, или Сань-дао-лин, лежащему почти на границе хамийских владений; далее на запад уже залегает пустыня, благодаря которой пункт этот и превратился в обычное место остановки обозов и караванов, следующих из Хами в Джунгарию или Турфан. Движение здесь большое, и, как говорят, содержатели местных таней делают недурные дела. Мы выбрали тань, в котором было меньше народу, но и тут еле добились отдельного помещения. Впрочем, такое стечение проезжающих – явление обычное только осенью, в другие же месяцы, а особенно летом, тани пустуют нередко по суткам и более.
Абсолютная высота Турачи оказалась равной 3386 футам (1032 м) – цифре несколько неожиданной, так как подъем равнины не казался нам вовсе крутым. Согласно Футтереру, высота этого селения даже больше, а именно равняется 3608 футам (1106 м)[265].
Следующий участок пустыни до местечка Ляо-дунь, длиной около 40 км, мы пробежали менее нежели в шесть часов; дорога была здесь не только знакомой, но и настолько однообразной и скучной, что как-то невольно хотелось отбыть ее поскорее. К тому же на этот раз мы не были связаны съемкой.
К Ляо-дуню дорога стала ровнее, но в середине пути мы то и дело пересекали лога, заваленные крупной галькой и валунами. Такая же галька устилала и почву равнины, притом местами столь густо, что казалось, будто идешь не степью, а саем. Это обилие голышей в почве делает последнюю почти непригодной для обработки; и действительно, несмотря на близость подпочвенной воды, местами выбивающейся на поверхность, человек здесь делал только попытки селиться и то отдельными хуторами. От последних сохранились теперь лишь следы карысей, одинокие деревья, да развалины зданий. Отсылая читателя за подробностями об этом участке пути к главе 18-й настоящего труда, я здесь лишь замечу, что намечавшийся уже раньше крутой подъем Притяньшаньской равнины, достигавший 38 м на километр, выразился к северу от Турачи особенно резко, составив более 58 м на тот же километр.
В Ляо-дунь мы прибыли задолго до своего обоза и в ожидании последнего навестили нашего старого знакомого, а вместе с тем и высшую местную власть – ба-цзуна (старшего унтер-офицера), который, конечно, принял нас с подобающими почестями, а затем не замедлил и отдать визит. При этом нельзя не упомянуть об одной подробности: в его горнице, среди двух «дуй-цзи» – свитков с мудрыми и поучительными изречениями, мы нашли свои прошлогодние визитные карточки наклеенными на стену. Очевидно, это были единственные карточки, которые он когда-либо получал.
В Ляо-дуне мы застали двух турфанлыков, которые немного спустя выехали прямой дорогой в Пичан. Они не раз ездили этой дорогой, но, к сожалению, за недосугом, не могли нам сообщить о ней многого; все же мы узнали, что она много хуже той, по которой мы ехали, но опасна главным образом только весной и зимой.
За Ляо-дунем мы очутились в пустыне, переход через которую зимой казался нам столь тяжелым. Но тогда нас донимал ветер, морозы и длинные переходы; теперь же мы встретили здесь умеренное тепло, ясное небо, прозрачный воздух и полное в нем затишье. Пустыня представлялась нам, очевидно, с наилучшей своей стороны и в такой обстановке показалась нам, действительно, не более дикой, чем любая из каменистых пустынь Центральной Азии. Мы нашли в ней даже более жизни, чем, например, местами в Бэй-Шане или в уже известной читателю «харюзе».
Ляо-дунь расположен по краю оврага, дно которого заросло ниже дороги камышом, чием и разнообразным кустарником, среди которого не последнее место занимают белый шиповник (Rosa elasmacantha), гребенщик (Tamarix laxa) и золотарник (Caragana pygniaea). Зимой тут держались джейраны (Gazella subgutturosa), но сегодня их не оказалось не только в этой балке, но и в соседних. По словам местных жителей, они появляются в них только в суровые зимы, а такой, конечно, и была зима 1889 г.
За ляодуньским оврагом мы переехали ряд неглубоких, но широких руслоподобных балок, напоминающих обыкновенные саи, от которых они отличаются тем, что выстилающая их галька в главной своей массе местного происхождения, освободившаяся из слагающего здесь почву рыхлого конгломерата, а не приносная издалека; далее же вступили в широкую долину северо-западного простирания с изборожденной росточами каменистой почвой. Обнажения желтых песчано-известково-глинистых почв здесь исчезли, сменившись серым песком, из-под которого, на двадцатом километре от Ляо-дуня, выступила, наконец, и коренная порода – фельзитовый порфир серо-фиолетового и красно-фиолетового цветов. Прежде я думал, что и холмы к югу от дороги слагает тот же порфир, но В. А. Обручев нашел[266], что они образованы гобийскими породами, чего нельзя было бы сказать, судя по их внешнему габитусу.

Станция И-вань-цюань-цзы, или Тао-лай-тай, выстроена на юру у небольшого ключа и состоит из одного казенного таня, находящегося в ведомстве баркюльского пристава. Абсолютная высота долины, среди которой она расположена, достигает 4900 футов (1494 м), являясь наибольшей для всего пути между Хами и Чиктымом.
На следующий день мы выступили до солнечного восхода; когда же солнце взошло, то мы увидали себя среди зеленых холмов, образованных конгломератами, сланцеватыми глинами и глинистыми песчаниками. С одного из этих холмов я увидал картину, которая поразила меня не столько неожиданно обширной панорамой гор и долин, сколько странным атмосферическим явлением, которому я и сейчас затрудняюсь дать объяснение.
Небо бледноголубого цвета, совершенно чистое, безоблачное; под ним на редкость прозрачный воздух, позволявший видеть гребни гор на необыкновенно далекое расстояние, а еще ниже – густой туман, укрывавший все пади и горные склоны. Получалось впечатление, точно находишься не в самой сухой части Центральной Азии, а во влажных и знойных ганьсуйских горах, где такие картины – обычное явление по утрам, после обильно накануне выпавшего дождя. Горы же рисовались отсюда в таком виде. Подымающаяся вправо высокая Чоглу-чайская гряда уходила далеко на западо-юго-запад и своими же отрогами почти прикрывала свой южный конец, а прямо передо мною вставала другая гряда – низкая, но скалистая, служившая северной гранью того океана тумана, который устилал далее все низины и над которым высились гребни двух параллельных гряд: ближней – зубчатый, и дальней – более высокий и ровный, тесно сходящиеся на меридиане И-вань-цюань-цзы. Последний из этих гребней я принял за Чоль-таг, а за ним я увидел расплывшуюся в синей мгле массу гор, над которой одиноко подымалась вершина грязно-желтого цвета.
Под впечатлением этой картины я писал с дороги о наблюдаемой здесь тесной топографической связи между горами бэйшаньской и тяньшанской систем, но только теперь, когда маршруты В. И. Роборовского и П. К. Козлова опубликованы, я могу вполне взвесить то, что я видел: первая полоса тумана выстилала долину между Чоглучанскими грядами и высотами, ограничивающими с севера прямой путь между Хами и Пичаном, вторая – эти последние от Чоль-тага. Последний выглядел ближе, а падь, отделяющая его от Тяньшанских гряд, уже, чем это оказалось в действительности, но такая ошибочность впечатления легко объясняется миражем и дальностью расстояния. Затем вздутие, смыкающее Чоль-таг с горными грядами тяньшанской системы, оказалось не прорванным, как я подозревал это, Янь-дуньским протоком, а водораздельным между бассейнами Шона-нора и Блоджинтэ-куля. К сожалению, о природе этого вздутия нам нничего неизвестно.
Правда, в книге Козлова говорится о том, что к западу и востоку от него простираются плоские холмы, гряды и столовые возвышения, сложенные по большей части из красных гобийских отложений[267], но из этого указания еще нельзя вывести заключения, что и самое вздутие сложено из тех же красных пород. К тому же, хотя ныне и принято все центрально-азиатские обложения с более или менее красной окраской относить к гобийским, но такое определение далеко не всегда может оказаться удачным, в особенности же на пространстве между Хами и Турфаном, т. е. в области частых и обширных выходов юрских пестрых, и в том числе красных и желтых песчаников; а что они распространены и в «долине бесов», явствует из того, что на пути к урочищу Сары-камыш экспедиция Роборовского встретила каменноугольные копи[268].
Спустившись с холма, я догнал караван, когда он вступил уже в Чоглу-чайские гряды, сложенные из осадочных и изверженных горных пород, выступающих в такой последовательности вдоль дороги: серо-зеленые песчаники и конгломераты, серо-фиолетовые мелафировые порфириты и такого же цвета кварцевые порфиры, красные кварцевые порфиры, красные конгломераты (пудинги), темно-зеленые и темно-бурые конгломераты и, наконец, ярко-зеленые глинистые песчаники и сланцы, обрывающиеся уже в сторону котловины Отун-го-цзы, или Отун-во.
На станции Чоглу-чай, или Тао-лай-цзин-тай, мы застали большой съезд китайских фургонов, множество лошадей и китайских солдат, конвоировавших какую-то важную особу, возвращавшуюся из Илийского края на родину. К счастью, рассчитывая сегодня же добраться до станции Ци-ге-цзин-цзы, мы не предполагали здесь останавливаться.
Чоглу-чайское ущелье вывело нас на каменистое, изборожденное росточами плато, которым мы и шли 10 км, – постепенно спускаясь по его террасовидным уступам; еще дальше мы пересекли широкое русло реки, уходившей на юго-запад, в узкий просвет между Яньчинской и Чоглу-чайской грядой, и, наконец, вступили на солонцовую почву котловины Отун-во.
Когда-то на этом солонце рос тограковый (Populus cupbhratica) лес, теперь же от него остались одни только пни да отдельные жалкие дуплистые экземпляры.
Пройдя солонцами километров пять, мы, наконец, увидали из-за кустов гребенщика приземистые здания помянутой станции, где и остановились, очень довольные, что наконец-то мы прибыли к тому пункту дороги, откуда должен был пойти никем еще не пройденный путь. Абсолютная высота этой станции оказалась в круглой цифре на 457 м меньше, чем высота станции Чоглу-чай, и на 548 м меньше, чем высота станции И-вань-цюань-цзы; расстояние же от первой 26, а от второй 46 км.
В Ци-гэ-цзин-цзы мы оставили турфанскую дорогу и, повернув на север, перевалили Тянь-Шань и вышли в Джунгарию, где нас встретили снег и непогода. Как ни низок в этом месте Тянь-Шань, все же он составляет заметную климатическую границу между Бэй-лу и Нань-лу, почему именно здесь всего уместнее сказать несколько слов о климатических особенностях оставшеейся у нас теперь позади Гобийской пустыни.
Период наблюдений обнимает 43 дня, с 26 августа по 7 октября, в течение коих нами пройдено было 885 км, в том числе: в пределах Бэй-шаня – 288 км (12 дней), по дороге вдоль северного склона Нань-шаня – 237 км (17 дней) и по южной тянь-шанской дороге – 360 км (14 дней).
Абсолютная высота местности на этом пути колебалась между 716 м (селение Токучи) и 2261 м (перевал Ши-фын-ша-хо-цзы в Бэй-шане), оставаясь на значительном протяжении в пределах между 1220 и 1830 м, что имеет тем большее значение, что мы находились почти в беспрерывном передвижении, дневали редко и на несколько дней останавливались только в двух пунктах: в Су-чжоу на девять и в г. Хами на три дня. Таким образом наши наблюдения приходятся на местность с средней абсолютной высотой в 1525 м.
Из общего числа дней наблюдения безоблачных оказалось 5, иных, т. е. таких, когда небо было подернуто перистыми (chruus), перисто-кучевыми (cirro-cumulus) и перисто-слоистыми (cirro-tatiis) облаками в течение полных суток – 18, облачных, т. е. тех, когда небосклон был частью покрыт слоистыми (alto-stratus) и кучевыми (alto-cumulus) облаками в течение всего дня – 3, и, наконец, пасмурных, когда небо было сплошь или большею частью затянуто дождевыми (nimbus) или слоистыми (stratocumulus) облаками – 3, в остальные же 14 дней наблюдалось переменное состояние неба: в двух случаях небосклон был наполовину безоблачным, наполовину ясным, в трех наполовину ясным, наполовину облачным, в следующих трех слоисто-кучевые облака заволакивали на значительные промежутки времени весь небосклон и в пяти случаях формы облаков в течение суток отличались чрезвычайным непостоянством; именно один из таких дней (23 сентября) ознаменовался ливнем и градом. Из этих данных усматривается, что ясное состояние небосклона в осеннее время является преобладающей особенностью климата Гобийской пустыни и прилегающих к ней местностей.
Дождь перепадал три раза, однажды же шел в течение более продолжительного времени, напоминая осенний дождь средней полосы России; затем, 23 сентября, как сказано выше, ливень сопровождался градом, причем в то время, как тучи шли с северо-запада, низовой ветер дул с северо-востока. В двух случаях дождю предшествовал сильный порывистый ветер с запада, несший тучи песку; в третьем случае ветер дул с северо-запада. Росы я вовсе не наблюдал, но иней – неоднократно.
Ветреных дней оказалось 18, что составит несколько менее 40 процентов общего числа дней наблюдения. Сильный ветер зарегистрирован пять раз; в двух случаях он шел с запада, в двух с северо-запада и в одном с севера. Особой правильности в возникновении этих ветров не наблюдалось; они не отличались также и большой продолжительностью – замечание, которое должно быть в равной мере отнесено и к более слабым ветрам. Вообще частое затишье в воздухе – такая же характерная черта осеннего центрально-азиатского климата, как и ясность погоды. В зависимости от этого и пыльных туманов наблюдать нам вовсе не приходилось[269], зато прозрачность воздуха иной раз была настолько велика, что позволяла видеть особенности рельефа струны на десятки километров во все стороны.
Что касается преобладающего направления ветров, то оно осталось невыясненным; все же, как видно из нижеприводимых данных, численный перевес остался за ветрами, дувшими с западной стороны горизонта. Анализируя вышеприведенные данные, невольно поражаешься значительным преобладанием затишья даже в таких местностях, которые непосредственно прилегают к знаменитой своими ветрами Фан-гоби; так, в Хами мы еще чувствовали слабый северо-восточный ветер, но при дальнейшем движении нашем на запад в воздухе стояла необычайная тишина; даже бризов, столь, казалось бы, естественных в местности между Тяньшанским хребтом и Шона-норской котловиной, не ощущалось. Предоставляя объяснение этого факта лицам, более меня сведущим в метеорологии, я все же считаю нелишним указать на то обстоятельство, что декабрьские наблюдения Роборовского[270] в помянутой пустыне также свидетельствуют о значительном преобладании затишья над ветреной погодой.
Впервые в рассматриваемый период термометр опустился ниже 0° (до ?2°) в 4 часа утра 14 сентября, в местности Лу-чжа-дунь (6660 футов, или 2030 м), при пасмурном небе и юго-западном ветре, дувшем порывами; в дальнейшем же, пока мы не вышли из Бэйшаньских гор, утренники были явлением постоянным, причем перед восходом солнца мороз достигал обыкновенно 4–6°, и только в двух случаях термометр опускался ниже, до 9,5° и 11° (в 4 часа утра 20 сентября, в урочище Чжи-чжэ-гу, при ясном небе и умеренной силы северном ветре); обе эти цифры для сентября явились предельными. В селении Mop-гол мы отметили последний мороз (в 4 часа утра ?3°), а затем термометр стоял на 0° три раза:
3 октября в селении То-пу-ли – с 3 ч. ночи до 5 ч. утра,
6 октября на станции Ляо-дунь – с 5 ч. до 6 ч. утра,
7 октября на станции И-вань-Цюань-цзы – с 3 ч. ночи до 5 ч. утра
Всего же дней, когда термометр стоял на нуле и ниже, в сентябре было одиннадцать, в октябре же из семи – три.
Максимум температуры (28°) выпал на 8 сентября в 12 часов дня (колодезь Сы-дунь) и 11 сентября в 1 час пополудни (долина р. Су-лай-хэ). В последних числах августа ртуть не опускалась ниже 5°, но и не подымалась выше 26°, причем суточная амплитуда колебалась между 21 и 10°; сентябрьская амплитуда превзошла августовскую на 3°, выразившись цифрой 39° (максимум температуры 28°, минимум – 11°), предельные же суточные амплитуды в том же месяце равнялись: 9° (г. Су-чжоу) и 27° (река Су-лай-хэ); в первых числах октября суточные амплитуды были весьма невелики, не превосходя 16,5°. Самая теплая ночь в октябре пришлась на 2 число, когда ртуть опустилась всего лишь до 5,5° (в 5 часов утра).
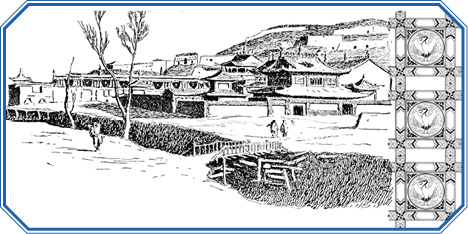
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ Но вернемся к рассказу о моей жизни и о том, какое влияние оказала на меня в прошлом Белая Логика Ячменного Зерна.На прелестной ферме в Лунной Долине, отравленный длительным пьянством, я одержим мировой скорбью — горьким наследием смертных. Тщетно
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Магомет посылает своих военачальников в дальние экспедиции. Назначает своих наместников для управления Счастливой Аравией. Отправляет Али подавить восстание в этой области. Смерть Ибрагима, единственного сына пророка. Его поведение у постели
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Понадобилась русская история. Дело Тухачевского. Дело Сырцова. «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»Проблема «плохого народа» предполагала несколько решений.Сегодня нелегко представить генеральную линию государственной культурной политики того
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Мухаммед посылает военачальников в дальние экспедиции и отправляет Али на подавление восстания в Счастливой Аравии. Смерть Ибрагима, единственного сына пророка. Мухаммед у постели умирающего и на его могиле. Недуги Мухаммеда усиливаются. Его
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая К утру на меня напала такая тоска, что уже в пять часов я ходила вдоль забора по безрадостному новому участку. Строительный мусор, глухие заборы, ямы и рытвины. Остатки какой-то каменной кладки… И тут — жить?! Я понимала, что и тут выживем, и цветы
Глава тридцать шестая Разрыв
Глава тридцать шестая Разрыв В Москве съемки продолжились. Наметили первую сцену: выход главной героини со стадиона. Пугачева появилась на съемочной площадке в каком-то мужском полувоенном пальто (где она его только взяла?), а на голову нацепила маленькую шляпку. И этот
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая 1 Лихачев попросил Тарасова вызвать Демьянюка в райком партии и поговорить с ним.— Мы его изуродуем, — говорил Лихачев. — А тут надо совсем особо подойти. Я очень уж погорячился. Ты, наверное, знаешь, что он из крестьян. Я всю его семью знаю. И отец у
Глава шестая ДОРОГОЙ ПОЛКОВОДЕЦ
Глава шестая ДОРОГОЙ ПОЛКОВОДЕЦ Ночь на 25 июня 1950 года Ким Ир Сен провел в своем кабинете, не сомкнув глаз. Внешне он держался спокойно, но нервы его были натянуты как струна. Напряжение последних месяцев достигло своего апогея. Сидя за столом, он вновь и вновь рисовал на
Глава шестая ДОРОГОЙ ПОЛКОВОДЕЦ
Глава шестая ДОРОГОЙ ПОЛКОВОДЕЦ 1 Торкунов А. В., Денисов В. И., Ли Вл. Ф. Корейский полуостров… С.125.2 Стьюк У. Корейская война. М., 2002. С. 61.3 Окороков А. Сверхсекретные войны Советского Союза. М., 2010. С. 487.4 Попов И. М., Лавренов С. Я., Богданов В. Н. Корея в огне войны. С. 73.5 Асмолов К. О
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Убийство Распутина оправдывалось, главным образом, решимостью устранить опасность сепаратного мира. Но и после этого убийства, все осталось по старому. Власть не обновлялась, и те же опасения эксплуатировались по-прежнему. Особенно усиленно ими
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Последние дни съезда я почти не покидала кадетского корпуса.Приходилось много писать, сверять стенограммы, составлять архивы. Домой я возвращалась разбитая, бледная и сейчас же ложилась спать. Утром с трудом поднималась. Мама встревожилась:— Ты
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Для Золя это было второе путешествие в Англию. В конце сентября 1893 года он был приглашен на конгресс прессы как представитель и глава Общества французских литераторов. Его сопровождала Александрина. Английские романисты и переводчик произведений
Глава тридцать шестая АРЕСТ
Глава тридцать шестая АРЕСТ Однако беду на Глинских навел, накликал не Венечка Лестовский, и Василий Михеевич напрасно радовался, ликовал, оторвавшись от слежки. Удар обрушился с другой стороны, и обрушился он на Леонида Федоровича, — вернее, Леонид Федорович сам
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ Партизанский отряд Тимофеева продолжал успешно проводить свои операции против фашистов. То там, то тут в разных местах района появлялась на снегу одна и та же надпись: «За Сашу Чекалина».А рядом лежали покореженные, подорвавшиеся на минах
Глава тридцать шестая
Глава тридцать шестая Личная жизнь. — Собрался в Марокко. — В Югославии. — Самоубийство Екатерины Григорьевны. — Новое поколение белогвардейской молодежи. — Вторая мировая война и русское зарубежье Мировой экономический кризис 1929 года добрался до шульгинского