Второй раз к озеру Альберта
Второй раз к озеру Альберта
В полдень 2 апреля 1888 г., после мелкого дождя, моросившего все утро, мы опять выступили в поход с целью в другой раз попытаться найти пашу и проникнуть в окружавшую его тайну. С нами был теперь наш стальной вельбот, разобранный на двадцать частей, а так как кормовая и носовая части были довольно обширны, то мы вскоре убедились, что придется вырубать на пути много кустов и деревьев, чтобы протащить их лесом. Сам караван со всеми вьюками, тюками и прочим багажом не встречал никаких затруднений, и те части бота, которые были не шире 60 см, тоже проходили легко, но закругленные стороны кормы и носа вязли между рядами колоссальных деревьев, так что приходилось возвращаться назад, обходить кустами и затем все-таки прорубать проход. Вскоре стало очевидно, что второй поход к Ньянце через лес задержит нас на несколько дней лишних.
Авангард, внимательно осматривая тропинку и до тонкости изучив все предательские уловки пигмеев и других аборигенов, вытащил из земли немалое количество разных палок и кольев, искусно воткнутых среди пути. В некоторых местах они были натыканы между листьев фринии или у лежащего бревна, через которое неопытный путник мог перешагнуть, как через низкую преграду, и прямо попасть ногой на заостренный зубец, обильно пропитанный ядом. Но мы теперь были уже очень опытны в таких лесных хитростях, а туземные «мудрецы», по-видимому, были настолько туги на выдумки, что ничего не могли изобрести нового для нашей погибели.
Следующий наш ночлег был в пигмейской деревне у переправы через реку, а 4 апреля мы пришли в Индемуани. На другой день пришли в другое селение пигмеев, и тут в банановой роще, куда Саат-Тато с несколькими товарищами отправились за плодами, им удалось захватить в плен несколько карликов – четырех женщин и одного мальчика, принадлежавших двум совершенно различным типам. Один тип был так называемый акка, с маленькими, хитрыми обезьяньими глазками, глубоко и близко друг к другу посаженными; другие четверо были иного типа, с большими, открытыми глазами навыкате, с широкими выпуклыми лбами и круглыми лицами, с маленькими руками и ногами, с челюстями, слегка выдающимися.
Они красиво сложены, очень миниатюрны, и цвет кожи их скорее всего можно назвать кирпичным. Выражения: недожаренный кофе, шоколад, какао, кофе со сливками – все не вполне точно обозначают этот оттенок, но, по-моему, всего ближе к цвету этих крошечных существ подходит обыкновенный, не совсем высушенный, глиняный кирпич. Саат-Тато донес мне, что их было человек двадцать и все они занимались тем, что воровали бананы у жителей селения Индепуйя, которые, вероятно, оттого не защищали своего имущества, что услышали о нашем приближении и по обыкновению разбежались.
У женщины обезьяньего типа были замечательно лукавые и недобрые глаза, выпяченные губы, нависшие над подбородком, большой живот, узкая и плоская грудь, очень покатые плечи, длинные руки, ноги, сильно вывернутые внутрь, и вдобавок ноги ниже колена очень короткие – словом, эта женщина представляла собою давно искомый переход от среднего типа современного человека к его предкам по теории Дарвина и во всяком случае должна быть причислена к самому низкому, бестиальному типу человека.
Одна из пленных женщин, очевидно, имела ребенка, хотя ей едва ли могло быть больше шестнадцати лет. Она была сложена безукоризненно, цвет ее кожи был свежий, здоровый, глаза блестящие, большие, открытые; верхняя губа того особого очертания, которое я замечал у племени вамбутти, у карлицы в ставке Угарруэ и у жены вождя в Индекару: верхний край острым углом загнут кверху и отогнут обратно вниз, как будто губа посередине надрезана, отворочена, и кожа ее немножко на этом месте стянута. Мне кажется, что это такая же особенность вамбутти, как выпяченная нижняя губа считается особенностью австрийского императорского дома. Цвет губ у этой женщины довольно румяный. Руки крошечные, пальцы тонкие и длинные, но кожа на них жестка и морщиниста; длина ступни около 17 см, а весь рост 132 см.
Все размеры и телосложение этой малютки-матери были так пропорциональны и правильны, что сначала она показалась мне просто женщиной очень маленького роста, не доросшей благодаря слишком ранним половым сношениям или иной случайности, но когда мы поставили рядом с нею наших занзибарских мальчиков пятнадцати и шестнадцати лет, а потом еще взрослую женщину из местного земледельческого племени, то для всех стало ясно, что эти маленькие создания принадлежат к совсем другой породе[26].
За три часа мы дошли от обширного селения Мбутти до Барья-Кунья; всю дорогу шел проливной дождь.
8-го числа мы дошли до Индепессу, а два дня спустя были уже у подножия горы Пизга, которую обогнули с восточной стороны, через небольшие деревеньки Мандэ, по новой дороге из Итури. Все жители из Мандэ и с горы Пизга со всем своим скарбом бежали за реку, и там, на левом берегу, мужчины, очевидно, считая себя в полной безопасности от нас, встали, выжидая, что будет дальше. Когда мы вышли на правый берег реки, меня поразил светло-коричневый цвет этой массы воинов, рисовавшихся на темно-зеленом фоне лесной растительности. Будь они такого цвета, как наши занзибарцы, масса казалась бы почти черною; воины же были как раз под цвет желтоватой глине приречных обрывов. Они пустили в нас несколько стрел через реку, которая в этом месте была около 150 м ширины; одни стрелы не долетели до нашего берега, другие упали в нескольких шагах от нас. Мы ответили им также выстрелами, и тогда они поспешно убрались восвояси.
Через полтора часа вся экспедиция переправилась через реку на вельботе. Авангард поднял на берегу пакет соли килограммов в пять, очевидно, оброненный одним из туземцев во время их поспешного бегства. Мы крайне нуждались в поваренной соли, потому очень обрадовались находке.
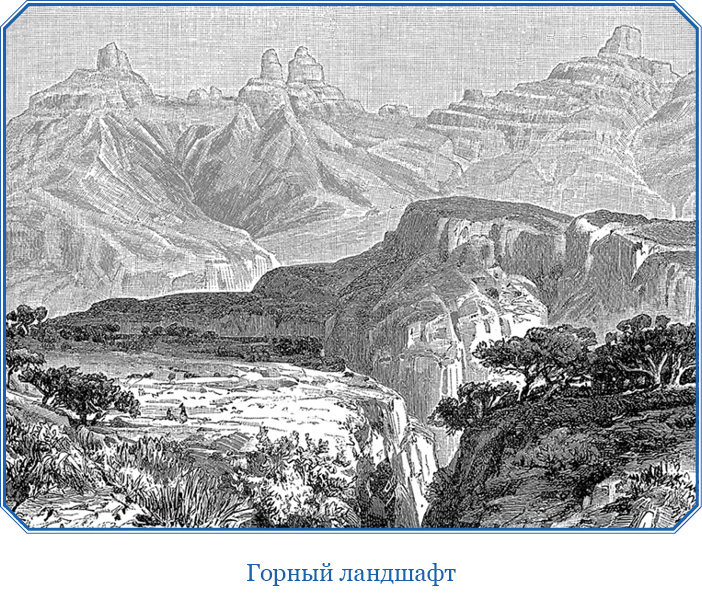
Мы находились теперь во владениях племени вакуба, близ расчистки Кандекорэ; эти владения считались одними из богатейших в бассейне Верхнего Конго. На берегу реки мы были на 900 м выше уровня моря.
Через три с половиною часа ходьбы мы вышли из лесу и снова испытали живейшее чувство радости при переходе из вечного сумрака лесов к яркому солнцу в синем небе. Надо было видеть, какое впечатление произвела эта картина на нашего кроткого друга и товарища, первого из ирландцев, которому довелось ступить на степную траву этих стран! Уже 289 дней доктор Пэрк безвыходно жил в дремучем лесу, и этот внезапный переход из печальной тени в широкое луговое пространство, поросшее зеленою травой с раскинувшимся над ним прозрачным сводом ясных небес так на него подействовал, что он весь вспыхнул и задрожал от восхищения. Несколько бутылок шампанского едва ли могли бы окрасить его щеки более ярким румянцем, нежели тот чудный вид, который перед ним открылся.
Перед самым выходом из леса мы проходили мимо воткнутого в землю копья; оно было того фасона, которым туземцы бьют слонов, и до того глубоко вонзилось в почву, что трое людей не могли его вытащить. Из этого можно было заключить, что если бы оно попало в слона, то убило бы его на месте.
После полудня, срисовывая гору Пизга с нашего первого привала в луговой стране, я заметил, что с северо-востока к ней приближается облако, набросившее густую тень на леса, между тем как волнистые луга все еще были залиты горячим солнечным светом. Потом с юго-востока, из-за южной оконечности хребта Мазамбони, показалось другое облако: оно распространилось по небу, слилось с тем, что стояло над лесом, и пошел дождь.

Через семь часов пути от Итури, на высоте 960 м над уровнем моря, стоит селение Бессэ. Хотя не было еще и полудня, мы остановились тут лагерем, потому что спелые бананы, кукуруза, куры, сахарный тростник и банановое вино показались нам очень заманчивыми, а далеко ли отсюда к востоку до следующего селения, нам было неизвестно. Пока мы устраивались на ночлег, у нас завязалась с туземцами оживленная перестрелка. Наш единственный переводчик в этих местах, Феттэ, получил повыше желудка серьезную рану. Племя бабусессэ, пользуясь прикрытием высокой травы, пыталось разными способами надоедать нам, но мы разместили искусных стрелков на деревьях, по местному обычаю, и дикари, убедившись, что все их хитрые подходы заранее нам известны, вскоре потеряли охоту тягаться с нами.
Один из наших, уроженец Уганды, разговорился с туземцем, который сказал ему между прочим:
– Мы знаем, что вы-то, чернокожие, такие же люди, как и мы; но что у вас за белые начальники? Откуда они взялись?
– О, – отвечал угандец, в мгновение ока придумав, что соврать, – у них лица меняются с нарождением каждого новолуния; когда месяц полный, тогда и у них лица черные, как у нас. Но они все-таки другой породы и первоначально пришли с неба.
– Да, правда, должно быть, так и есть! – сказал удивленный туземец и поспешил закрыть рот рукой из вежливости, чтобы не показать нам, как он его разинул от удивления.
Чем больше вникаешь в говор туземцев, тем больше вероятным кажется мне, что все их наречия произошли от одного общего корня.
Откуда у них берется понятие об остроумии? Я сам слышал, как один из них ответил занзибарцу, которого он нечаянно толкнул; занзибарец прикрикнул на него, нетерпеливо говоря:
– Такого дурака, как ты, еще нигде не видано.
А туземец с любезной улыбкой ответил ему:
– Известно, что ты, господин, – единственный обладатель всей мудрости.
– Э, да ты еще и сама злоба, – продолжал занзибарец.
– И с этим не могу спорить, – возразил тот, – ибо в тебе вся доброта.
Между белокожими в некоторых слоях общества тоже существует такое обыкновение, что когда один порицает другого, обвиняемый величает своего обвинителя джентльменом; но надо сознаться, что и мой африканец ничуть не отстает от них в вежливости.
К востоку от Бессэ мы потеряли местную дорогу и должны были идти целиком по полям к вершине Ундуссумы, которая начала показываться из-за волнистой поверхности зеленой равнины. Солнце пекло немилосердно, и мы, идя преимущественно в высокой траве, страшно утомились. После полудня пришли в лощину, заросшую деревьями, между которыми протекал прозрачный, прохладный ручей, истоки которого находились где-нибудь у подножия хребта Ундуссумы, отстоявшего отсюда не больше десятка километров.
14 апреля, пройдя шесть часов, мы остановились на склоне холма Нзера-Кум, и перед нами расстилалась та самая долина, где 10 и 11 декабря мы сражались с Мазамбони и подвластными ему племенами. До сих пор мы шли этими местами при условиях, вовсе не похожих на прежние: не видать было воинственной возни, не слышно угроз и вражеских криков, но так как мы намеревались отдохнуть здесь один день, необходимо было узнать сперва, чего нам ожидать. Поэтому мы послали своего переводчика переговорить с туземцами, которые, сидя на вершинах холмов, издали смотрели на нас.
После многих колебаний и сомнений в пять часов пополудни они согласились, наконец, сойти в долину и приблизиться к нам, а потом вошли и в лагерь. Тут уж легко было войти в дружеские сношения: можно было взглянуть друг другу в лицо и прочесть, как по написанному, какого мы мнения друг о друге. Мы обменялись приветствиями, и они узнали, что мы желаем лишь беспрепятственного пропуска к озеру, что пришли мы не как враги, а как чужестранцы, которые намерены переночевать на их земле и завтра же пуститься в дальнейший путь. Они, с своей стороны, объяснили свое прежнее поведение тем, что их уверили, будто мы уара-сура, которые от времени до времени приходят в их страну, повсюду грабят и угоняют рогатый скот.
Когда таким образом с обеих сторон установилось убеждение, что между нами возможны дружелюбные отношения и что прошедшие недоразумения не будут иметь влияния на будущее, мы объяснили им цель наших странствований; они узнали, что мы разыскиваем некоего белокожего военачальника, давно поселившегося где-то тут, поблизости от озера, которое находится в Униоро. Не слыхали ли они о таком белом человеке?
На это они поспешили заявить, что через два месяца после того, как мы проходили здесь на обратном пути с Ньянцы, белый человек, называемый Малиджу, т. е. «Бородатый», приплыл в большущем челноке, сделанном из железа, и был у старшины Катонзы.
– Матушка! – продолжал дикарь, – и как только мог он плавать! Среди челнока возвышалось большое черное дерево, из которого шел дым и огненные искры, а на челноке было много разного странного народа и козы бегали взад и вперед, точно вот по двору в деревне, а куры сидели в ящиках за решетками, и мы сами слышали, как петухи поют, словно у нас в просяном поле. Малиджу спрашивал – таким низким, басистым голосом, про тебя, своего брата. Что ему говорил Катонза – того мы не знаем, только Малиджу уехал обратно на своем большом железном челноке, и вслед за ним повалил такой дым, как будто челнок загорелся. Вы его, наверное, скоро найдете. Мазамбони пошлет своих гонцов к озеру, и завтра на закате солнца Катонза узнает о прибытии брата Малиджу.
Следующий день лично для меня был очень утомителен. Со всеми разговорами публика обращалась исключительно ко мне, а я от утреннего рассвета до ночи просидел в кресле, окруженный земледельцами из Бавари, пастухами вахума, разными старшинами, князьями, поселянами, воинами и женщинами. Здравая политика требовала, чтобы я не уходил из тесного круга, сплотившегося вокруг меня из всех элементов, составляющих ундуссумскую олигархию и демократию.
Все кушанья и напитки подавались мне в тот день не иначе, как через головы местной знати и народа, стоявших по крайней мере в пять рядов. Мое кресло стояло на середине круга, трое людей, державших надо мной зонтик, поочередно сменялись. Солнце свершило свой путь от востока к западу: в полдневные часы оно жгло меня со всем усердием, известным в области тропических степей, с трех часов до пяти оно палило мне спину, потом стало посвежее, но пока не наступили сумерки, обыкновенно сопровождающиеся здесь сильным понижением температуры, толпа не расходилась, и я все время отдавал себя в жертву идее общечеловеческого братства.
На другой день очень рано утром Мазамбони появился перед нашей зерибой в сопровождении значительной свиты. Его проводили до середины лагеря со всеми знаками почтения к столь высокому гостю: офицеры отвешивали ему грациозные поклоны, а занзибарцы и суданцы, в декабре гонявшие его вместе с его войском с горы на гору, имели такой смирный и невинный вид, «как будто сроду не отведывали мяса» и умели только приветливо улыбаться. Мы разостлали свои лучшие циновки под тенью чахлого деревца, чтобы знатному гостю спокойнее было сидеть, и велели трубить в костяные рожки, издававшие самые мягкие звуки, что напомнило мне торжественные приемы при императорском дворе повелителя Уганды, Усоги и островов озера Виктории. Мы не позабыли ничего, что, по моему долголетнему опыту сношений со множеством вождей Африки, могло озарить это смуглое лицо улыбкою удовольствия (доставить ему веселую минуту) и внушить полнейшее к нам доверие.

Мазамбони принимал наши любезности как нечто, принадлежавшее ему по праву, дарованному свыше, но ни словом, ни улыбкой не одарил нас. Можно было подумать, что он глух и нем; но нет, он кратко и тихо произносил что-то, обращаясь к старшинам второго разряда, и эти второстепенные светила начинали орать во все горло, как будто я не мог ничего расслышать, что производило на меня впечатление ударов обухом по голове.
– Друзья мои, – сказал я им, – если вы будете так кричать, у меня голова развалится. К тому же, как вам известно, слова мудрости драгоценны. К чему разоблачать перед простым народом государственные дела?
– Это правда! – молвил один из мудрецов с такой седой бородой, какая, должно быть, была у древнего Нестора, «отца общины». Он понизил голос и пространно начал рассказывать историю своей родины, описал, какой эффект произвело появление в декабре нашей колонны, как они наскоро собирались для совещаний, какие решения приняли и как, узнав, что в числе чужеземцев есть белокожие, им тотчас пришло в голову, не напрасно ли они начали воевать. Но молодые воины настояли на своем и пересилили старшин своего племени. Далее он рассказал, что когда они увидели нас идущими с Ньянцы обратно к лесу, они догадались, что мы совсем не уара-сура, которые ни за что так скоро не ушли бы от своего озера, а переправились бы через Семлики на свою сторону; а когда услыхали, что нас ищет Малиджу, белый начальник железного челнока, они окончательно убедились в своей ошибке.
– Но это не беда, – прибавили они, – чужестранцы, наверное, скоро опять пойдут из кивиры (из леса), и мы тогда помиримся с ними. Коли они захотят с нами дружиться, пусть так и будет, пусть кровь Мазамбони смешается с кровью их начальника – тогда мы будем как один народ. И вот вы пришли, и мечты наших мудрых людей стали правдой. Мазамбони по-братски сидит рядом с белым начальником. Пусть теперь мы увидим обмен крови, и тогда, покуда вы будете в нашей стране, ни одно облако не омрачит нашей дружбы. Все, что есть у Мазамбони, – ваше, его воины, жены, дети, земля и все, что на земле стоит, – все ваше. Так ли я говорю, воины?
– Так, правду ты сказал, – послышался кругом одобрительный шепот.
– Станет ли Мазамбони сыном Була-Матари[27]?
– Станет.
– Будет ли настоящий мир между нами и чужестранцами?
– Да! – раздался радостный крик всей толпы. Тогда мой новый «сын» и мистер Джефсон, вызвавшийся пожертвовать собою в интересах мира, крестообразно положили правые руки на свои, тоже скрещенные, колени, и туземный хирург сделал легкий надрез на руке Джефсона. С нашей стороны выступил другой профессор таинственной магии и порезал руку Мазамбони. Покуда темная кровь местного владыки и алая кровь Джефсона лилась и капала на их колени, мудрец с седой бородой начал произносить заклинания, держа в руке пустую тыкву, в которой были насыпаны камешки; он потрясал этой магической посудиной то в сторону противолежащего пика, то по направлению к подковообразным горам, видневшимся в глубине равнины, то к востоку и западу от долины, и с высоты Нзера-Кума выкрикивал ужасные проклятия, которым все окружающие внимали с открытыми ртами.
– Да будет проклят тот, кто нарушит данную клятву!
– Да будет проклят тот, кто питает затаенную вражду!
– Да будет проклят тот, кто повернется спиной к своему другу!
– Да будет проклят тот, кто в день борьбы отступится от своего брата!
– Да будет проклят тот, кто нанесет вред другу, кровь которого стала его кровью!
– Пусть чесотка обезобразит его и сделает для всех ненавистным, и пусть лишаи истребят на его голове все волосы; пусть змея притаится на его тропинке и лев встретится на его пути; пусть леопард ночью приблизится к его жилищу и схватит его жену, когда она пойдет на речку за водой; пусть зубчатая стрела вонзится в его внутренности и острое копье омоется в его крови; пусть болезни подтачивают его силы и дни его сократятся недугом; пусть его члены откажутся служить ему в час битвы и руки его сведет судорогой… – и так далее, призывая на голову виновного все самые страшные бедствия и недуги.
Наш занзибарский профессор таинственной магии, вначале несколько ошеломленный красноречием престарелого Нестора, схватил его магическую тыкву и принялся потрясать ею на холмы, на долины и на голову Мазамбони с самым торжественным и важным видом, потом на самого Нестора и на притихшую кругом свиту и, наконец-таки, перещеголял Нестора, оставив его далеко за собою по выразительности голоса и жестов.
Мало-помалу он так вдохновился своим усердием, что начал вращать зрачками и на губах у него показалась пена; он стал в свою очередь произносить проклятия, призывая всяческие бедствия на землю и ее плоды, всех злых духов своей мифологии на голову Мазамбони, приглашая их в случае нарушения им клятвы мучить его денно и нощно; наконец, его движения сделались так фантастичны, его ругательства так грубы, а физиономия так похожа на бесноватого, что все до единого, и туземцы и занзибарцы, разразились неудержимым хохотом. Тогда Мурабо (наш оператор) в одну минуту утих совершенно и, самодовольно тряхнув головой, сказал по-суахильски, обращаясь ко мне:
– Ну что, господин, как тебе понравилось мое представление?
– Это напомнило мне Гамлета, насмехающегося над Лаэртом.
Хотя Мазамбони – общепризнанный верховный вождь Ундуссумы, но управляет он как будто с помощью неписанной конституции. Его министры – все до одного его же близкие родственники – занимаются внешней и внутренней политикой в его присутствии, но собственный голос его раздавался редко. Большую часть времени он сидел безмолвно, неподвижно, можно бы даже подумать, что безучастно. Итак, этот бесхитростный африканский владыка своим умом дошел (а может быть, это и наследственный обычай) до понятия, что дела правления следует разделять между несколькими лицами. Если это понятие основано на обычном праве, то это доказывает, что от озера Альберта-Ньянца до Атлантического океана все тысячи племен бассейна Конго произошли от одного общего корня, народа или семейства. Сходство их обычаев, физиономий и общность корня языков служат тому еще лучшим подтверждением[28].
Мы обнаружили, что вожди, так же, как и рядовая масса, отчаянные попрошайки: они настолько корыстны, что совершенно неспособны оценить великодушный поступок. Все они очень желали мирных сношений с нами, однако этот мир, кажется, затем только и был заключен, чтобы побольше содрать подарков с чужеземцев. После целого дня всяких угощений и любезностей Мазамбони, взамен красивого ковра ценою в 10 фунтов стерлингов, пучка медной проволоки и костяных рогов, добытых в лесу, дал нам одного теленка и пять коз. Вождь Урумангуа и Буэссы, т. е. тех самых многолюдных селений, которые еще в декабре поразили нас своим цветущим состоянием, тоже считал себя крайне щедрым, одарив нас одним козленком и двумя курицами.
В числе сегодняшних наших гостей были также вождь восточных бавира, который объявлял нам с вершины холма, когда мы возвращались с озера, что вся земля у наших ног, вождь вахума, без зазрения совести надевший на себя тот кусок красного сукна, который мы послали ему в декабре в знак мира. Он так и позабыл прислать нам обещанный «ответный дар».
В этой стране живут в мире и согласии две совершенно различные расы, из которых одна, несомненно, индо-африканского происхождения[29], отличается чрезвычайно тонкими чертами лица, орлиным носом, тонкой шеей, маленькой головой и горделивой осанкой. Эта очень старинная раса обладает великолепными традициями и управляется древними обычаями, не терпящими ни малейших уклонений. Цвет кожи у большинства желтовато-коричневый, у иных даже темно-бурый; наиболее чистые их представители цветом кожи напоминают слегка пожелтевшую слоновую кость, а на ощупь кожа очень нежна и шелковиста.
Эта раса исключительно занимается скотоводством и проникнута надменным пренебрежением к земледельцам, следовательно, к населению Бавиры, которое так же исключительно занимается полеводством. Ни один английский герцог не мог бы с большим презрением отнестись к простолюдину, чем вахума относятся к бавирам. Они согласны жить в стране бавиров, но не в их деревнях, охотно выменивают продукты своего хозяйства на зерно и плоды соседей, но ни за что не позволяют своим дочерям выходить замуж за кого-либо, исключая чистокровного вахума. Их сыновья могут иметь детей от бавирских женщин, но далее не простирается их уступчивость. В этом обстоятельстве, конечно, и кроется причина того различия физиономий и разнообразия типов, которые я замечал прежде.
Один бавирский старшина в следующих выражениях жаловался мне на надменное отношение вахума к бавирам: «Они называют нас землекопами и насмехаются над постоянством и последовательностью, с которыми мы, взрывая темную почву, всю жизнь проводим в честном труде. Они целый век переходят с места на место, добывают съестные припасы на стороне и не знают, что такое свой дом и любимый семейный очаг. Они останавливаются там, где им полюбится пасти свой скот, а когда тут не понравится, идут в другое место».
Но об этом предмете я буду говорить в отдельной главе и потому возвращаюсь к рассказу. Мазамбони дал мне двенадцать проводников, и 16 октября, в сопровождении пятидесяти воинов бавира, множества новых друзей и сотни с лишком носильщиков, я выступил в округ Гавиры, по направлению к той самой деревне на вершине обнаженного холма, где мы отдыхали после утомительного и тревожного дня 12 декабря. Теперь мы шли мирно и дружелюбно, и даже процессия наша имела несколько триумфальный характер: как только мы вступали в какую-нибудь деревню, тотчас все воины выходили навстречу и дружелюбно приветствовали нас, а в Макукуру – известном уже нам селении – женщины провожали нас припевом «лю-лю-лю!» Из этого селения в округе Узанза открывается обширнейший вид на всю страну: к востоку до конца плато, обрывающегося над самой котловиной Альберта, к западу от горы Пизга, к северу за шесть дней пути – до вершины Бемберри, к югу – в расстоянии одного километра – подымалась холмистая гряда Балегга.
Титул вождя племени – бавира-гавира, а его собственное имя – Мпинга. Он маленького роста, довольно приятен в обращении и, когда не занимался государственными вопросами, отличался словоохотливостью. Мпинга и его племя желали заключить с нами дружеский союз вроде того, какой был заключен с Мазамбони; мы, конечно, с охотой согласились на это, с условием, чтобы во время нашего прохождения по их владениям они оказывали экспедиции всяческое гостеприимство.
Так как мы посвятили целый день Мазамбони, то следовало и Мпинге уделить столько же времени; его резиденция была от Ньянцы в расстоянии двух небольших переходов или одного длинного, и мы охотно с этим согласились.
Вечером явились два туземных гонца от Мбиасси, из племени бабиасси, вождя округа Кавалли, простирающегося широкой полосой до самой Ньянцы. Гонцы поведали мне, что у их вождя находится в руках небольшой пакет в темной обложке, предназначенный мне; этот пакет дал ему старшина Мпигва из Ньямсасси, который сам получил его от белого человека, известного под именем Малиджу.
На другой день опять пришли сотни дружелюбных людей, которые, очевидно, не могли на нас насмотреться. Поэтому они спокойно садились на корточки и не сводили с нас глаз, следя за каждым нашим движением. Старшие посылали младших то за топливом, то за сладкими бататами, то приказывали им принести в лагерь проса. За самые ничтожные подачки они кидались прислуживать занзибарцам, помогали им строить походные шалаши, таскали воду, поддерживали костры, мололи просяную муку из зерен. Наши люди, очень довольные приобретением таких усердных приятелей, сидели сложа руки и поощряли их к выполнению всей черной работы любезными улыбками, легкими кивками или же дарили им какую-нибудь железную вещицу, несколько бус, одну или две медные монетки или нечто вроде браслета из медной проволоки. При каждом из наших состоял какой-нибудь преданный и искусный «брат», и этим «братьям» предоставлялось делать решительно все, за исключением кушанья, – до стряпни их не допустили.
После полудня гавиру нарядили в ярко-пунцовое сукно лучшего сорта, и старшины торжественно повели его вокруг всего лагеря, поочередно представляя ему каждый из своих отрядов и воздавая ему всяческие почести. Потом ему показали зеркало, которое привело его и всех его старшин в неописуемое изумление и даже страх. Они приняли отражение своих физиономий за вражеское племя, подымающееся из земли против них, и, отскакивая от зеркала, становились от него подальше, в выжидательной позе; однако, видя, что мы не трогаемся с места, и желая узнать, что же это было за видение – столько черных лиц сразу, – они на цыпочках подошли опять.
Зеркало уже было положено обратно в шкатулку, но, видя их вопросительные лица, я снова вынул зеркало, и они стали пристально смотреть в него, а через минуту перешептывались: «Что это, как они похожи на нас!» Тогда я сказал им, что это отражение их собственных чрезвычайно привлекательных черт, и Мпинга, очень польщенный моим комплиментом, вспыхнул темным румянцем. Видя, что он уже перестал бояться, я передал зеркало в его руки, и тогда любопытно было посмотреть, как быстро возрастало тщеславие этих людей: старшины стеснились вокруг него и, заглядывая в зеркало, с удовольствием замечали, как оно точно воспроизводит каждую особенность их физиономий.
Узанза – обнаженная высокая равнина, со всех сторон совершенно открытая и жестоко овеваемая ветрами, – долго будет нам памятна. Когда солнце село, с озера подул холодный ветер, пронизавший нас насквозь. Мы привыкли к ровной температуре густых лесов, и притом у нас осталось очень мало платья. Один из офицеров надел непромокаемый плащ, другой накинул пальто, но ветер все-таки продувал нас до костей. Только и возможно было согреться в уютных ульеобразных шалашах бавиров, куда мы и залезли без церемоний.
Вместо того чтобы идти нашей старой дорогой к озеру, мы направились на северо-восток, к селению Кавалли, где, по слухам, находился таинственный пакет. Бесчисленные стада скота, проходя по этим равнинам, обгрызли траву, которая была очень коротка, но так густа, что совсем не видно было земли, что делало луга похожими на ровные садовые лужайки, если бы не маленькие каньоны, прорытые дождями.

Пока мы шли по этой цветущей стране, встречая повсюду гостеприимство, привет и ласку от добродушных бавиров, мы думали о том, как все это не похоже на те декабрьские дни, когда мы подвигались среди кричавших, ревевших и бесновавшихся бавиров, бабиасси и балеггов, которые поднимали против нас всех соседей и советовали им истреблять нас. Мы вспоминали, как солнце играло то на острых копьях, то на длинных стрелах, летевших нам навстречу. А теперь впереди нашего авангарда шло 157 человек бавиров, да столько же за арьергардом, а все наши девяносто вьюков распределены между добровольными носильщиками, считавшими за большую честь тащить на себе багаж тех самых людей, которых они еще так недавно и безжалостно преследовали.
Когда наша многочисленная колонна подошла к колючей зерибе селения Кавалли, оттуда вскоре вышел старшина, красивый молодой вахума с правильными чертами лица, высокий, стройный, спокойный, величавый, и тотчас повел нас показать место, где мы можем устроить лагерь. Тем, кто пожелал искать убежище в деревне, он позволял селиться где угодно. Когда я спросил про пакет от Малиджу, он отдал его мне, говоря, что только двое молодых людей из всего племени знали о его существовании, и с беспокойством спрашивал, правильно ли он сделал, что так долго хранил это дело втайне?
Развязав обложку из американской клеенки, я вынул из нее следующее письмо:
«Любезный сэр, так как до меня дошли слухи, что около южной части озера появились белые люди, я прибыл сюда лично, чтобы собрать сведения. Я прошел до самой дальней оконечности озера, какая доступна пароходу, но понапрасну: местное население ужасно боится Каба-Реги, и старшинам приказано скрывать все, что бы они ни узнали.
Сегодня, однако же, приходил человек от вождя Мпигвы, из страны Ньямсасси, и рассказывал, что жена этого вождя видела вас на своей родине, в Ундуссуме, а сам вождь предлагает мне написать вам письмо, которое он берется вам доставить. Поэтому я посылаю вместе с гонцом одного из наших союзников, вождя Мого, к вождю Мпигве с просьбой послать Мого и это мое письмо, а также и другое – по-арабски – вам, или же Мого задержать, а письма все-таки послать вперед.
Будьте так любезны, если это письмо дойдет до вас, останьтесь там, где оно вас застанет, и известите меня письменно – или одному из ваших поручите написать – как для вас желательнее.
Я могу сам приехать к Мпигве, а мой пароход и лодки могли бы перевезти вас сюда. Как только придет от вас письмо или гонец, я тотчас выеду в Ньямсасси, и оттуда мы можем сговориться насчет дальнейших планов.
Остерегайтесь людей Каба-Реги! Он таки вытеснил капитана Казати.
Пользуюсь случаем, любезный сэр, уверить вас в своей глубочайшей преданности.
Доктор Эмин. Тунгуру (близ озера Альберта). 25 марта 1888 г. 8 часов вечера».
Это письмо было дословно переведено и прочитано нашим людям, которые совсем обезумели от восторга. Не менее их были довольны и жители Кавалли, хотя и не так шумно выражавшие свою радость; но они видели, что причиной нашего благополучия был тот самый пакет, который они так тщательно охраняли.
Многие вожди прислали нам даром съестных припасов, и я просил Мбиасси оповестить в ближайших округах, что я с благодарностью приму подарки от каждого племени или рода.
20 апреля я отрядил мистера Джефсона и доктора Пэрка с пятьюдесятью ружьями и двумя проводниками (уроженцами Кавалли) конвоировать наш стальной вельбот «Аванс» к озеру. Проводники сказали мне, что ставка Мсуа только в двух днях плавания вдоль западного берега. Я вручил Джефсону следующее письмо к Эмину-паше:
«18 апреля 1888 г.
Любезный сэр!
Ваше письмо передано мне третьего дня вождем Мбиасси в Кавалли (на плоскогорье), и всем нам оно доставило великое удовольствие.
Из Занзибара я послал вам через носильщиков, направлявшихся в Уганду, длинное письмо, в котором излагал цель моей миссии и мои намерения. На тот случай, если оно не дошло до вас, передам здесь вкратце его содержание. Я сообщал вам, во-первых, что, согласно инструкциям Лондонского комитета по оказанию помощи, я веду вам на помощь экспедицию. Половину фонда на это предприятие дало египетское правительство, а другая половина собрана по подписке вашими друзьями в Англии.
Я сообщал вам, что египетское правительство поручило мне вывезти вас из Африки, если вы пожелаете ее покинуть; в случае же, если не пожелаете, рекомендовало мне предоставить вам все принесенные для вас боевые припасы и сказать вам, что с того времени вы и ваши подчиненные можете не считать себя на службе у Египта, и выдача вам жалования с того дня прекращается. Если же вы согласны выехать из Африки, то жалование вам, офицерам и нижним чинам будет идти до тех пор, пока вы прибудете в Египет.
Далее я сообщал вам, что из бея вы произведены в паши.
Так как в Уганде население враждебно настроено, и по другим политическим соображениям – я направляюсь к вам через Конго и выбираю конечным пунктом своего путешествия Кавалли.
Полагаю, что это письмо не дошло до вас потому, что когда я пришел в Кавалли, местное население о вас не имело понятия, хотя отлично помнило Мэзона, побывавшего здесь десять лет назад.
Мы пришли сюда в первый раз 14 декабря прошлого года и по дороге выдержали несколько отчаянных нападений. Мы два дня пробыли на берегах озера близ Кавалли, стараясь от каждого попадавшегося нам туземца выведать, не знают ли они чего о вас, но везде нам отвечали отрицательно. Так как свою лодку мы покинули в лесу, за целый месяц пути отсюда, а челнока ни купить, ни силой достать не удалось, мы решились возвратиться назад, взять свой вельбот и принести его на Ньянцу. Все это мы проделали, а тем временем в пятнадцати днях пути отсюда построили себе маленькое укрепление, запрятали те тюки, которые не могли захватить с собою, и во второй раз пришли сюда с вельботом на помощь вам. На этот раз туземцы, даже и наиболее враждебные, встречали нас с распростертыми объятиями и толпами сопровождали нас по пути. В настоящее время вся страна от Ньямсасси до нашего форта замирена окончательно, и по ней можно ходить без опаски.
Ожидаю вашего решения в Ньямсасси. На равнинах близ Ньянцы трудно доставать провиант для наших людей, и потому надеюсь, что мне недолго придется ждать. На плоскогорье подальше от озера всяких съестных припасов вдоволь, но на низовьях, прилегающих к Ньянце, живут только рыбаки.
Если это письмо вы получите прежде, чем тронетесь с места, я бы советовал вам привезти на пароходе и в лодках достаточное количество провианта, чтобы прокормить всех нас до вашего отъезда, т. е. от 6 до 8 тонн зерна, проса или кукурузы и т. п., что нетрудно будет поместить на пароходе, если он вообще пригоден для подобной цели.
Если вы решились покинуть Африку, то всего лучше было бы теперь же взять с собою весь ваш скот и захватить всех туземцев, желающих за вами следовать. Нубар-паша выражал надежду, что вы приведете ваших маккарака всех до единого; он желает всех их принять к себе на службу.
Из имеющихся у меня к вам писем из военного министерства и от Нубара-паши вы увидите вполне, каковы намерения египетского правительства, и, быть может, вы лучше сделаете, если прочтете их, прежде чем окончательно примете какое-либо решение.
Я же упоминаю о видах правительства только для того, чтобы вы могли на досуге все это сообразить и обдумать, и потом уже решать.
Я слыхал, что у вас великое изобилие рогатого скота; мы были бы очень благодарны, если бы вы привезли на своих судах трех или четырех дойных коров.
При мне есть на ваше имя много писем, несколько книг и карт и один пакет на имя капитана Казати. Боюсь посылать вам все это на нашем вельботе, опасаясь, что вы, может быть, прослышали от туземцев о нашем вторичном прибытии, тронулись в путь и разминетесь с моими посланцами. Кроме того, я еще не уверен в том, что они найдут вас, а потому оставляю вашу корреспонденцию при себе и передам ее вам в собственные руки.
В ожидании вашего прибытия нам придется рыскать по всему краю за провизией, но будьте спокойны: мы сделаем все возможное, чтобы оставаться в Ньямсасси до тех пор, пока увидимся с вами.
Все находящиеся со мною присоединяются ко мне в пожеланиях вам всего лучшего и радуются, что вы здоровы и невредимы.
Прошу вас, любезный паша, принять уверение в моей совершенной преданности.
Генри М. Стенли, начальник экспедиции».
Пока мы оставались в Кавалли, несколько сот туземцев из соседних округов приходили навещать нас, а старшины и вожди их выражали мне свою преданность и готовность к услугам. Они говорили, что вся их страна принадлежит мне, и, чего бы я ни потребовал, они для меня тотчас все сделают. Судя по тому, как охотно они снабжали нас съестными припасами, не было причин сомневаться в их искренности, хотя, с другой стороны, не было случая достаточно наглядно убедиться в ней. Пока мы не голодали, не могло случиться ничего такого, что нарушило бы мирные сношения наши, начатые с Мазамбони. Я, по мере возможности, одаривал каждого вождя красным сукном, бусами, медными монетами и проволокой.
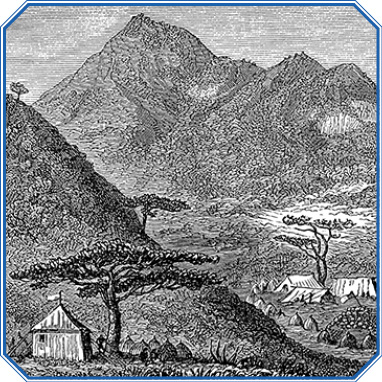
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Даты жизни Альберта Эйнштейна
Даты жизни Альберта Эйнштейна 1879, 14 марта — Альберт Эйнштейн родился в городе Ульме (Западная Германия). 5 ноября — Смерть Клерка Максвелла.1880 — Переезд семьи Эйнштейнов в Мюнхен.1881 — Попытка А. Майкельсона установить на опыте движение Земли относительно «эфира».1889,
ВОЛОСЫ У ОТЦА БЫЛИ, КАК У АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА
ВОЛОСЫ У ОТЦА БЫЛИ, КАК У АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА Перевернув лист календаря с июня на июль, я увидела фотографию Альберта Эйнштейна и вдруг поняла, что у отца были почти такие же волосы. Как на этой фотографии, где у Эйнштейна они чуть не до плеч и немного вьются. Снимок
Глава двадцать девятая. Из долины Желтой реки к озеру Куку-нор и вдоль его южного берега
Глава двадцать девятая. Из долины Желтой реки к озеру Куку-нор и вдоль его южного берега В Чан-ху мы прибыли всего за четверть часа до приезда туда же с перевала Лянжа-сань брата, подтвердившего, что состояние здоровья казака Колотовкина заметно ухудшилось: появились
Основные даты жизни и деятельности Альберта Швейцера
Основные даты жизни и деятельности Альберта Швейцера 14 января 1875 года – В городке Кайзерсберге, Верхний Эльзас, в семье пастора Луи Швейцера родился сын, названный в честь дяди-священника Альбертом.1880—1884 годы – Посещает деревенскую школу в Гюнсбахе, учится играть на
ПУТЬ К СИНЕМУ ОЗЕРУ
ПУТЬ К СИНЕМУ ОЗЕРУ Пржевальский шел прежним путем.25 мая путешественники прибыли в уже хорошо им знакомый Дынюаньин, где их радушно приняли сыновья амбаня. Здесь Николай Михайлович застал большой караван тангутов[31], возвращавшийся в кумирню Чейбсен, расположенную в
Последняя весна Альберта
Последняя весна Альберта «Я люблю жизнь, но и смерть для меня не так страшна». Эту фразу Эйнштейн повторял снова и снова. Он произнес ее в разговоре с журналистом за неделю до кончины. Они обсуждали ее философскую сторону.— Я не боюсь умереть: это не равнодушие к жизни, это
Глава 11 К ОЗЕРУ ДРАКОНОВ И РЫБ
Глава 11 К ОЗЕРУ ДРАКОНОВ И РЫБ Он переночевал в юрте, а утром направился с визитом к начальнику Заилийского края, приставу Большой орды полковнику Хоментовскому. После двадцати пяти суток путешествия по Киргизской степи он с удовольствием оглядел чистую, хорошо
2. Родители Альберта
2. Родители Альберта Альберт был первым, но не единственным ребёнком в семействе Эйнштейнов. Спустя два года, в 1881-м, на свет появилась сестра Альберта. Девочку назвали Майей…Отец будущего физика Герман Эйнштейн происходил из зажиточной еврейской семьи, более пяти веков
Предисловие Новый взгляд на наследие Альберта Эйнштейна
Предисловие Новый взгляд на наследие Альберта Эйнштейна Гений. Рассеянный профессор. Отец теории относительности. Легендарная фигура Альберта Эйнштейна – с пышными белыми волосами, развевающимися на ветру, в туфлях на босу ногу, в просторном джемпере, попыхивающий
Глава X. Путешествие к озеру Танганьика. Открытие озер Моэро и Бангвеоло
Глава X. Путешествие к озеру Танганьика. Открытие озер Моэро и Бангвеоло Исследование области между рекой Рувумой и озером Ньяса.– Движение к озеру Танганьика.– Река Чамбезе.– Открытие озера Моэро.– Казембе.– Открытие озера Бангвеоло.– Путь в Уджиджи.– Попытки дойти до
В гостях у Альберта Эйнштейна
В гостях у Альберта Эйнштейна Сколько разного встречаешь на дороге жизни!Идешь, идешь вперед, и вдруг засияет перед тобой один камень (Ein Stein) — огромный и драгоценный, воспоминание о котором хочется сохранить на всю жизнь. Даже почва, травинки, что соприкасались с ним,
Путь к Телецкому озеру
Путь к Телецкому озеру На нашем пути Катунь то теряется, то снова появляется, извиваясь в долине.Проехали двадцать верст. Первый привал. Разговор с проводником. Наш проводник, бывший красный партизан, рассказал, что еще некоторое время после разгрома Колчака остатки его
Руководство папе, а итога Карлу Альберта
Руководство папе, а итога Карлу Альберта В 1843 году в Брюсселе изгнанник из Пьемонта Винценти Джиоберти[10] издает книгу, вызвавшую большую шумиху. Книга называется «О моральном и гражданском примате итальянцев». На страницах этой книги описаны основные умеренные идеи