ГЛАВА ПЯТАЯ ДУХ ВРЕМЕНИ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ДУХ ВРЕМЕНИ
Дух времени — такая сила, пред которою они не могли устоять.
К. Рылеев
Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала.
А. Радищев
1
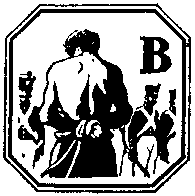 начале XIX века, пожалуй, не было в России более популярных слов, чем выражение «дух времени». Дух времени — это кровавая гроза пугачевского восстания, буря Великой французской буржуазной революции и порожденные ими мысли и раздумья.
начале XIX века, пожалуй, не было в России более популярных слов, чем выражение «дух времени». Дух времени — это кровавая гроза пугачевского восстания, буря Великой французской буржуазной революции и порожденные ими мысли и раздумья.
Дух времени — это беспощадный анализ действительности, отрицание дедовских и отцовских представлений о добре и зле и рождение новых идеалов.
Одни называли дух времени революцией, другие — либерализмом. Были глубокие общественно-политические причины, вызвавшие к жизни революционные и либеральные идеи. Европа переживала крушение феодализма. Наступил кризис феодализма и в России. Рядом с ростками нового общественного строя, сулившего свободу гражданам, процветание промышленности и сельского хозяйства и общее благоденствие государства, еще более страшным и нелепым вырисовывалось «чудище обло» — российское самодержавие, грубо душившее все новое.
Тираническое царствование Павла I как бы нарочно сконцентрировало в себе все пороки самодержавия в ужасающе открытых формах. Современники называли царствование Павла I «унизительным игом». Возмущение против него росло во всех слоях русского общества. Даже сын Павла, цесаревич Александр, в своей личной переписке с друзьями позволял себе делать такие заявления: «Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России…» Он уже как будто понимал, что существованию русского самодержавия в его прежних формах пришел конец, что этого не позволяет дух времени. «Если когда-либо придет и мой черед царствовать, — писал Александр в том же письме, — то я… посвящу себя задаче даровать стране свободу».
Любимый внук Екатерины II, которого она прочила себе в наследники в обход сына Павла, он был ее талантливым последователем в науке управлять. На примере бабки Александр видел, как можно легко сочетать вольный дух времени на словах и реакционную политику на деле. От своего воспитателя швейцарца Лагарпа, «ходячей и очень говорливой французской книжки», — по отзывам современников, — он усвоил либеральную фразеологию, расшаркивание в сторону «свободных конституций» и республиканского правления, которыми подкрашивались идеи «разумного самодержавия». Дух времени сказывался в Александре в склонности к «беспредметной чувствительности» в пасторально-сентиментальном духе. Молодой царь любил вздыхать, мечтая о «ленивых досугах спокойной жизни» с милой женой где-нибудь в Швейцарии, куда не плохо было бы удалиться, променяв «свое звание на ферму».
«Дней Александровых прекрасное начало» было ознаменовано некоторым либерализмом. Александр I отменил ряд наиболее возмущавших общество указов Павла I. Снова был разрешен выезд за границу, уничтожена наводившая на всех страх Тайная экспедиция, возвращены из ссылки пострадавшие от произвола царя чиновники и офицеры.
Но всего лишь через четыре года после указа императора Александра I об уничтожении Тайной экспедиции ее зловещая тень возникла снова, лишь изменив свое название.
Молодой царь показывал когти, время либерального кокетничанья прошло, лавровая ветвь в руках «государя-миротворца» быстро обратилась в капральскую палку.
Александр был двулик. Когда его министр докладывал ему о зверском обращении помещицы с дворовой девкой, он мог плакать и восклицать: «Боже мой! Можно ли знать все, что у нас делается!» А спустя немного времени с сухими от злости глазами он выговаривал генералу Тормасову за слабое наказание его дворового Кириллова, который осмелился на Тверском бульваре в Москве говорить «неприличные слова» о желательности для крестьян воли. «Столь буйственный и дерзновенный поступок, — негодовал Александр, — следовало наказать наистрожайшим образом и публично».
Сколь ни утончен казался некоторым современникам русский царь, но по своим симпатиям и наклонностям он никогда не подымался выше унтер-офицера гатчинской школы. Страсть к «фрунту» была фамильной чертой Романовых. Еще в 1805 году, когда доверчивые люди повторяли слова своего «ангела-царя» о том, что он никогда не привыкнет царствовать деспотом, генерал Тучков писал, что императорский двор «сделался почти совсем похож на солдатскую казарму». На плацу, беседуя с Тучковым о том, что ружье не изобретено для того, чтобы «им только делать на караул», Александр неожиданно прервал беседу и, закричав «носки вниз!», сорвался с места и побежал к колонне марширующих солдат. Оказалось, что солдаты «недовольно опускают вниз носки сапог!».
Наступившая сразу после «дней Александровых прекрасного начала» реакция вызвала ответную реакцию со стороны наиболее прогрессивно настроенных людей.
В 1806 году по обеим столицам ходил по рукам листок, аллегорически изображавший состояние тогдашней России:
Право — сожжено.
Доброта — сжита со свету.
Искренность — спряталась.
Справедливость — в бегах.
Добродетель — просит милостыню.
Благотворительность— арестована.
Правосудие — погребено под развалинами права.
Совесть — сошла с ума и сидит на весах
правосудия.
Честность — вышла в отставку.
Закон — висит на пуговках у сенаторов.
И терпение — скоро лопнет.
Известный мракобес Магницкий уже в 1808 году в своей «всеподданнейшей записке» под заголовком «Нечто об общем мнении в России и верховной полиции» писал:
«Общее мнение в России взяло с некоторых пор направление против правительства. Порицать все, что правительство делает, осуждать и даже осмеивать лица, его составляющие, давать предчувствовать под видом некоторой таинственности важные последствия отчаянного положения вещей — сделалось модою или родом обычая, от самого лучшего до самого низкого общества… Обычай, или дух, сей столь открыто усиливается и умами совершенно овладеть стремится, что хвалить правительство, оправдывать поступки его значит выставлять себя как бы его наемником.
Пагубный дух сей из одной столицы перешел в другую.
Письма, в Москву отправляемые, и приезжие из Петербурга непрестанно наполняют ее слухами для правительства вредными. Слухи же сии, не взирая на нелепость их, с жадностью внимаются и распространяются с чрезвычайной быстротой в обширном городе.
Из древней столицы сей, куда каждую зиму съезжается со всех концов России богатейшее дворянство, гибельная мода порицать правительство переходит в провинции, тревожит добрых граждан, служит пагубным для злых орудием и благотворную доверенность к правительству, в важных положениях, его столь драгоценную, на основании ее и повсеместно колеблет».
2
Кончилась война.
Александр I по возвращении из-за границы принял старика Державина, желавшего лично поздравить государя с окончанием победоносной войны.
— Да, Гавриил Романович, — заметил царь, — мне господь бог помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет.
— Они есть, ваше величество, — возразил Державин, — но они в глуши, их искать надобно; без добрых и умных людей и свет бы не стоял.
Но искать добрых и умных людей император не собирался.
«Я решительно никому не верю, — как-то сказал Александр, — все люди — мерзавцы». Честным человеком, по мнению русского императора, в России был один Аракчеев.
Прототипом будущей России могло служить Грузино — вотчина «без лести преданного друга».
«Аккуратность» была страстью и Александра и Аракчеева, а в грузинской вотчине все было пределом «аккуратности» — шоссейные дороги, стандартные дома в деревнях и, главное, во всем строгий порядок. Все на своем определенном месте, начиная с деревьев в парке и кончая чернильницами и перьями на столе хозяина, — все определено с точностью до сантиметра. Дорожки в парке чисто выметены, кошки на цепи, чтоб соловьев не жрали, в кармане каждого крестьянина «винная» книжка, куда записываются его проступки, в особый журнал наказаний заносится, кого и за что следует пороть, сам граф не гнушается делать «презренному преступнику» отеческое внушение, после чего преступника секут, а хор специально подобранных красивых девушек поет: «Со святыми упокой, господи». И, наконец, в Грузине есть и своя собственная подземная тюрьма «Эдикул» со средневековыми орудиями пытки. Даже прирост населения графом строго регламентируется. «У меня всякая баба, — пишет он в уставе для своих крестьян, — должна каждый год рожать и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба — тоже штраф. А в какой год не родится, то представь десять аршин точива»[5].
Александр находил, что аракчеевская вотчина являла «пример честного, доброго хозяйства», устроенного «без принуждения одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием».
Так вот Аракчееву, этой «обезьяне в мундире», по образному определению современников, и было поручено устройство внутренних дел империи после войны.
Но Аракчееву предстояла нелегкая «работа». По признанию такого реакционера, как Ростопчина, «трудно ныне царствовать: народ узнал силу и употребляет во зло вольность».
Во время войны вновь вспыхнули толки об освобождении крестьян, усилившиеся после окончания войны. «Мы проливали кровь, — говорили возвратившиеся с войны ополченцы, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа».
«Скажите, чего достойны сии воины, спасшие столицу и отечество от врага-грабителя, который попирал их святыню? — спрашивал офицер, свидетель подвига народа в войне 1812 года. — Так как они, а никто другой спас Россию… А такое ли возмездие получили (они) за свою храбрость? — И сам с горечью отвечает на свой вопрос: — Нет, увеличилось после того еще более угнетение».
Однажды Александр I поинтересовался у князя Сергея Волконского, каков после войны «дух народный».
— Вы должны гордиться им, — ответил будущий декабрист, — каждый крестьянин герой, преданный отечеству и вам.
— А дворянство? — спросил царь.
— Стыжусь, что принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего.
Теперь же и слова стали забываться, «при свете ламп и люстр приметно начал гаснуть огонь патриотического энтузиазма» дворянства. Но с тем большим жаром реакция во главе с Александром I готовилась задушить всякое проявление протеста и свободомыслия, рожденного Отечественной войной и заграничными походами.
Искры великого пожара двенадцатого года тлели до поры до времени в умах будущих декабристов, и потушить их никакие Александры и Аракчеевы уже не могли.
К 1814 году относятся первые кружки молодых офицеров, вернувшихся из-за границы. Это была Священная артель братьев Муравьевых и Бурцова — офицеров Главного штаба — и Семеновская артель Якушкина, Трубецкого и братьев Муравьевых-Апостолов — офицеров Семеновского полка.
Казалось, артели небогатых офицеров, собиравшихся, чтобы «держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя», не могли привлечь внимания начальства, на самом деле было не так. Хотя начальство не знало, что в «этих мыслящих кружках» нередко велись разговоры о «зле существующего порядка вещей» и о «возможности изменения» его, но сама организация артелей была в глазах начальства явным вольнодумством. В одной из комнат Священной артели висел вечевой колокол, по звону которого все артельщики собирались обсуждать общие дела. Это было «некрасивым напоминанием о Новгородской республике». Когда царю доложили, что в Семеновской артели офицеры собираются читать иностранные газеты и следить за событиями в Европе, Александр I приказал командиру Семеновского полка запретить артель.
— Такого рода сборища офицеров мне очень не нравятся, — заметил он.
Артель была запрещена, но для молодых офицеров это было только лишним подтверждением зла существующего порядка вещей. Вопрос, как изменить такой порядок, настоятельно требовал своего разрешения.
3
Искушение повидать родных было слишком велико, и Пестель, отпросившись у Витгенштейна, на несколько дней заехал в Петербург.
В родительском доме его ожидал торжественный прием. Расспросам и рассказам не было конца. Не зная, чем порадовать сына, Иван Борисович принес изящно переплетенную толстую тетрадь:
— Вот, мой мальчик, — сказал он, — это все твои письма. Я переплел их в особую тетрадь для лучшей сохранности и давал читать некоторым заслуживающим внимания людям… Все тебя очень хвалили…
Только одно огорчало отца — это то, что Павел до сих пор всего-навсего поручик.
— Наград у тебя довольно, — говорил Иван Борисович. — Недурно было бы иметь еще один иностранный орден, pour le m?rite[6] например. Но это не так важно, как производство.
Иван Борисович за несколько дней, которые Павел Иванович хотел провести дома, решил показать его возможно большему количеству знакомых. Это входило у Ивана Борисовича в планы продвижения сына по службе. Он всем рассказывал о его подвигах, перечислял полученные им награды и как бы невзначай добавлял, что чинами сын обойден.
Самому Павлу Ивановичу эти визиты не нравились. Его раздражало поведение отца. Тяжело было смотреть и на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. В эти дни он особенно почувствовал, как сильно изменились его взгляды и как бесконечно далеко ушел он от всего, чем живут в Петербурге.
Через несколько дней Павел Иванович уезжал в Митаву.
4
Первое, что бросалось в глаза подъезжающим к Митаве, — это величественный средневековый замок, бывшая резиденция курляндских герцогов. Мрачная крепость мало гармонировала с небольшим тихим городком, с трех сторон опоясанным речкой Аа.
Опрятностью Митава напоминала провинциальные немецкие городки, но дома здесь были большей частью деревянные, а улицы без тротуаров: пешеходы шествовали прямо по середине улицы. Замысловатые надписи на немецком и еврейском языках тоже чем-то напоминали Германию.
— Я здесь отдыхаю, — сказал Витгенштейн Пестелю при встрече, — после столь бурных лет мне, старику, хорошо отдохнуть в таком городе, как Митава. Но вам здесь покажется скучно. Будет тянуть в Петербург.
— Везде можно найти друзей и знакомых, ваше превосходительство, — почтительно возразил Пестель, — общество которых разгонит скуку.
— О, но вы, кажется, очень взыскательны в отношении знакомых? — улыбнулся Витгенштейн. — Впрочем, вам не плохо было бы представиться графу Па-лену.
— Я как раз собираюсь это сделать, — ответил Пестель.
Перед отъездом из Петербурга отец настоятельно советовал ему представиться в Митаве старому своему знакомому графу Палену. Пестель и раньше много слышал от отца об этом романтическом старике, руководителе заговора против Павла I.
Пален жил в Митаве с 1801 года. Александр I, обязанный Палену своим воцарением, не мог простить ему слишком независимого поведения и боялся умного старика, не скрывавшего своего презрения к родственникам безумного Павла. Царь отплатил Палену тем, что вскоре после вступления на престол приказал ему оставить столицу и отправиться в свое курляндское поместье. Там Пален находился под негласным надзором полиции.
Для своих восьмидесяти лет Пален держался очень хорошо. Высокий статный старик, он бодро поднялся с кресла навстречу Пестелю и протянул ему руку.
— Рад видеть сына моего друга, — громким, несколько гнусавым голосом приветствовал граф Пестеля. — Вы очень любезны, что навестили старика.
Пален был, кажется, искренне рад визиту молодого человека. Его голубые, совсем не стариковские глаза смотрели благожелательно. Сначала Пестель был несколько смущен, и беседа не клеилась. Но вот разговор коснулся недавних событий, и Пестель оживился.
Граф внимательно слушал рассказы Пестеля о войне, о загранице, о недавних петербургских впечатлениях.
— Ничто, как видно, не может изменить нашего общества, — заметил Пестель, — никакие, самые грозные события. Люди не хотят или не могут извлечь уроков из происшедшего.
— Бог послал бы нам второй потоп, — сказал Пален, — когда бы увидел пользу первого. Шамфор был прав. Но разве только наше общество неисправимо?.. Впрочем, простите старого скептика, я более расположен видеть все в мрачных красках, хотя приятно сознавать, что сейчас молодые люди рассуждают не так, как рассуждали мы в свое время.
— Да, — ответил Пестель, — вернувшись из-за границы, мы стали смотреть на Россию другими глазами. Русский народ по своим достоинствам может претендовать на большее, чем то, что он имеет сейчас. Россия в политическом отношении представляет, надо признаться, зрелище печальное.
Он замолчал, ожидая, что ответит Пален. Старик испытующе посмотрел на Пестеля и спросил:
— А все-таки, что же по сути дела заставило вас смотреть на Россию другими глазами?
— Я много размышлял последнее время, — горячо начал Пестель. — Могу сказать, что возвращение Бурбонского дома во Францию было эпохой в моих политических мнениях. Судите сами, многие из коренных постановлений, введенных революцией, были при Реставрации сохранены и признаны за благие вещи. А ведь раньше все восставали против революции, и я в том числе. Революции, видно, уже не так дурны, как говорят, и могут быть даже весьма полезны, тем более, что государства, в коих не было революции, лишены многих нынешних полезных французских учреждений.
Старик перестал улыбаться. Не глядя на собеседника, он ответил:
— Такие рассуждения могут завести вас очень далеко. Вы любите наше отечество, я тоже не чужд ему. Поверьте мне, и я не враг тому, что вы желали бы иметь в России. Но не думаю, что наступило время для этого. Надо повременить. Россия не Франция.
— Простите, но мне это непонятно, — возразил Пестель. — Нельзя все откладывать до времени. Того, что считаешь необходимым, следует добиваться сейчас. Да и придет ли это время, удобное для добрых намерений? Французы говорят: «Добрыми намерениями дорога в ад вымощена», а у нас поговорка еще проще: «Под лежачий камень вода не течет». Нет, слишком много зла в России, чтобы его можно было терпеть, а из сего следует, что надобно дерзать…
— Слушайте, молодой человек, — перебил его Пален, — если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем. У меня есть опыт, я знаю свет и людей.
— Признаюсь, так далеко я еще не заходил в своих мыслях, — улыбнулся Пестель. — Я не задумывался о тайном обществе.
— Вы непременно придете к этому, — ответил Пален, — не так уж трудно предвидеть.
— Может быть, — сказал Пестель, — но если рассуждать, что каждый двенадцатый — предатель, то никакой бы заговор не мог бы удаться, а в истории немало примеров удачных заговоров.
Пален усмехнулся.
— Да, есть примеры, когда заговорщики преследуют корыстные цели, но я не знаю ни одного удачного заговора, составленного в благородных целях. Когда вы не можете своим товарищам предложить ни денег, ни славы, они продадут вас тем, кто им заплатит и отблагодарит сомнительной славой спасителей отечества.
— И все-таки, — возразил Пестель, — жить под деспотическим правлением и не пытаться от него избавиться, по-моему, не достойно честного человека.
— Ну что ж, в добрый час! — сказал Пален. — Я почти в четыре раза старше вас, мне позволительно быть скептиком. Дай бог мне ошибиться.
5
Граф Витгенштейн взвалил все дела на своих подчиненных и в первую очередь на Пестеля. Он поручил ему всю письменную часть и даже разрешил в свое отсутствие распечатывать бумаги, приходившие на имя командующего. Преисполненный доверия к своему адъютанту, он советовался с ним во всем и часто поручал ему ответственные задания.
Служебные дела Пестеля, так беспокоившие его родителей, шли неплохо. Положение Павла Ивановича было не блестяще, но твердо, и будущее казалось обеспеченным. Но тем острее у Пестелей вставал вопрос о деньгах.
«Чем более я доволен тобою, — писал Иван Борисович сыну, — чем нежнее люблю тебя, тем более страдаю я, не имея возможности выслать тебе денег, Я еще не могу сделать этого в настоящую минуту, но я сделаю все, что в моей возможности, чтоб достать их». «Первые деньги, — пишет он в другом письме, — которыми буду располагать, пошлю тебе. Клянусь честью, что во всем доме в настоящую минуту только всего 75 рублей, которых едва хватит на пропитание». Наконец, посылая сыну тысячу рублей, он мягко высказывал желание, чтобы «эта сумма была в некотором роде достаточна» сыну, так как большего он сейчас послать не может.
При всем своем старании быть рачительным хозяином, Иван Борисович был человеком безалаберным — жалованье расходовалось быстро и нерасчетливо. При выходе в отставку в 1819 году он имел двести тысяч долгу, который выплачивал до самой смерти.
В начале 1815 года Павел Иванович и Борис по просьбе отца отправились в село Станково Владимирской губернии, в одно из имений Пестелей, откуда давно уже не приходили деньги.
— Развяжется ли когда-нибудь батюшка с долгами? — сетовал Павел Иванович.
Борис рассмеялся:
— Кредитор спрашивал у своего должника: «Когда вы заплатите мне долг?» — «Я не знал, что вы так любопытны», — отвечал тот. А мы, братец, не кредиторы…
— Все это шутки, — отвечал Павел Иванович. — А вот я, признаться, не знаю, как я буду вести себя с мужиками. Между нами говоря, батюшка жалованья получает в год не одну тысячу, столько, сколько все его мужики, вместе взятые, в глаза не видели, а мы сейчас едем требовать с них оброчных денег. Одному не хватает тысяч, другому должно хватать жалких копеек.
— Э, мой дорогой, — протянул Борис, — ты плохо осведомлен. Я вот расскажу тебе забавный случай. У одного петербуржца был мужик на оброке, торговец, ездивший по своим делам и в Крым, и в Сибирь, и даже в Лейпциг на ярмарку. В прошлом году приходит он к своему барину и говорит, что хочет выкупить на волю себя, жену и сына. Сын вознамерился жениться на купеческой дочери, а будущий тесть не хочет выдавать дочь за крепостного. Барин, зная, что мужичок при деньгах, решил подшутить — возьми да и скажи: за всех, мол, четыреста тысяч. Что ты думаешь? Старик вынимает четыреста тысяч и говорит: «Так и знал, барин, что четыреста тысяч запросишь». Вот тебе и копейки!
— Слушай, — ответил Павел Иванович, — много ли таких? Как будто ты не знаешь, что на десятки тысяч один. Большинство мужиков еле-еле перебивается, и непонятно, как они еще могут платить эти оброки. Надо удивляться их выносливости и трудолюбию…
— А я не удивляюсь, — перебил его Борис, — зная, чем поощряется их трудолюбие. Рецепт один, и все ему следуют. Недавно я прочел одну, как называет ее сам автор, «полусправедливую и оригинальную» повесть. Так там сказано: «Чтоб поощрять мужика к трудолюбию, надобно больше нужд; а это тогда случается, когда будешь каждый год надбавлять оброк и отнимать все лишнее». Предлагаю тебе действовать по этому совету… Жаль только, что повесть все-таки «полусправедливая». Где-то автор потерял половину ее справедливости. А ты не собираешься ли ее отыскивать?
— Собираюсь и тебе посоветовал бы, — ответил Павел Иванович. — Тебе не случалось предполагать, что мужики могут найти справедливость раньше нас? Нет? Так вот подумай над тем, как отыскать ее раньше мужиков. При всем своем хорошем мнении о них мне кажется, что если они найдут справедливость раньше нас, они с нами не поделятся.
— Да ведь и не за что, — заметил Борис.
Станково считалось селом зажиточным, барщины мужики никогда не знали, небольшой оброк и тот платили неисправно, и последнее время недоимок накопилось много. «На таком оброке, как у вас, ваши бары скоро по миру пойдут», — говаривали им соседи, завидовавшие их житью. «Ништо, не пойдут!» — отвечали станковцы.
Крестьяне встретили бар на околице с хлебом-солью, одеты они были не богато, но и не убого. Мужики опустились на колени. Павел Иванович их поднял, принял хлеб-соль, поблагодарил и велел надеть шапки.
Крестьяне решили, что бары приехали «ничего себе», но все-таки ждали грозы.
Барский дом, в котором давно никто не жил, казалось, промерз насквозь. Павел Иванович приказал затопить все печи, но старый дом прогревался плохо, приходилось сидеть в шинелях.
— Не попроситься ли нам в избу к какому-нибудь мужику погреться? — пошутил Борис, грея руки у печки. — Справедливости, кажется, они еще не отыскали и, пожалуй, согласятся нас принять. Во всяком случае, кланялись они усердно: чует кошка, чье сало съела, — ждут расправы за недоимки.
— Странное существо — русский человек, — задумчиво произнес Павел Иванович, — как они не могут понять, что я ничего не имею права у них требовать?.. Какие страшные корни пустило у нас рабство!
— Они очень довольны своим положением, — ответил Борис, — и, смею тебя уверить, считают себя нашими должниками и только молят бога, чтобы пронесла нелегкая.
Павел Иванович прохаживался по комнате, заложив руки за спину.
— Раб, довольный своим положением, — вдвойне раб, — резко произнес он.
Доложили, что пришел бурмистр.
— Зови! — приказал Павел Иванович слуге.
На пороге комнаты показался высокий старик. Он низко поклонился, густая, с проседью борода почти коснулась пола. Павел Иванович подошел к нему и остановился разглядывая.
— Это что у тебя? — кивнул он на книги в руках бурмистра.
— Книги недоимочные, ваше благородие… — начал объяснять тот.
— Хватило книг-то все недоимки записать? — перебил его Борис.
— Чего-с? — переспросил бурмистр.
Павел Иванович махнул рукой Борису, чтобы он замолчал.
— Недоимки за вами большие, — сказал Павел Иванович. — Почему так случилось?
— Изволите видеть, — торопливо стал объяснять бурмистр, косясь на Бориса, — недоимка большая у нас, это верно. Но мужики, ваше благородие, вконец обнищали… Вот взять хотя Парфена Макарова…
— Это тот, что в новых сапогах сегодня вышел? — засмеялся Борис.
Бурмистр растерялся. Бары, видно, и слушать не хотят. Того и гляди, за бороду да на конюшню.
— Ну ладно, — сказал Павел Иванович. Не вытаскивая рук из-за спины, он ногой открыл печную дверцу. — Бросай сюда книги!
Старик испуганно заморгал глазами. Ничего не понимая, он наклонился и осторожно положил книги рядом с печкой.
— Фу ты, господи! — Павел Иванович наклонился и сам стал бросать книги в печку, потом ногой запихнул поглубже в огонь. — Вот так их, подальше! — с ожесточением проговорил он.
В печке затрещало, пламя быстро охватило всю кипу книг. Павел Иванович закрыл печку, повернулся к бурмистру и, отряхивая руки, сказал:
— А мужикам передай, что недоимки их сгорели, но чтобы больше этого не было. Слышишь? Ну, иди.
Бурмистр судорожно мял в руках шапку и, кланяясь, стал отступать к двери.
— Ну, теперь поблагодарит нас батюшка, — сказал Борис, когда бурмистр ушел.
— Ничего, — ответил Павел Иванович. — Мы его уверим, что мужики нищие и с них взять нечего.
6
В октябре 1814 года в Вену съехались европейские монархи в сопровождении более чем ста тысяч придворных, дипломатов, военных и просто лакеев, чтобы перекроить карту Европы ради «реконструкции общественного порядка» и «продолжительного мира, основанного на справедливом распределении сил». В Вене собрался штаб европейской реакции, чтобы разработать план генерального «успокоения» народов.
Время проводили весело, на раутах и банкетах правители Европы решали судьбы народов и стран.
И вдруг вечером 7 марта 1815 года в Вену пришло известие, что Наполеон бежал с Эльбы и высадился в бухте Жуан, недалеко от Тулона. Страшный корсиканец снова посягнул на «спокойствие народов». Монархи забыли мелкие ссоры и крупные разногласия и спешно начали готовить свои армии к новому походу на Францию. Наполеон был объявлен вне закона, как враг человечества.
Александр I заявил, что в случае необходимости он готов пожертвовать последним своим солдатом и последним своим рублем за дело, в котором замешана его честь. Делом чести для него была окончательная ликвидация ожившей наполеоновской империи.
Страх перед неугомонным французским императором был так велик, что предусмотрительные люди в Москве думали только о том, как бы на этот раз своевременно начать укладываться, чтобы Наполеон не застал их врасплох.
Витгенштейн был назначен командующим резервной армией. В апреле его армия выступила из Митавы, затем походным порядком через Польшу и Германию направилась на запад, к Франции.
Все внимательно следили за происходящим во Франции.
А французы, которым Бурбоны за короткий срок сумели показать свое истинное лицо, восторженно встречали императора. Были забыты и диктатура и бесконечные войны, обескровившие страну, — теперь на Наполеона смотрели как на наследника великой революции, пришедшего защитить французский народ от попов и аристократов.
Наполеон громогласно объявил, что даст теперь Франции свободу и мир.
— Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов, — заявил он. — Пусть берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству. Я их повешу на фонарях.
Бурбоны бежали. Наполеон, захвативший Францию без единого выстрела, как будто понял, чему он этим обязан. Он заявил, что теперь будет править как конституционный монарх.
Спустя несколько лет Сергей Волконский, бывший в эти дни в Париже, рассказывал Пестелю о своей беседе с генералом Лабедойером, одним из виновников удачного возвращения Наполеона.
— Я тоже участвовал немного в этом возвращении, — сказал генерал, — но я могу вас уверить, что если император вздумает сделаться опять тираном Франции, я первый его убью.
В штабе армии рассказывали, что император Александр поражает всех своим спокойствием и невозмутимой твердостью. Но были и иные слухи, которые передавали вполголоса: к Александру писал его бывший воспитатель Лагарп, убеждая отказаться от похода против Наполеона. Необычайная легкость, с которой Наполеон сбросил Бурбонов, не оставляла сомнений, на чьей стороне симпатии французского народа. Наивный старик доказывал, что Александр не вправе насиловать народ, заставляя отказаться от избранного им монарха и подчиниться такому, который стал ему не только чужд, но и ненавистен. Несправедливое решение не могло быть оправдано успешным исходом начатого дела. Но Александр остался глух к этим убеждениям. Говоря о Франции, он заметил однажды: «В этой земле живут тридцать миллионов скотов, одаренных словом, без правил, без чести; да может ли что-нибудь быть там, где нет религии?»
Союзники выставили против Наполеона огромные силы — около миллиона человек.
Планы будущей войны разрабатывались так, словно у Наполеона были несметные полчища, хотя вся его армия насчитывала не более ста тридцати тысяч человек.
Все разрешилось очень быстро: в конце июня 1815 года Наполеон был разбит при Ватерлоо и капитулировал. Все действия русской армии во время кампании 1815 года ограничились штурмом города Шалона. После капитуляции русские войска двинулись на Париж.
Резервная армия Витгенштейна в военных- действиях участия не принимала. Капитуляция Наполеона застала ее в Германии, и вскоре после этого она двинулась в обратный поход.
По дороге в Россию Пестель ненадолго заехал в Дрезден и уже в сентябре 1815 года вернулся в Митаву.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 13. Остановка времени
Глава 13. Остановка времени Я прекрасно понимаю, что в глазах многих людей «трава», или марихуана, имеет ценность в качестве наркотика, снимающего стресс и внутреннее напряжение. Вообще-то для меня травка означает разочарование и лишнюю трату времени. На мой взгляд, у
Глава пятнадцатая. Бомба времени
Глава пятнадцатая. Бомба времени 1 Угасала жизнь Эльзы Эйнштейн. Трех лет не прошло с тех пор, как они покинули родные края. Воздух, которым дышала Эльза, был чужим воздухом, небо над ее головой, земля под ее ногами были чужими, холодными. Она не смогла привыкнуть к ним. Она
ГЛАВА 12 Чувство времени
ГЛАВА 12 Чувство времени Хороший концертный агент — великое счастье для гастролирующего артиста. И исполнитель рано начинает это понимать. Мне с моими импресарио везло; я сохранял с ними прекрасные отношения — и с теми, кто занимался концертами в отдельных государствах,
ГЛАВА 4. Апноэ во времени и в мире
ГЛАВА 4. Апноэ во времени и в мире Человек-море Если правда, что еще и сегодня у некоторых первобытных народов принято думать о солнце и море как о первопричине всех вещей, которые родились от их союза, то человек своей колыбелью, своим материнским лоном всегда считал
Глава пятая о времени и о себе
Глава пятая о времени и о себе «Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность, — писал Сенека. — Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую, вдобавок, может отнять у нас всякий, кто этого захочет… Люди
Глава 13. Остановка времени
Глава 13. Остановка времени Я прекрасно понимаю, что в глазах многих людей «трава», или марихуана, имеет ценность в качестве наркотика, снимающего стресс и внутреннее напряжение. Вообще-то для меня травка означает разочарование и лишнюю трату времени. На мой взгляд, у
ГЛАВА VI Поиски утраченного времени
ГЛАВА VI Поиски утраченного времени — Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? — Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет
Глава третья. ПРИОБЩЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ
Глава третья. ПРИОБЩЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ Ранним сентябрьским утром 1911 года молодой датчанин, погруженный в свои мысли, вдруг застиг себя стоящим в праздности возле какой-то английской лавчонки. Глаза его скользили по надписи на входной двери. В адресе торговой фирмы начертано
Глава 11. ВЫИГРЫШ ВО ВРЕМЕНИ
Глава 11. ВЫИГРЫШ ВО ВРЕМЕНИ К 1939 году, когда на XVIII съезде партии Сталин объявил, что СССР переходит к построению коммунизма, в международной обстановке произошли резкие изменения, вызванные агрессивными действиями Германии, Японии и Италии. Еще в 1936 году Италия покорила
Глава 10 Значение времени
Глава 10 Значение времени Деньги, вложенные в сырые материалы или в готовые изделия, считаются обычно живыми деньгами. Правда, деньги эти употребляются на предприятии, но тем не менее такой запас сырья или готовых изделий, который превышает действительные потребности,
Глава 19 У времени в плену
Глава 19 У времени в плену Вдовствующая Императрица проводила много времени за границей и большую часть его на «первой родине» — в Дании. После смерти матери не проходило беспокойство за отца. Он с каждым годом становился все слабее и слабее, но сохранял ясность ума, да и
Глава V ТАЙНА БАСНОСЛОВНОГО ВРЕМЕНИ
Глава V ТАЙНА БАСНОСЛОВНОГО ВРЕМЕНИ ы уже знаем, какие именно идеи легли в основу открытия Вико. Некоторые из них мы рассмотрели даже в сочетании друг с другом, и все же всякий раз, когда от знания предпосылок переходишь к анализу самого тезиса, не оставляет ощущение