ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Мы — дети 1812 года.
С. Муравьев-Апостол
1
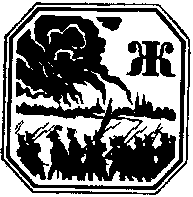 естоким ударом по престижу Александра I были войны с Францией 1804–1807 годов.
естоким ударом по престижу Александра I были войны с Францией 1804–1807 годов.
Русское дворянство отлично понимало, что именно вмешательству бездарного в военном отношении царя оно обязано тем, что двуглавого орла «ощипали» под Аустерлицем. После поражения русской армии под Фридляндом в Восточной Прусии Александр вынужден был просить у Наполеона мира, который и был заключен в Тильзите.
Россия забыла, когда ее вынуждали заключать мир. Даже безумный Павел не доводил страну до такого унижения. Тильзит казался несмываемым позором.
Как отнеслось русское дворянство к Тильзитскому миру, хорошо свидетельствует замечание графа Воронцова, который предлагал, «чтобы сановники, подписавшие тильзитский договор, совершили въезд в столицу на ослах».
Невеселым было возвращение русской армии с войны. «От знатного царедворца до малограмотного писца», от генерала до солдата — всё, повинуясь, роптало с негодованием», — писал впоследствии мемуарист Вигель. «Земля наша была свободна, — вспоминал это время Греч, — но отяжелел воздух; мы ходили на воле, но не могли дышать, ненависть к французам возрастала по часам». Шведский посол Стединг доносил своему королю Густаву IV, что в Петербурге «не только в частных собраниях, но и в публичных собраниях толкуют о перемене правления».
До перемены дело не дошло, но правительство Александра к началу 1812 года оказалось в очень затруднительном положении. Дворянство не могло простить царю позор Тильзитского мира и в то же время очень неохотно шло на жертвы ради новой войны. Современник, характеризуя настроение московского дворянства, писал: «Целый город в унынии, десятая часть наших доходов должна обращаться в казну… Подать сама не так бы была отяготительна… но больно платить с уверением, что от помощи сей не последует польза… Нет упования в мерах правительства: не получится и отчета в их употреблении». Правительству совершенно перестали верить, не надеялись, что оно сможет когда-либо взять реванш за Аустерлиц и Фридлянд.
Был еще один фактор, который очень тревожил правительство. Ненависть к французам-победителям не мешала проникновению во все слои населения французской революционной «заразы». Пример великой революции наводил кое-кого на страшные для самодержавного правительства мысли.
Когда графу Ростопчину, будущему московскому главнокомандующему, было предложено составить записку о состоянии Москвы, он с тревогой сообщал: «Трудное положение России, продолжительные войны и паче всего пример французской революции производят в благонамеренных уныние, в глупых — равнодушие, а в прочих — вольнодумство». Перспективы на будущее, по Ростопчину, очень печальные: ожидается не больше и не меньше как революция, «начало будет грабежи и убийство иностранных (против них народ раздражен), а после бунт людей барских, смерть господ и разорение Москвы… Трудно найти в России и половину Пожарского; целые сотни есть готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера». Другой осведомленный человек, не столь трагических настроений, все же находил, что его соотечественники «не изображали в себе сей душевной силы, какой должно ожидать от российской нации, призванной на поле чести для совершения великого дела избавления Европы».
Прогнозы этих энтузиастов самодержавного порядка не оправдались — революции в России не произошло, но русский народ нашел в себе силы защитить свою родину и избавить Европу от наполеоновского владычества.
2
В конце 1811 года стало ясно, что война с Наполеоном неизбежна. «Военные действия могут начаться с минуты на минуту», — писал Александр I своей сестре Екатерине Павловне. Русские войска подтягивались к западным границам.
В начале марта 1812 года гвардия получила приказ выступить из столицы в Виленскую губернию.
Известие о выступлении гвардейская молодежь приняла с восторгом. Много лет спустя Александр Муравьев, основатель первой декабристской организации, тогда офицер Главного штаба, вспоминал, как он и его друзья «одушевились общим и торжественным чувством, забыли свои нужды и с восхищением получили повеление передать свои занятия другим и самим отправиться в Вильно». Все были одушевлены мыслью отомстить за неудачи прежних войн. «Дух патриотизма без всяких особых правительственных воззваний сам собой воспылал».
В рядах почти каждого гвардейского полка выступили будущие декабристы. Трубецкой, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы, Лунин, Волконский, Пестель и многие другие были среди тех, чьи сердца «пламенели сразиться с неприятелем», среди тех, кто брался за оружие «на кару угнетателей и освобождение подавленных народов».
Седьмого марта в шесть часов утра Литовский полк был выстроен на полковом дворе. Отслужили молебен. Шеф полка великий князь Константин Павлович пропустил литовцев церемониальным маршем, пожелал счастливого пути, и полк двинулся в поход.
Это было первым серьезным испытанием молодого прапорщика Пестеля. Поход был трудным.
«Вначале движение затрудняли глубокие снега, — рассказывает историк полка. — Часто вследствие усталости солдат, выбившихся из сил в снегу выше колена, приходилось изменять маршрут, давая дневки и отдыхи. По мере движения к юго-западу и наступления весны дороги делались непроходимы от грязи, а вскрывшиеся ото льда реки, на которых не было постоянных мостов и переправ, задерживали движение эшелонов, а в особенности обозов. Особенно затруднительна была переправа через Двину у Динабурга.
Бедность и малонаселенность страны, по которой приходилось двигаться, чрезвычайно затрудняли продовольствие полка. Часто комиссариатские чиновники совершенно отказывались от возложенного на них поручения продовольствовать полк. Доставка фуража была особенно затруднительна, и лошади по целым неделям питались соломой с крыш».
В мае литовцы прибыли к цели своего назначения.
Они расквартировались близ Свенцян в местечке Свири, в шестидесяти пяти верстах от Вильно. Неподалеку, по другим местечкам, расположились и остальные гвардейские части.
Кажется, в первый раз Пестель почувствовал всю разницу между собой и отцом. Павел Иванович писал домой письма, исполненные самых пылких патриотических рассуждений, но ни слова о грядущей войне не было в письмах, получаемых Пестелем от отца. Они были полны советов, как вести себя с товарищами и как заслужить благосклонное внимание начальства.
И Павлу Ивановичу приходилось вступать в рассуждения о своих служебных успехах, успокаивать отца в отношении своего поведения.
Известие о переходе наполеоновской армии через Неман, казалось, вернуло Ивана Борисовича к грозной действительности. Патриотический подъём сына находит, наконец, отклик у отца.
«Содержание твоих писем тронуло меня и доставило величайшее удовольствие, — пишет Иван Борисович Павлу 14 июля 1812 года. — Они имеют характер писем человека чести, усердного солдата, пламенного патриота…»
«Твой дядя Леонтьев здесь (то есть в Петербурге), — сообщает он в другом письме. — Мы ему читали некоторые из твоих писем, и у него слезы на глазах, когда он читал то место, где ты говоришь, что с благословения родителей ты исполнишь свой долг, как верный гражданин и ревностный солдат. Он мне сказал: «Я всегда ожидал, что наш Павел отличится во всяком случае».
Но подходящий случай представился не скоро. Все лето Литовский полк, входивший во вторую гвардейскую пехотную бригаду, находился в резерве и в сражениях не участвовал.
Наконец в конце августа стало известно, что готовится решительное сражение.
Главнокомандующим русской армией был назначен замечательный русский полководец, любимый ученик Суворова — М. И. Кутузов. Вся армия с восторгом повторяла слова старого полководца, обращенные к солдатам: «Можно ли отступать с такими молодцами!»
Приезд Кутузова отмечали, словно большой праздник, все поздравляли друг друга, как будто победа была уже одержана.
Место для решительного сражения выбрано было в двенадцати километрах к западу от Можайска — у села Бородина.
3
Литовский полк стоял у Бородина.
В шесть часов утра 26 августа сигнальный выстрел с французской батареи Сорбье возвестил о начале сражения.
До середины дня литовцы не принимали непосредственного участия в битве. С того места, где они располагались, трудно было следить за ходом боя, но страшная непрекращающаяся канонада, масса раненых, которых мимо литовцев проносили в тыл, отрывочные фразы ординарцев, скакавших мимо, ясно говорили об огромных размерах битвы.
В половине двенадцатого полковник Толь привез командиру бригады Храповицкому приказ о выступлении. И три полка — Финляндский, Измайловский и Литовский — с бригадой сводных гренадерских батальонов и артиллерийскими ротами двинулись к Багратионовым флешам, только что занятым французами. Падение флешей угрожало всему русскому левому флангу; отряду Храповицкого велено было остановить французов во что бы то ни стало.
Неприятель выдвинул свою артиллерию к самому краю Семеновского оврага и бил в упор по вновь прибывшей русской колонне. Литовцев осыпали десятки ядер и гранат, вырывая целые ряды идущих.
Едва литовцы перестроились, как огонь неприятельской артиллерии прекратился, и в рассеивающемся дыму показались французские кирасиры на высоких статных лошадях. Они легко преодолели овраг и лавиной неслись на литовцев. «Огонь!» — пронеслась команда. И, в тот же миг грянул залп.
Пестель только видел, как под одним кирасиром взвилась лошадь, и тот грянулся оземь. «Ура!» — не помня себя, закричал Пестель. «Ура!» — подхватили солдаты и бросились на кирасир. Но те уже поворачивали коней и в беспорядке уходили за овраг.
Французы бросились во вторую атаку. Но снова были рассеяны батальным огнем.
Опять на литовцев обрушился огонь четырехсот орудий. Обстрел усилился еще более, когда французы после нескольких атак заняли высоту на левом фланге литовцев.
…Ядра, гудя, вгрызались в землю, разнося все на своем пути; ветер взметал тучи пыли со взрытой земли, и черное густое облако стояло над русскими позициями. Изувеченные люди и лошади лежали грудами; повсюду, шатаясь, брели раненые и падали тут же на трупы товарищей. Атаки неприятельской кавалерии русские считали отдыхом: так страшен был артиллерийский обстрел.
Литовцы, потерявшие уже больше половины своего состава, пошли в атаку на занятую французами высоту, но были отброшены с тяжелыми потерями. Их зеленые мундиры сплошь покрыли склоны возвышенности. Командир полка полковник Удом был тяжело ранен, принявший командование полковник Шварц повел оставшихся в живых литовцев во вторую атаку. Среди них был и прапорщик Пестель. До вершины оставалось уже немного. Впереди замелькали синие мундиры французских пехотинцев; они бежали навстречу, стреляя на ходу. «Сейчас в штыки, и мы их выбьем», — подумал Пестель, но в тот же момент он почувствовал, как что-то сильно обожгло левую ногу. Пестель упал.
А мимо бежали солдаты его батальона. Волна русских снесла французов с высоты. «Наша взяла!» — пронеслась мысль в мозгу Пестеля, и он потерял сознание.
4
30 августа донесение князя Кутузова царю о Бородинском сражении было напечатано в «Северной пчеле». «Кончилось тем, — доносил Кутузов, — что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». Говорилось в донесении и об огромных потерях с обеих сторон. В Петербурге наступили беспокойные дни. Почти в каждой семье с тревогой ожидали известий о сыновьях, отцах, братьях, мужьях, находившихся в армии.
Иван Борисович не находил себе места. Мысль, что Павла, может быть, уже нет в живых, не давала ему покоя. Но перед женой он старался бодриться, видя, что она переживает едва ли не больше его.
В начале сентября он получил записку от графа Аракчеева с просьбой срочно приехать к нему. Еще не зная, в чем дело, Иван Борисович очень разволновался. Старик слышал, что из действующей армии приехал брат графа с какими-то известиями.
Аракчеев встретил Пестеля с несвойственной ему предупредительностью. На длинном сером лице его блуждало какое-то подобие сочувственной улыбки. Он представил Пестелю своего брата и пояснил, что тот приехал в Петербург прямо из армии и что в Бородинском сражении, находясь подле князя Багратиона, он имел возможность видеть сына Ивана Борисовича. Аракчеев говорил медленно, спокойно, не без удовольствия наблюдая, какое впечатление производят его слова на Пестеля. Кончив говорить, Аракчеев скорбно улыбнулся и кивнул брату.
Тот начал без предисловий:
— Я знаю всех, кто ранен, кто убит, — угрюмо произнес он, — прапорщик Пестель убит или тяжело ранен, сам я видел, как он упал, действуя со стрелками ввечеру двадцать шестого августа. Да и не он один, вот еще…
Но Иван Борисович уже ничего не слышал, слезы выступили у него на глазах, он схватился за голову и зарыдал. Аракчеев все с той же улыбкой покосился на брата. Тот замолчал и махнул рукой.
Иван Борисович не помнил, как вышел из кабинета Аракчеева, как сел в карету. Перед домом он постарался взять себя в руки; избегая домашних, он быстро прошел к себе в кабинет и заперся там.
Несколько дней прошло как в угаре. В надежде, что сын, может быть, только ранен и отправлен в Москву, Иван Борисович собрал все имевшиеся у него деньги — тысячу рублей — и отослал их в Москву на имя гражданского губернатора Обрескова с просьбой передать их сыну. Тревожные слухи, что Москва накануне сдачи, уже ходили по Петербургу. Иван Борисович знал, что родные и близкие уже покинули город. Это и заставило его обратиться к Обрескову.
Только к концу сентября все окончательно выяснилось: родители узнали, что Павел действительно ранен, ранен в левую ногу с раздроблением берцовой кости и повреждением сухожилий. Иван Борисович начал хлопотать, чтобы сына как можно скорее привезли в Петербург.
Несколько утешило родителей известие о награде, которую получил сын. «Я был тронут до слез, — пишет отец Павлу 5 ноября, — когда граф Аракчеев рассказывал мне, что главнокомандующий кн. Кутузов дал тебе шпагу «за храбрость» на поле сражения. Этой награде ты обязан своим заслугам, а не протекции и милости. Вот, мой друг, как вся наша фамилия, т. е. дед, мой отец и я, мы все служили России (нашему отечеству); ты едва вступил в свет, а уже имел счастье пролить кровь свою на защиту твоего отечества и получить награду, которая блистательным образом доказывает это. В настоящее время, более чем когда-либо, славно быть подданным России. Мы готовы истребить французскую армию, не выпустив ни одной живой души».
Павел Иванович Пестель приехал в Петербург в декабре 1812 года. Рана оказалась очень серьезной, почти восемь месяцев он пролежал в доме родителей. Он почувствовал себя лучше только в апреле 1813 года и 7 мая с еще не закрывшейся раной, из которой выходили кусочки кости, отправился за границу, в штаб действующей армии. Родители его не удерживали, видя, что все их уговоры были бы бесполезны. Правда, за это время Иван Борисович сумел выхлопотать сыну назначение более подходящее, по его мнению, чем должность простого офицера: место адъютанта у главнокомандующего русской армией графа Витгенштейна. Еще в январе Павел Иванович был произведен в подпоручики, отец надеялся, что на виду у Витгенштейна сыну удастся быстро продвинуться.
Но молодого Пестеля продвижение по службе заботило куда меньше, чем его родителя. Мысли и интересы Павла были заняты другим. На его глазах совершались большие события, и он жадно вглядывался в то новое, что раскрывалось перед ним. Еще будучи дома, он внимательно следил за всем, что происходило в стране: сдача и пожар Москвы, отступление французов, народная война… Наконец 25 декабря 1812 года он с волнением читает манифест, возвестивший окончание Отечественной войны. Через три дня после этого, 28 декабря, стало известно, что главные силы русской армии вступили в Вильно.
Поводов для размышления было много. И оценить все происходившее во всей его глубине Пестель тогда еще не мог, но то великое, что совершалось на его глазах, заставляло смотреть по-новому и на Россию, и на народ ее, и на собственное будущее.
5
Началось с бурного патриотического подъема, люди понимали, что значит Отечественная война. Все слилось в единодушном стремлении изгнать врага.
Но у значительной части дворянства ненависть к Наполеону объяснялась не только тревогой за судьбу родины, но и беспокойством за целостность крепостного права. Это беспокойство отлично выразил Сергей Глинка в статье, опубликованной в «Русском вестнике». «Решительно можно сказать, — писал он, — что Бонапарт — вождь французского ада — страшен не по военным дарованиям, но по замашкам политическим».
Даже лучшие представители дворянства опасались, что Наполеон может стать инициатором новой пугачевщины. «Я боюсь прокламаций, — писал генерал H. Н. Раевский в июне 1812 года, — чтобы не дал Наполеон вольности народу, боюсь в нашем крае внутренних беспокойств».
Эти опасения не имели оснований. Крестьяне Витебской, Смоленской, Тверской, Московской и других губерний, дружно поднявшиеся на защиту родины, не рассчитывали на «помощь» Наполеона.
Сам Наполеон говорил впоследствии: «Я мог бы вооружить против России большую часть ее населения, провозгласив освобождение рабов… Но когда я увидел огрубение этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры, которая предала бы множество семейств на смерть и самые ужасные мучения».
Но дело было не в филантропии. Его собственные генералы прекрасно объясняли причину этого отказа. «Природа Наполеона влекла его более к интересам государей», — писал по этому поводу генерал Сегюр; Дедем де Гельдер полагал, что разговоры об освобождении крестьян шли «слишком вразрез с его личными интересами и с его деспотической системой правления, чтоб этому можно было верить… Для него слишком было важно упрочить монархизм во Франции, и ему трудно было проповедовать революцию в России».
Опасность была с другой стороны: не крестьяне, а дворяне забывали патриотический долг. Русские помещики зачастую быстро находили общий язык с французскими буржуа.
О трогательном классовом единодушии представителей двух враждующих народов прекрасно говорит тот факт, что в Смоленске французскими комиссарами по доставке продовольствия французской армии были русские помещики. В их функции входила, в частности, охрана помещиков от их крестьян. Особенное уважение французов завоевал «комиссар» Щербаков: он отлично снабжал их продовольствием, а заслышав о партизанском отряде, во главе французской части шел усмирять «мятежников».
Конечно, были среди помещиков и такие, которые боролись с захватчиками с оружием в руках, например отставной офицер Нахимов, один из организаторов партизанских отрядов на Смоленщине, помещик Энгельгард, расстрелянный французами. Но таких были единицы. Инициатива народной войны принадлежала крестьянству. Ее пожар сразу охватил многочисленные деревни, подвергавшиеся нападению французских войск, и все оккупированные захватчиками селения.
На организацию партизанских отрядов крестьян правительство никак не рассчитывало. Ополчение по помещичьей разверстке, материальная поддержка — это одно, но самостоятельные выступления против захватчиков — это другое. Самостоятельные действия крестьянства пугали Александра I. «Жители, — писал А. П. Ермолов, — предлагали содействовать, не жалея собственности, не щадя самой жизни», но «приходили ко мне спрашивать, позволено ли им будет вооружаться против врагов и не подвергнутся ли они за то ответственности». Крестьяне понимали, что их патриотизм может им дорого обойтись.
Федор Глинка в своих письмах сетовал: «Война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, вооружаться и действовать где, как и кому нужно». Народ начал партизанскую войну сам, вопреки желанию правительства.
Уже в августе 1812 года крестьянские партизанские отряды, действовавшие в Сычевском, Гжатском и Вяземском уездах, наносили неприятелю чувствительный ущерб; менее чем за полмесяца они имели пятнадцать стычек с французами, убили пятьсот семьдесят два и взяли в плен триста двадцать пять наполеоновских солдат.
Особенно отличался отряд сычевской крестьянки Василисы Кожиной. Блестящие действия ее отряда сделали известным имя «старостихи Василисы» по всей России.
«Смоленская губерния весьма хорошо показывает патриотизм, — писал Багратион в одном письме, — мужики здешние бьют французов… где только попадаются в мелких командах… Страх, как злы на неприятеля из-за того, что церкви грабит и деревни жжет».
От смолян не отставали москвичи. Когда французы заняли Богородский уезд Московской губернии, жители села Павлова, по инициативе крестьянина Герасима Курина, организовали партизанский отряд. В первой же стычке с неприятелем крестьяне одержали победу. Успех окрылил их, с каждым днем нападения на французов делались все смелее и смелее. Французское командование решило разделаться с отрядом Курина и двинуло против него крупные силы. Со своим отрядом, насчитывавшим около шести тысяч пеших и пятьсот конных бойцов, Курин решил принять бой. В жестоком сражении французы были разбиты, и только ночь спасла их от полного уничтожения.
Федор Потапов, прозванный Самусь, организовал конный отряд в двести человек, который вооружил палашами, взятыми у убитых французов, и одел в латы французских кирасир. «Причиня величайший вред неприятелю, — сообщает современник, — всегда неустрашимый и бескорыстный Самусь сохранил почти все имущество храбрых своих крестьян, которые любили его, как отца».
Такой же грозной известностью пользовались отряды Николая Овчинникова, Четвертакова и многих других.
Настоящую помощь крестьянским отрядам организовал М. И. Кутузов, когда вступил в командование русской армией. Армейские партизанские отряды Дениса Давыдова, Фигнера и Сеславина действовали в тесном контакте с крестьянскими партизанскими отрядами, и этому контакту Кутузов придавал большое значение. Так в наставлении капитану Сеславину он писал: «Отобранным от неприятеля оружием вооружить крестьян, от чего ваш отряд весьма усилиться может, пленных доставлять сколько можно поспешнее, давая им прикрытие регулярных войск и употребляя к ним в добавок мужиков, вооруженных вилами и дубинами. Мужиков ободрять подвигами, которые оказали в других местах».
И такое одобрение не осталось без результата. «Шайки неприятельские истребляются всюду вооружившимися крестьянами, — сообщает очевидец. — Они не допускают врага отнимать хлеб и опустошать уезды Московской губернии. Подмосковные мужики, ободряемые казаками, показывают храбрость и неустрашимость, возбуждающие удивление самых старых солдат. Их не только не нужно было понуждать к бою, но с трудом удерживать можно было стремление, с коим они защищали свои селения, убивая все то, что дерзало им противустать».
Из-за действий партизанских отрядов фуражировка французской армии стала фактически невозможна. Только до конца сентября партизаны убили и взяли в плен около тридцати тысяч солдат и офицеров противника.
Пять месяцев — срок небольшой, но за этот срок русский крестьянин показал всему миру, на что он способен, пять месяцев он чувствовал себя хозяином своей земли и по-хозяйски же расправлялся с незваными гостями. Но прошли эти трудные великие месяцы, и одним из первых распоряжений правительства, ознаменовавших окончание Отечественной войны, был приказ отобрать у крестьян оружие. Хозяин снова становился рабом, а рабам оружия не полагается.
30 марта 1813 года было распущено Смоленское ополчение. В указе по этому поводу говорилось: «Да обратится каждый из храброго воина паки в трудолюбивого земледельца и да наслаждается посреди родины и семейства своего приобретенными им честью, спокойствием и славою».
Бывшие ополченцы, понимая слова царского манифеста буквально, конечно, не могли связать крепостное право со своей честью, спокойствием и славой. Многие из них говорили, что лучше пойдут в Сибирь, чем будут работать на барина. Власти жестоко расправлялись с подобными «бунтовщиками». Народ понимал, что заслужил свободу, и потому возвращение в «первобытное состояние» крепостного права было вдвойне тягостно и унизительно.
6
Общее наступление русской армии продолжалось безостановочно. 1 января 1813 года она перешла Неман, а в начале февраля находилась уже на берегах Одера. Пруссия откололась от наполеоновской коалиции и присоединилась к России. 12 апреля соединенные русско-прусские войска вступили в Дрезден.
Но вскоре после того союзникам пришлось столкнуться с новой армией Наполеона. 20 апреля произошло сражение при Люцене. Как раз в этот день Витгенштейн принял командование союзной армией. При армии находились оба монарха, русский и прусский, которые, не считаясь с командующим, распоряжались всем, как им заблагорассудится. Витгенштейн был главнокомандующим только по названию. А отсутствие единоначалия против такого полководца, как Наполеон, естественно, оказалось роковым. Союзникам пришлось отступить, оставив поле боя за французами.
Вслед за Люценом Наполеон занял Дрезден. 9 мая союзники проиграли сражение при Бауцене. В армии все громче раздавались толки о неспособности Витгенштейна.
Витгенштейна нельзя было, конечно, назвать лучшим преемником Кутузова. Он был знающим и храбрым генералом, но в то же время слишком беспечным и слабохарактерным.
В армии не было порядка, порой в штабе не знали, где располагалась та или иная часть. Боязнь Витгенштейна пресечь влияние царя на ход военных действий еще усиливала эти беспорядки. При всем том русские и пруссаки ждали от Витгенштейна скорых и решительных побед над французами.
Пестель прибыл в штаб действующей армии сразу после Бауценского сражения. 10 мая он уже участвует в деле при Пирне, а через несколько дней в трехдневном и опять неудачном для союзников сражении при Дрездене.
Всего неделю Пестель был адъютантом главнокомандующего союзными войсками. 17 мая Витгенштейн сдал командование армией Барклаю-де-Толли.
Может, и это не принесло бы союзникам успеха, если бы из Америки не приехал старый противник Наполеона французский генерал Моро. Он дал союзникам ценнейший совет: не стараться сразу разбить самого Наполеона, а бить по одиночке его маршалов — обрубать щупальца корсиканскому осьминогу, — а потом уже обрушить на Наполеона всю силу своих многочисленных армий.
С этого начался новый этап войны. Корпус Вандамма был разбит при Кульме и попал в плен. Макдональд потерпел поражение при Кацбахе. Ней был разгромлен при Денневице. И, наконец, в середине октября 1813 года, в «битве народов» при Лейпциге, потерпел поражение сам Наполеон. Участь кампании 1813 года была решена: союзные армии вплотную подошли к границам Франции.
Витгенштейн и сам сознавал свои слабости и умел ценить в людях волю и целеустремленность. Эти качества он угадал в молодом Пестеле. Новый адъютант пришелся ему по душе. И скоро в штабе отдельной армии, которой был назначен командовать Витгенштейн, отметили, что Пестель пользуется несомненным влиянием на командующего.
За отличие в сражениях при Пирне и Дрездене Витгенштейн представил Пестеля к чину поручика.
В течение 1813 года Пестель побывал в двенадцати сражениях и среди них в таких, как сражение при Кульме и Лейпциге.
18 декабря он участвует в переправе через Рейн и уже на французской территории в штурме крепости Форт-Луи. За кампанию 1813 года его грудь украсили три ордена: русский орден св. Владимира IV степени, австрийский орден Леопольда III степени и баденский военный орден Карла-Фридриха.
Семь с половиной месяцев пробыл Пестель в Германии. По-новому она предстала перед ним. С грустью смотрел он на знакомые места, когда в мае 1813 года ему пришлось с армией кочевать по Саксонии. Везде следы боев, следы пожарищ: французы при отступлении выжгли многие деревни и городки.
«И после этого, — думал Пестель, — нас еще обвиняют в варварстве, когда, пожалуй, во всей занятой нами Германии не найдется ни одного человека, кто пожаловался бы на дурное поведение русских солдат».
Еще в марте 1813 года Наполеон приказал одному из своих маршалов, при малейшем оскорблении или нападении на него со стороны какой-нибудь деревни или города жечь их, хотя бы это был сам Берлин. А в немецких газетах Рейнского союза печатались басни о зверствах казаков, калмыков, башкир и прочих «азиатов». Некоторые договаривались до утверждения, будто бы русского народа как такового нет, что «русские — собирательная кличка для целого ряда диких азиатских племен».
Вскоре Пестелю представился случай припомнить разглагольствования немецких газет об «азиатах».
В феврале 1814 года Витгенштейн отправил Пестеля во главе нескольких казаков с поручением во французский городок Бар-сюр-Об. Когда они прискакали туда, то заметили на улицах странное смятение; оказалось, что баварцы только что вытеснили из города недавних своих союзников — французов и деятельно принялись грабить население. По улицам тянулись целые вереницы баварских солдат, нагруженных тюками с награбленным. Из домика, у которого остановились русские, раздавались громкие крики. Пестель быстро спрыгнул с лошади, велел казакам спешиться и идти за ним. Они вошли в комнату и увидели, как три баварца тащат перину из-под еле живой старухи. Та кричит, умоляет оставить ей несчастную перину, а три дюжих парня деловито отдирают ее пальцы от перины.
— Что вы делаете? — по-немецки громко спросил Пестель.
— Разве вы не видите? — спокойно ответил один солдат и пинком сбросил старуху с перины.
Та охнула и замолчала.
— Ах, так! — закричал Пестель, обернулся к казакам и приказал; — В нагайки их, ребята! Чтобы духу их здесь не было!
Казаки бросились на солдат и принялись отделывать их нагайками. Баварцы с воплями бросились на улицу. Пестель с казаками — за ними. Но баварцы припустились так, что догонять их не имело смысла.
— Вот так надо учить эту сволочь, — проговорил Пестель и пошел к лошадям.
Вдруг сверху, из окна второго этажа, послышалась немецкая речь:
— Что это значит? Бьют людей, как собак! Как вы смеете?
Пестель поднял голову и увидел в окне второго этажа мужчину с холеным злым лицом. Он был в халате и держал в руках трубку. Это был баварский офицер, который решил заступиться за своих солдат.
— Стащить скотину! — закричал Пестель казакам. Те бросились наверх, и вскоре из окна раздались ругательства, звуки возни, и через несколько минут в дверях дома показался человек в халате, которого, волокли два казака, скрутив ему руки за спиной. Пестель приказал его тут же разложить и высечь.
«Впредь чтоб неповадно было защищать мародеров», — сказал он.
Через несколько дней Витгенштейн подозвал Пестеля и сказал ему с улыбкой:
— Что это вы, дорогой, наделали? На вас поступила жалоба. Баварское командование требует предать вас суду за нанесение жестоких побоев баварскому майору и трем его солдатам.
Пестель смутился.
— Позвольте узнать, ваше сиятельство, что же вы решили? — спросил он.
— Я им посоветовал не доводить это все до сведения нашего государя, не то им же будет хуже. Со своей стороны, я ваши действия вполне одобряю, только впредь будьте несколько осторожней. Говорят, майор сейчас в больнице.
7
Франция встретила союзников неприветливо. Сама природа, казалось, была против них. Дождь, снег, оттепели и морозы затрудняли движение войск. Французы сражались ожесточенно, и союзникам приходилось порой очень туго.
В 1814 году Наполеон в нескольких сражениях сбил наступающие союзные армии и заставил их отойти на восток. После победы при Труа участь союзников казалась Наполеону решенной, но те ловким маневром обошли его армию, смяли при Фершампенуазе отряды маршалов Мармона и Мортье и быстро двинулись к Парижу. Союзники понимали, что взятие столицы Франции будет решающей политической победой. 18 марта 1814 года Париж пал. Наполеон отрекся от престола и был выслан на остров Эльба, предоставленный ему в пожизненное владение.
В кампании 1814 года Пестель участвовал в сражении при деревне Ля Брюссель 19 февраля, в сражении при Труа 20-го, а 19 марта в рядах победоносной русской армии вступил в Париж.
Это был памятный для Пестеля день, и не только по чувству гордости за свою армию и свой народ, но и по другим впечатлениям. Он внимательно прислушивался, пытливо всматривался во все, что происходило вокруг него.
Он видел, как угрюмо встречали союзников парижские предместья и как ликовал центр. Простые люди окраин настороженно молчали, изысканно одетые франты на центральных площадях и улицах кричали: «Да здравствует император Александр!», а кое-кто прибавлял: «Да здравствует король!»
Союзники в своем обозе везли законную власть Франции, восстанавливали веками освященный порядок. В этот день в Париже воцарился «божьей милостью король Франции и Наварры» Людовик XVIII. Как бы подчеркивая, кому старая дворянская Франция обязана своим возвращением, графиня Перигор проехала по всему Парижу верхом на лошади позади казака.
«Порядок» был восстановлен. Но не совсем старый. В манифесте по поводу своего водворения на престол предков Людовик XVIII объявлял, что он решил принять либеральную конституцию и обязался «положить в основу этой конституции представительную форму правления, разрешение налогов палатами, свободу печати, свободу исповедания, безвозвратность продажи национальных имуществ, ответственное министерство, несменяемость судей…».
Людовик с радостью подписал бы не манифест о свободах, а смертные приговоры бывшим якобинцам, он с радостью подписал бы акты о возвращении своим соратникам-эмигрантам их имений, а не гарантировал бы «безвозвратность продажи национальных имуществ». Но меньше чем через четыре месяца должно было исполниться двадцать пять лет с того дня, когда пушки парижан, штурмовавших Бастилию, возвестили миру, что наступил новый день человечества; и гром этих пушек до сих пор звучал в ушах Людовика XVIII и напоминал ему, что к прошлому возврата нет и быть не может.
Пестель, которого 1812 год научил верить в силы народа, еще раз получил подтверждение этой силы. Он ясно видел, что французы соглашаются терпеть Бурбонов только потому, что устали от тирании Наполеона и обескровели в его войнах, но что искушать этот народ все же не следует.
Впрочем, если еще Людовик XVIII сознавал это, то его брат и племянники и вся свора эмигрантов, ничего не забывших и ничему не научившихся, вели себя очень безрассудно. Они во всеуслышание требовали возвратить им потерянные при революции имения. Из провинции доходили слухи об избиении крестьян дворянами и насильственном отобрании земли. Духовенство принялось преследовать «вольтерьянцев». В армии задавали тон дворяне-эмигранты, в которых старые наполеоновские служаки не отвыкли еще видеть своих недавних врагов. Все это не располагало Францию к спокойствию.
Русский царь был проницательней Бурбонов, он понимал, что без конституции они не имеют шансов закрепиться во Франции, и уговорил Людовика XVIII подписать конституцию. Но все его убеждения подействовать на королевских родственников и приближенных и заставить их вести себя поскромнее не дали результатов.
Тогда Александр I сделал вид, что умывает руки.
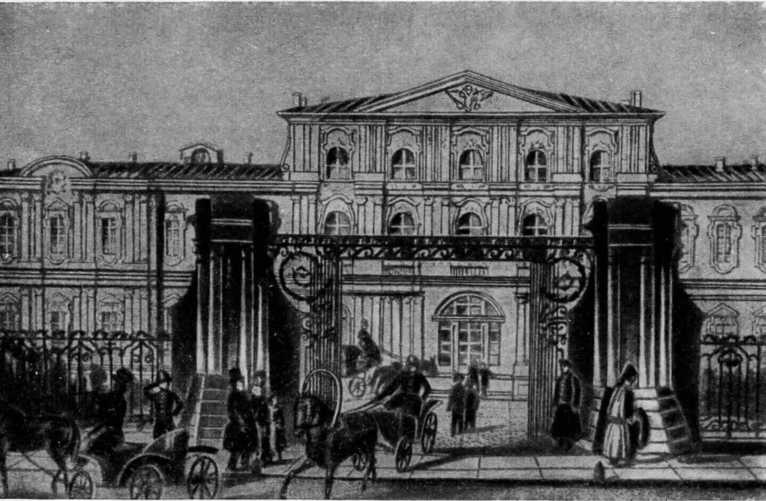
Пажеский корпус в Петербурге.

П. И. Пестель. Портрет работы его матери Е. И. Пестель (1813).
В либеральном салоне госпожи де Сталь царь возмущался раболепством французской прессы, заметив мимоходом, что в России нет ничего подобного, и сетовал, что его добрые намерения не были поняты французским королем. Он презрительно отозвался о Фердинанде VII Испанском, который, вернувшись в Испанию, отменил конституцию.
Бурбоны не исправились и неисправимы, — говорил Александр, — они полны предрассудков старого режима. На мирном конгрессе в Вене я потребую уничтожения невольничества. — И в ответ на удивленные взгляды присутствующих пояснил: — За главой страны, в которой существует крепостничество, не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников; но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с божьей помощью, крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование.
Последние слова царь произнес нарочито громко, обратившись к старику Лафайету, известному деятелю французской революции. Французские либералы провозгласили Александра «чудом, ниспосланным Провидением для спасения свободы».
Каково это было «чудо» для подданных царя, видно из рассказа одного офицера русской армии.
«Все время пребывания нашего в Париже, — пишет он, — часто делались наряды, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе. Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улице встречали… Такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашем из Парижа множество осталось их во Франции. Офицеры тоже имели своих притеснителей…» И результат был таков, что царь «приобрел расположение французов и вместе с тем вызвал на себя ропот победоносного своего войска». На последнее Александр, впрочем, не обращал внимания, ведь либеральные фразы предназначались не для русских.
А для русских офицеров и без того хватало впечатлений. Сам дух Франции внушал большинству из них, «вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности, мысль, что гражданину свойственны обязанности» не только перед монархом, но и перед обществом.
Они с жадностью прочитывали французские газеты и журналы, удивляясь «красноречию их издателей» и сожалея, что «мы еще далеки от них в этом отношении». Задумываясь над тем, в чем же причина их «занимательности», один из офицеров находил, что «большая часть их слов основана на теории прав человечества и народов», а потому все, даже те из русских, которые закоренели в предрассудках и коих сила и слава в непризнании этих великих правил, охотно занимаются парижскими журналами».
Много толков было о немецком Тугендбунде — политической организации, возникшей в 1808 году в Кенигсберге. «Целью общества, — говорилось в его уставе, — является произвести улучшение нравственного состояния и благосостояния прусского, а затем немецкого народа единством и общностью стремлений честных людей. Средства общества — слово, письмо и пример». Официально общество просуществовало до 1809 года и было закрыто по требованию Наполеона, разгадавшего под невинной оболочкой «Союза добродетели» общество, организованное в целях национального возрождения и борьбы против французского господства. На эту организацию косились и немецкие монархи — в Тугендбунде собрались люди, готовые вести борьбу не только против Наполеона, но и желавшие видеть Германию объединенной и реформированной. Отмечалось среди прусских офицеров — членов Тугендбунда равнодушие к своему королю да и к монархии вообще.
В самой Франции силен был еще республиканский дух. Многие русские офицеры-масоны были вхожи во французские ложи. А в них не редкость было услышать речи о том, что настанет время, когда не будет никакой собственности, кроме вознаграждения за труд, что тогда народы не будут нуждаться в государях, а наиболее заслуженные, лучшие из людей, не называясь государями, будут посвящать себя служению человечеству исключительно из любви к нему. Великая цепь человечества не будет расчленена на звенья, не будет границ; руководимые любовью, люди станут жить в мире и согласии; и французская революция была только необходимым злом, в результате которого явится великое благо для следующего поколения.
В годы Отечественной войны и заграничных походов созревали революционные взгляды декабристов.
Один из первых декабристов, Сергей Муравьев-Апостол, признавал, что «трехлетняя война, освободившая Европу от ига Наполеона», и «введение представительного правления в некоторых европейских государствах… были источником революционных мнений» в России.
Иван Якушкин вспоминал, что «пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могли не изменить воззрений хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи: «при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос».
По словам Сергея Волконского, «все, что мы хоть мельком видели в 13 и 14 годах в Европе, породило во всей молодежи чувство, что Россия в общественном, внутреннем и политическом духе весьма отстала…».
Михаил Лунин использовал время своего пребывания в Париже для знакомства с социальным положением Франции, с ее историей и государственным устройством. Именно тогда он понял, что для него возможна «только одна карьера — карьера свободы».
Его двоюродный брат Никита Муравьев, в 1812 году бежавший шестнадцатилетним юношей из родительского дома в армию и заслуживший потом репутацию храбрейшего офицера, слушал в 1814 году лекции в Парижском университете. Он вынес из Франции твердое убеждение в необходимости для России конституции.
Его товарищем был Сергей Трубецкой, который в Париже посещал лекции «почти всех известных профессоров по нескольку раз» и мог, как все его друзья и единомышленники, подписаться под словами будущего декабриста Николая Тургенева, занесенными им в свой дневник 25 апреля 1814 года: «Теперь возвратится в Россию много таких русских, которые видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процвесть царства… После того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота».
В конце июля 1814 года Витгенштейн получил приказ возвратиться на родину и принять там командование 1-й армией, размещенной в Курляндии. Вместе с ним отбыл на родину и Пестель.
Пестель возвращался в Россию полный новых впечатлений и мыслей. Общеевропейская свобода должна была, по его мнению, сделать несомненные успехи, и он был горд сознанием, что на долю России выпала миссия европейского обновления.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Начало Отечественной войны — 22 июня 1941 года — застало меня в Москве. Я был преподавателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Кроме меня, в академии преподавали наши болгарские коммунисты Цвятко Радойнов и Иван Кинов-Чернов. В разные годы до этого
Глава четвертая Война и мир
Глава четвертая Война и мир 1 Наша батальная проза и поэзия часто забывают, что они в долгу перед Лермонтовым. И в каком долгу! Фактически он – первый в России мастер-баталист в литературе. Мы до сих пор не разделили в пространстве солдатскую – суровую и грустную картину,
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ППГ-2266
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ППГ-2266 В 1941 году Н. М. Амосов был призван в ряды Красной армии. В течение всей Великой Отечественной войны он служил на Западном, Брянском, 1, 2 и 3-м Белорусских фронтах, а также на 1-м дальневосточном фронте. Амосов был ведущим хирургом полевого
Глава четвертая ВОЙНА
Глава четвертая ВОЙНА Тыл и фронт Все 1418 дней Великой Отечественной войны на самолетах, созданных под руководством А. Н. Туполева, сражались экипажи частей Военно-воздушных и Военно-морских сил РККА. В боях и операциях использовались и военные, и транспортные, и
Великая Отечественная война
Великая Отечественная война “Сейчас последний день 1943 года, 16 часов. За окном шумит пурга, – писал Шостакович своему другу Исааку Гликману. – Наступает 1944 год. Год счастья, год радости, год победы. Этот год принесет нам много радости. Свободолюбивые народы наконец-то
Глава четвертая. Война.
Глава четвертая. Война. 1. 1941 г. Начало. У меня достаточно материала о войне: был ведущим хирургом Полевого Подвижного Госпиталя-2266 от начала до конца. Мне полагалось вести "Книгу записей хирурга" в которой отмечалась вся работа за каждый активный день: операции, смерти,
Глава четвертая. Война!
Глава четвертая. Война! Оружие, изготовлявшееся годами, войска, месяцами накапливавшиеся у наших границ, готовы к бою. Все рассчитано, продумано, и время удара определено с минутной точностью. Одновременно должны заговорить пушки, двинуться танки и упасть первые
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Через час я прибыл в ЛИИ. Собрал своих заместителей и начальников лабораторий. Каждый получил указания об организационных мероприятиях и дальнейших перспективных планах их работы.Началу войны народы нашей страны поразились, как грому
Великая Отечественная война
Великая Отечественная война Сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на СССР застало нас в Зубалове и всех повергло в шок. Я думаю, тогда никто, за очень и очень малым исключением — быть может, Сталина и верхушки военного командования, — не представлял себе,