Глава одиннадцатая
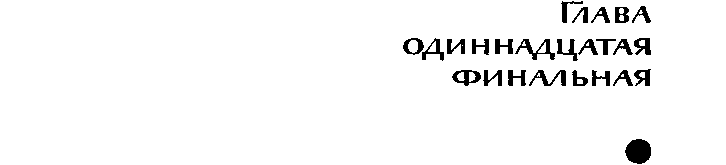
Глава одиннадцатая
Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но Север забывать грешно.
Так поспешай карлсбадские пить воды,
Чтоб с нами вместе пить вино.
А. Пушкин
1
Наступает час прощания с книгой, бывшей мне поддержкой и утешением в тяжелые минуты жизни. Но еще не все долги выплачены читателю. Остались неразгаданными «посмертные загадки», о которых, когда я о них спрашивала, где только могла, давался ответ: неизвестно, узнать невозможно, не ищите — все равно не найдете.
Загадками были: где в точности стоял дом Мысливечка в Риме, откуда вынесли его гроб? Кто был (и был ли) его ученик, англичанин мистер Барри, оставивший след лишь в строчке некролога Пельцля? Как отыскать место, где лежит смертный прах Мысливечка, о котором известно лишь то, что он похоронен в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина? И наконец, где и какие данные у меня, чтоб предположить не только знакомство (несомненное), но и дружеский подарок Мысливечка одному из первых композиторов русских, Максиму Созонтовичу Березовскому? Четыре загадки…
Начну выплачивать свои долги перед читателем в порядке их очередности, тем более что и по времени моих розысков они расположились именно так.
Иностранцы еще до начала прошлого века вступали в Вечный город через «Ворота народа», въездную арку, находившуюся на нынешней Пьяцца дель Пополо. Рим должен бы на своих холмах быть таким же грандиозным, как другие столицы мира, но он на самом деле маленький, и хотя нынче, за площадью Народа, продолжается его рост и заселение, как и за другими бывшими городскими воротами, но хорошему ходоку его нетрудно обойти пешком за три-четыре дня. А уж если говорить о центре, то весь он обозримо и узнаваемо, с мемориальными досками, дворцами и церквами, охватывается — по главной его артерии, от Пьяцца дель Пополо до Пьяцца Венеция — по узкому и ровному, как стрела, Корсо в один-единственный день.
Должно быть, не потому даже, что Корсо (в древности виа Фламиния) был центральной улицей Рима, а и в силу человеческой привычки селиться поблизости от «вокзала», от своего въезда в город, но большие путешественники XVIII века оседали на жительство именно по Корсо или в ближайшей близости к нему. Въехавший в Рим через Porta del Popolo Гёте поселился в доме № 18 по улице Деи Барбери и оставался там годы 1786–1787; неподалеку, на виа Систина, жил позднее наш Гоголь; и еще поздней на виа Бабуино — Вагнер… Именами больших его обитателей можно было бы заполнить целую книгу.
Джузеппе Мысливечек, въехавший, как и Гёте, в Вечный город через Porta del Popolo, жил и умер в Риме на коротком отрезке Корсо, ведущем от Пьяцца дель Пополо до Пьяцца ди Сан-Лоренцо ин Лучина. Когда я начала свои поиски, у меня в руках были свидетельства об этом чешских источников — чрезвычайно пышные. В них говорилось, что разбогатевший на стократной постановке «Меропы» Мысливечек примерно в 1775 году купил в Риме дворец, на площади дель Пополо, рядом с великолепным дворцом Боргезе, и вел в нем жизнь необычайно широкую, а разорившись под конец, умер в этом дворце «как собака на соломе», в полном одиночестве и нищете. Все эти данные, суммированные Ярославом Челедой в его книге, никогда не оспаривались позднее, хотя «дворец» и «смерть на соломе» были чересчур уж драматическими полюсами, очень похожими по меньшей мере на преувеличение. Свидетельство о смерти Мысливечка его биографам было уже известно и приведено в книге Челеды.
Но есть хорошее правило: во всем убедись собственными глазами, все перетрогай собственною рукой и землю перещупай, как поэт Шевченко учил, не чужими, а своими ногами. Это доброе правило привело меня прежде всего в библиотеку Ватикана — не ту, которую за деньги показывают каждому туристу, с ее великолепнейшими уникальными изданиями и манускриптами, с красотой расписных плафонов и арок (сперва, разумеется, я и в ней побывала, а для этого нужно было обойти ко входу в нее высочайшую каменную стену Ватикана чуть ли не на километр), но деловую библиотеку, где люди сидят и работают, в самом каменном сердце города Ватикана, Citt? di Vaticano, куда проходят лишь по особым пропускам.
Молодые красавцы из папской гвардии, одетые в свои средневековые костюмы, дали мне пройти с этим пропуском через ворота Святой Анны в библиотеку, а там я попала к милейшему старому профессору в сутане, Паоло Кюнцле — scrittore della Bibiioteca Vaticano, как он сам себя отрекомендовал. На этом первом этапе в каталогах «musica sacra» мы с ним не нашли никаких названий манускриптов Мысливечка, поскольку он не был капельмейстером папской капеллы; а искать сведения о его смерти профессор Кюнцле посоветовал мне в ватиканском викариате, доступном каждому без пропуска, и дал его адрес. На прощание он любезно показал мне всю библиотеку.
Мы пробрались с ним по высоким мосткам между длинными рядами ее стеллажей, и я снова вышла из ворот Santa Anna города Ватикана в шумные и неудобные улицы вокруг его каменных стен.
Теперь мне нужно было идти налево, к знаменитой площади собора Петра и Павла, раскрывающей, как широкое объятие, две свои руки — два полукруга колоннад Бернини — навстречу льющемуся и льющемуся в них потоку туристов всех рас и национальностей. Идти было долго, мимо множества лавочек, торгующих «святостями», образками и рельефами папы на одной и апостола Петра на другой стороне; бесчисленными открытками, изображающими веселое розовое лицо папы в белоснежной шапочке на белоснежных волосах и такой же белоснежной накидке с золотым шнуром — с собственным папским автографом. Папа Иоанн XXIII, или Джованни, как называют его итальянцы, подписался на них почему-то по-немецки «Iohannes» — Иоганнес…
У самого въезда на площади стояли старые коляски с понурыми извозчичьими лошадками, дремавшими опустив голову, — в век электроники особо интересно туристам прокатиться на таких лошадках и в Риме, и в Неаполе, и в Эдинбурге. Немало пришлось остановить прохожих и потрогать за обшлага полудремлющих извозчиков, чтоб узнать, наконец, где же это, в «левом крыле галерой Бернини», архив викариата, «адресный стол» римских покойников, покуда, наконец, взобравшись на второй этаж колоннады, я не очутилась в канцелярском, очень простом на вид, помещении викариата и познакомилась с его «заведующим», патером Николо Оккиони. Здесь не было никакой очереди справляющихся о покойниках. Справлялась одна я. И приятно записать, что в этой канцелярии покойников все обошлось не только без очереди, но невероятно скоро и споро. Римские покойники, не в пример многим живущим, пользуются своим покоем в образцовом порядке. Сперва принесли регистр, где вписаны по годам и дням месяца, имена покойников, — и здесь мы нашли имя Мысливечка Джузеппе под рубрикой 1781 года с указанием «folio L 77». Теперь на стол лег этот «фолио» — огромный том приходской церкви Сан-Лоренцо ин Лучина со списком похороненных с 1765 по 1781 год. Мы развернули его на листке 77 (San Lorenzo in Lucino XIV Morti in 1765—81 folio L 77) — и сразу, на первом месте, под 4 февраля 1781 года, нашли запись, которую, для удобства читателей, привожу в полной транскрипции данной мне копии, заверенной печатью архива Ватикана.
«А di 4 Febbraio 1781. Sig (nor)e D. Giuseppe Misliwecek di anni 65, mori all’improvviso, dimorante agli 8 Cantoni, e fu in questa Chiesa sepolto». In fede ecc… il prefetto Nicola Occhioni».
«Четвертого февраля 1781-го. Синьор Доминус Джузеппе Мысливечек шестидесяти пяти лет, умерший внезапно, живший на Восьми Кантонах, был похоронен в этой церкви…»
Все это я уже давно знала, все это, правда покороче, было напечатано в книге Ярослава Челеды, и справка-копия, полученная с печатью Ватикана, лишь подтверждала хорошо раньше известное. Но что такое «Отто Кантони», где жил Мысливечек? Действительно ли это был дворец на Площади дель Пополо?
Мои вопросы сперва затруднили отца Николу Оккиони. За нашим разговором с любопытством следил молодой монах, занимавшийся какими-то пыльными рукописями. Он перекинулся с отцом Оккиони замечаниями, и на сцене появился старый-престарый план города Рима — большая библиографическая редкость. То был план от 1748 года, отпечатанный на многих листах, — Pianta del Nolli, 1748. Вместо современных удобных обозначений в клетках — буквами горизонтально и цифрами вертикально — это был еще план, где на улицах, площадях и самих зданиях стояли, по всему протяжению плана, крошечные цифры (хоть в лупу их смотри!), а на приложенном к плану списке цифры эти расшифровывались в названиях, и наоборот: прочитав в списке нужное название, следовало искать это место среди цифр на плане.
Сперва в списке мы нашли «Площадь Восьми Кантонов», Piazza di Otto Cantoni, обозначенную цифрой 465 — точный римский адрес Мысливечка. Стоял ли на этой площади один его дом или там было несколько домов? И опять наклонились три наши головы над старинным планом, ища крохотную трехзначную цифру. Я была охвачена волнением, понятным читателю. Но, как, должно быть, молодой монах, с лицом серо-желтого цвета, говорившим о жизни без воздуха, среди келий и книг, скучал по всему, что нарушало монотонную его жизнь, если и он заразился моим волнением. Пока длились поиски, я спешно записывала для себя из списка ближайшие к моей цифре обозначения, чтоб восстановить окружавшую Мысливечка обстановку. Все больше больниц и госпиталей; № 476 — больница для неизлечимых Сан-Джакомо (она и сейчас стоит!); № 471 — госпиталь для женщин; № 470 — госпиталь для мужчин; № 456 — госпиталь для жителей Льежа; № 459 — церковь колледжа св. Джироламо де Скиавони с госпиталем per Nazionali (для националов?). Просто заколдованный круг всяких лечебных приютов для Incurabili, per le donne, per gli uomini, per le Nazionali… И совсем немного дворцов — Русполи, Рондинини, Манфрони…
Вот он! — сказал монашек и пальцем дотронулся до крошечного квадрата, на котором стояло 465, — вот она, «Площадь Восьми Кантонов».
Но квадратик на плане был недоступен для меня, поскольку план — библиографическую редкость — приобрести я не могла.
Можно ли сделать микрофильм с этого плана?
И тут случилась вещь воистину необыкновенная. Недавно в одной из книг по технике я прочитала такую фразу: «…народное восстание в Риме открыло в 1848 году на короткий срок доступ к архивам Ватикана». Не знаю, насколько короток был этот срок доступа, но снять микрофильм с плана 1748 года могли только в секретном архиве Ватикана, и в секретный архив Ватикана 11 декабря 1961 года я иду вместе с послушником, данным мне в провожатые. Идем мы внутренним ватиканским городом, окруженным каменной стеной в рост хорошего городского четырехэтажного дома, идем мимо садов, где гуляет папа, мимо его балкона, и послушник охотно показывает и рассказывает, покуда шаги наши гулко отдаются по пустынным площадям. И вот «Archivio Segreto Vaticano», куда я вступила, быть может, первой из русских людей и, во всяком случае, первой и единственной из советских людей.
Заполняю анкету richiesta di riproduzioni — отдела репродукций. Нижеподписавшийся (il sottoscritto), живущий там-то и там-то, просит дирекцию секретного архива Ватикана снять фото с такого-то документа… Сижу около часу, наблюдаю за работающими и роющимися в фолиантах. Неподалеку — босоногий доминиканец с черной коронкой волос вокруг головы, — на верхушке выбрито (тонзура), и под коронкой на лбу, висках и затылке тоже выбрито; рваная ряса его повязана простой веревкой, ноги босы, но сам он, с видом большого ученого, конспектирует древний манускрипт. За ним — седая дама в черном атласном платье, толстая, с опухшими ногами, с усиками над губой. А рядом — ординарного вида старичок профессор с утиным профилем и засыпанным перхотью воротником. И еще монахи. И очень красивая молодая женщина в очках с тетрадкой. Пишутся диссертации? Готовятся доклады? Не проходит и часа, как я получаю не один, а несколько снимков с нужного мне места на плане, — той части Корсо, где помещается квадратик с цифрой 465…
Теперь, в точности изучив у себя в гостинице снимок со старого плана, кладу его рядом с современным и вижу, что Мысливечек жил вовсе не на Площади дель Пополо, а по Корсо, на большом расстоянии от нее по направлению к Площади Венеции. Подсчитываю: на шесть улиц дальше Площади дель Пополо. У геологов камеральная работа сменяется полевой. Взяв оба плана, выхожу из своего номера и я и пускаюсь по Корсо.
Сперва снизу вверх, то есть с Площади Венеции — к Площади дель Пополо. Узкое, как стрела, длинное Корсо сильно изменилось не только за два столетия, но и за те несколько десятков лет, когда Александр Дюма привел сюда двух своих молодых парижан — из «Графа Монте-Кристо» — и заставил их пережить знаменитый римский карнавал на Корсо и даже попасть в руки бандитов ночью, в освещенных луной развалинах Колизея.
Сколько литературных реминисценций! Как дороги и близки всему человечеству эти итальянские города, словно вошли они в жизнь каждой национальной культуры образно и символично, подобно мифам древности, ставшим общечеловеческими. Первое мое «полевое» прохождение — еще без деталей; я только думаю и представляю себе время. Конечно, Мысливечек поселился в самом центре больших римских празднеств, на которые люди стекались со всего света и бешеные деньги платили за квадратный аршин под ногами, только бы найти место для стоянки, чтоб было «все видно».
Здесь, сверху вниз, производились знаменитые лошадиные скачки, «gli Babrari», когда проносились по улице, раздув ноздри и развеяв по ветру хвосты и гривы, великолепнейшие скакуны; сюда выезжал всадник на белом муле — герольд появлявшейся вслед за ним папской кареты, окруженной швейцарской гвардией папы; тут с холма Площади дель Пополо в низину Площади Венеции спускались сумасшедшие, опьяненные и пьянящие своим весельем, сутолокой, шумом, переходящим в неведомую музыку, гирляндами и бумажными лентами, веерами и масками карнавальные процессии пешеходов и едущих; и когда кончались дни карнавала, самое яркое и нелепое зрелище в мире — Moccoletti — служило им таким незабываемым финалом, что даже отпетый прозаик буржуа, чинуша и мрачный мизантроп сходили на несколько часов с ума и начинали цепь совершенно бессвязных действий, словно какая-то машинка причинности, связывавшая до сих пор изнутри все их поступки и мысли, выдергивалась из них и рассыпала их на куски.
Даже сейчас, когда в рождественские праздники (а я шла по Корсо как раз в это время) все улички, выходящие на Корсо, превращаются в море огней, сплошной переплет иллюминаций, и большие деды-морозы выходят из магазинов, чтоб сниматься с детьми или катать их на своей спине, — можно легко представить себе все безумное очарование прежних Moccoletti — свечек и факелов, — миллиона свечек и факелов, несущихся в руках толпы вниз по Корсо и оберегаемых от «затушения», а каждый стремится затушить огонек в руках соседа, покуда не докатятся эти лавины умирающих огней до конца последней карнавальной ночи и не мигнет прощальным огнем потухающая свечка законченного карнавала.
В древности греки знали элевзинские таинства, знали много разных форм, где человеческое «благоразумие», то есть достигнутая человеком культура социальной совместимости, — с разрешения и одобрения самого общества, — на короткий миг прорывает построенную плотину и дает освободиться всем инстинктам: иди, безумствуй, распусти себя, дикарствуй, дичай, стань стихией, дай полный выход всему, что задавлено запретом, — и очистись, освободи себя, выпотроши, стань снова «социально приемлемым», пригодным для обыденной жизни. Восемнадцатый век повторял эту древнюю мудрость — с одобрения церкви — в карнавальном безумстве, и подавленные инстинкты толпы ждали их, как ждет загрязненное тело бани. Конечно, музыканты их ждали вместе с толпой, были чуть ли не главной действующей силой карнавалов, любили их, как вино. И конечно, Иозеф Мысливечек должен был любить и переживать их, но не забудем, что ему было очень некогда именно в дни карнавалов и фиер, праздников и ярмарок, когда он каждый вечер должен был дирижировать своей оперой, а до этого готовить ее, а после чуть не умирать от усталости, добиваясь получения денег от импресарио, сведения счетов, уплаты долгов — и простого человеческого сна в конце концов, чтоб отоспаться от рабочего переутомления. И еще не забудем, что «местные жители» и даже «домовладельцы», это не приезжие со всего света и не туристы, настроенные на единственное свое дело — воспринимать, а как бы уже нажившие известный местный иммунитет, подобно пирожнику, которому не до сладостей, и сапожнику, которому не до новых сапог.
Но тут размышления мои по всей длине Корсо оборвались, и я подошла к Piazza del Popolo и повернула обратно, перейдя уже на правую (от площади вниз) сторону улицы, чтоб не пропустить ни единой детали. Кусок старого плана с цифрой 465 стал моим компасом.
Первая улица вниз по Корсо направо — виа Пенна; вторая улица направо — виа А. Брунетти (а напротив нее, через Корсо, уходящая налево улица Мачелло); третья вниз по Корсо направо — виа дель Вантаджо (а напротив нее улица Лаурина); четвертая направо виа Канова (а наискосок через Корсо улица Джезу); наконец, пятая направо по Корсо — виа Фрецца, а против нее, на небольшом расстоянии друг от друга, по левую сторону Корсо, улица Джакомо и улица Гречи — Греческая, — где и тогда стояло и сейчас стоит музыкальное учреждение Св. Цецилии, только двести лет назад оно было церковным, а сейчас здесь консерватория и библиотека с архивом, тем самым, откуда пришло ко мне открытие первой оперы Мысливечка «Сконфуженный Парнас».
Дальше направо я уперлась в слегка отступающую от Корсо внутрь, окруженную густой зеленью, огромную круглую античную гробницу, более древнюю, чем гробница Адриана, так называемый Мавзолей Августа, или, как ее звали двести лет назад и зовут сейчас, Корэа (Corea). Тут, как в детской игре, сделалось «горячо» в моих поисках.
Мавзолей Августа сперва был античной развалиной, потом город превратил его в цирк, из цирка в театр, из театра в мастерскую для гипсовых отливок, из мастерской в огромный, чуть ли не самый большой в мире концертный зал. Вокруг этой античной громады были разбиты сады, получившие название райских, а несколько отступя от нее, ниже по Корсо, и приютился на плане крошечный квадратик с цифрой № 465 — Площадь Восьми Кантонов, где должен был стоять предполагаемый дворец (палаццо) Иозефа Мысливечка.
И тут меня, говоря книжным языком, постигло жестокое разочарование, или, более образно, хватило обухом по голове: все на месте, круглая махина Аугустео, зеленый пояс райских садов вокруг нее, но Площади Восьми Кантонов нет и помину. Смотрю в сохранившийся у нас с сестрой от первой нашей поездки в Италию превосходный старый немецкий путеводитель по Риму от 1913 года, написанный Уго Флересом, и читаю в нем: «Входы в Корэа и до сих пор немножко стеснены. Нужно было много жалких домишек (elenden H?user), которые его окружали и давили, разрушить (niederreissen)».
Так вот каков был пресловутый дворец бедного Мысливечка! Жалкий домишко! У фамильных легенд, как у страха, глаза велики. Но и у современности свои, может быть, чересчур суженные на прошлое глаза. Площадь Восьми Кантонов исчезла; дома, стоявшие на ней, были снесены. Жалкими они стали, вероятно, с течением времени до своего сноса, а были вначале обыкновенными небольшими домиками без претензий, в углублении обыкновенной маленькой площади, тоже без претензий, стоившими не дороже того, что мог заплатить из своего неустойчивого кармана маэстро ди Капелла, — такие домики еще сохранились в Риме, и, например, на углу квартала дель Ока стоит один такой дом, дающий представление обо всех ему подобных.
Только вот место было хорошее, за которое, верно, я выбрал Мысливечек Площадь Восьми Кантонов: неподалеку театр Далиберт и музыкальная школа Святой Цецилии, воздух от «райских садов» плывет прямо в окна, а в двух шагах протекают желтые воды Тибра, багрянцем отдающие на закате. Я представляю себе улицу Рипетта (она сохранилась), как бежит она вдоль реки, спускаясь к подобию речной гавани, полной больших пестрых барок. В то время мостов через Тибр почти еще не было, и самым удобным сообщением с тем берегом, на котором высились каменные стены Ватикана, служили вот эти барки, в которые спешивший путник бросался на ходу с берега, торопя гребца, как торопят извозчика. Сколько раз лихорадило бедного Мысливечка, вдыхавшего сырой воздух от загрязненных вод Тибра и переплывавшего их на барке!
Если у Мысливечка действительно был хороший дом, хотя бы и не палаццо, а только такой, как милый маленький № 70 на виа делля Фрецца, совсем по соседству от бывшей Площади Восьми Кантонов, — он наверняка не был бы снесен, как имеющий архитектурную и практическую ценность. Но снесена была группа «жалких домишек», и к этой именно группе принадлежало жилище чешского музыканта.
2
Теперь мы подходим ко второй легенде — к богатому английскому аристократу, мистеру Барри, который учился у Мысливечка и был, несомненно, моложе его. Этот мистер Барри находился, по-видимому, в отъезде и не знал о болезни своего учителя, но, вернувшись и застав его мертвым, взял на себя его похороны. Вниз по Корсо через две улицы по ту же правую сторону стоит (и тогда стояла) богатая церковь Сан-Лоренцо ин Лучина, с приходскими книгами которой мы уже познакомились. Напомним строчку из некролога Пельцля: «Английский дворянин, мистер Барри, его ученик, устроил ему великолепнейшие похороны (liess ihn auf das pr?chtigste begraben) в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина и там же поставил ему мраморный монумент». Что одна часть этого сообщения — погребение в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина — совершенно правильна, подтверждено, как мы видели, бесспорным документом. Но как все остальное?
Много, много раз заходила я в мрачноватую церковь с висящим в алтаре «Распятием» Гвидо Рени и со старинной квадратной ее кампаниллой. Что это значит — быть похороненным в церкви? Пройдите вдоль ее внутренних стен, поглядите на стены ее портика, снаружи церкви; наконец, бросьте взгляд и на каменные плиты под ногами — все это как бы каменное кладбище немногих, удостоившихся лежать после смерти в самом «храме божием». Вдоль внутренних стен идут ниши с мраморными саркофагами, памятниками, скульптурами усопших и вырезанными в камне их именами, годами жизни и смерти. На плитах пола и с наружной стены в портике — погребения поскромнее, памятников нет, а есть только надписи. Но время, как вода, точит камень. Многие надписи стерлись, обвалились, оставив лишь несколько слов и даже полуслова, где нет имени усопшего и нельзя угадать по содержанию, кто же этот усопший был. До меня многие ученые (в том числе и Рацек, и Челеда, и сам профессор Прота Джурлео) искали и не могли найти даже следов памятника, поставленного Мысливечку его учеником. Не смогла найти их и я. Куда он мог деться?
Автор того самого путеводителя по Риму, который я уже цитировала, Уго Флерес, знаток римской старины, был в то время, когда писался путеводитель, директором «Выставки современного искусства» в Риме. Путеводитель его составлен на редкость содержательно и культурно — не знаю ни одного из новейших по Риму, хоть отчасти сравнимого с ним. И Уго Флерес говорит о церкви Сан-Лоренцо ин Лучина, что она была очень плохо реставрирована (Piazza di San Lorenzo in Lucina mit der schlecht restaurierten Kirche gleichen Namens). Плохо реставрировалась — значит, могли быть сдвинуты плиты с надписями и многие надписи попросту затерялись, а кое-какие памятники поломаны. Можно ли указать место, где лежит прах Мысливечка? Нельзя указать из-за отсутствия следов памятника, и мудреного тут ничего нет, поскольку орудия пытки святого Лоренцо, во славу которого построена церковь, и те «неизвестно где запрятаны» (irgend wird auch der Rost des Martyriums des heiligen Lorenzo aufbewahrt).
Но где же легендарный англичанин, мистер Барри? Он тоже никак и нигде не находим. Ни в одной из биографических и всяких иных энциклопедий Великобритании нет ничего похожего на этого Барри, как бы ни писать его имя, — Barri, Barry, Burry, хотя всяких других Барри есть множество. Может быть, он ничем вообще не прославился, чтоб попасть в словарь, но почти каждый иностранец тех лет, да еще богатый и знатный англичанин, в Риме не проходил незамеченным, попадал в бесчисленные мемуары, в газеты, в хроники, а этот Барри не попал никуда. Может быть, он вовсе не был богат и знатен, а хоронил Мысливечка на его же собственные деньги, нашедшиеся в доме, и поставил лишь мемориальную доску, с течением времени растерявшую свои буквы? Ведь, давая сведения в книгу записей смертей, он ошибся на целых двадцать два года в возрасте своего учителя; да и сама причина смерти в тогдашних некрологах, появившихся в «Венской газете» и некоторых итальянских, указана по-другому, нежели в этой записи; не «improviso», а «после тяжких, мучительных страданий».
В поисках неведомого английского ученика Мысливечка я набрела на два имени, о которых хочу рассказать. Оба маловероятны фактически. Но обоих роднит особая вероятность — психологическая.
Как раз в годы больших оперных триумфов Мысливечка был с ним одновременно в Болонье, был, возможно, и в других итальянских городах — любопытнейший оригинал, художник и артист, ирландец Джемс Барри. Он не был отнюдь богатым, наоборот, приехал учиться живописи на стипендию, сам вечно нуждался, со всеми ссорился и воевал, был самых парадоксальных взглядов — фигура очень яркая, очень своеобразная, типа Вильяма Блэйка. Джемс Барри, подобно Мысливечку, был тоже избран в члены Болонской академии, только не Филармонической, а Живописной, так называемой Clementine Accademia. Что оба эти человека могли познакомиться и понравиться друг другу — несомненно. Джемс Барри был на четыре года моложе Мысливечка. Вечно стремившийся ко всякого рода знаниям, он вполне мог позаняться и музыкой с Мысливечком, познакомившись с ним еще в Болонье. После 1773 года он, правда, выехал на родину, но нет и доказательств, что не побывал в Риме еще раз, в 1781 году. Заглянув к своему болонскому знакомцу и учителю, он увидел в пустом доме его мертвое тело, без участия соседей, отсутствия близких — и горячо, по-человечески, будучи темпераментным ирландцем (в его биографиях сохранились сведения не только об упрямстве и постоянных ссорах, но и о необыкновенно привлекательной улыбке его), взялся за похороны этого большого покинутого музыканта. Против такой версии, маловероятной, как я уже сказала, говорит, во-первых, постоянное безденежье самого Джемса Барри, во-вторых, отсутствие данных о его приезде в Рим в 1781 году.
Вторая маловероятная кандидатура приводит меня к Гёте и его итальянскому путешествию. Гёте остался в Риме на целых два года, 1786–1787, а это было только пять-шесть лет спустя после смерти Мысливечка. Ученику Мысливечка, если он был действительно очень молод — лет двадцати, — могло тогда быть всего только двадцать пять — двадцать шесть лет. И такой молодежью, художниками по профессии и по дилетантскому расположению, Гёте окружил себя в Риме с первых же дней по приезде, общаясь по-настоящему лишь с ними. Тут были и очень знакомые имена старших — Мейер, Тишбейн, Анжелика Кауфман. Но постоянными его спутниками, с которыми он ходил по галереям, копировал антики, спорил об искусстве, была именно зеленая молодежь, целиком поглощенная живописью. Среди этих юнцов был, однако, один, близко стоявший не только к живописи, но и к музыке, и более чем близко, он был почти профессионально связан с римскими музыкантами.
Гёте упоминает о нем очень часто. Известно, как он любил сына Шарлотты фон Штейн, Фрица, и заботливо учил и воспитывал его, беря на долгое время с собою в свои поездки. Но тот «юнец», о котором я сейчас рассказываю, сумел так привязать его к себе, что Гёте неоднократно в письмах называет его своим «вторым Фрицем». Уезжая, он оставляет ему свою квартиру и не забывает поручить влиятельным друзьям снабжать юношу заказами. Этот любимец Гёте не англичанин, но для людей неосведомленных он вполне мог им прослыть. Дело в том, что он был из Ганновера, находившегося под протекторатом Англии, Ганновера, переполненного купцами, говорившими по-английски и состоявшими в английском подданстве; и фамилия его имела в своей транскрипции нечто английское, а не немецкое — Fritz Bury — немцы так не именуются, а произнести такую фамилию можно и на английский лад — и «Бэри» и «Бари»… Разумеется, это очень притянуто за волосы, и я сама не только ни на чем не настаиваю, но и не смотрю на такое предположение всерьез. И все-таки — все-таки дрогнуло мое сердце, когда в скупых сообщениях Гёте о музыке (он редко писал о ней) я вдруг встретила в его «Итальянском путешествии» такую страничку:
«Анжелика никогда не ходила в театр, и мы не доискивались, по какой причине; но так как мы, будучи страстными друзьями сцены, не могли вдоволь нахвалиться в ее присутствии прелестью и ловкостью певцов и действенностью музыки нашего Чимарозы и ничего сильней не желали, как разделить с ней наше наслаждение, — обстоятельства одно за другим складывались так, что наши молодые, а в особенности Bury, который находился в наилучших отношениях (был запанибрата) с певцами и людьми, стоящими близко к музыке, — довел дело до того, что они с веселой готовностью предложили нам, их страстным друзьям и ценителям, устроить как-нибудь в нашем зале музицирование с пением».
Молодой художник Bury жил в Риме, по словам Гёте, уже давно. Он был сыном, вероятно, зажиточного ганноверского купца, говорил по-английски… Дружба и тесная связь его с музыкантами и певцами, жившими в Риме, несомненна, и объясняется, с наибольшей вероятностью, тем, что сам он имел какое-то причастие к музыке, может быть — хороший голос, может быть — уроки брал клавесина или даже композиции у своего блестящего, почти земляка, Богемца?
Целых два имени, созвучных Барри! Но оставим «поле приближенных вероятностей» и сделаем из моих очень спорных гаданий только один практический вывод: пышные рамки некрологов и факты, сообщаемые близкими родственниками умершего, всегда окутаны той наивной романтикой и тем нарядным преувеличением, за которыми голая правда кажется немножко неожиданной и разочаровывающей. Так роскошные дворцы превращаются в «жалкие дома», а богатые английские лорды… Но стоп! Что же это я? Сама превратилась в «продолжателя легенды»? Откуда же это выплыло — богатый английский лорд?
В некрологе Пельцля сказано только: «Один английский дворянин, м-р Барри, его ученик, устроил ему (или дал его похоронить, или поручил его похоронить: liess ihn begraben) великолепнейшие похороны в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина и поставил ему там (поручил ему там поставить: liess ihm daselbst ein Monument von Marmor aufrichten) мраморный монумент».
Что значит гипноз времени и та самая «пыль в глаза», какую пускают последующим поколениям неточные сведения, подхватываемые неточными словарями и развиваемые фантазией романистов! Ведь если прочитать, без этой пыли столетий в глазах, именно то, что написано у Пельцля, сразу слетишь с облаков на землю. Первый по времени биограф и некрологист пишет: «Один английский дворянин, м-р Барри, его ученик». Для итальянцев все англичане были «лордами» и дворянами, может быть в силу известной английской манеры держать себя и того простого факта, что в Италию рабочие или безработные великобританцы в поисках работы не ездили. Но, даже и приняв это во внимание, интересно, что имя Барри не дошло ни до родных Мысливечка в его письмах, ни до Пельцля — из всяких других источников, с приставкой «сэр» или «лорд», означающей английского аристократа. Перед именем Барри стоят простые две буквы, означающие «мистер». И где же указание на то, что этот мистер был богат? Нигде нет этого указания. Богатство его, как и знатность, вывели позднейшие исследователи из того, что он дал похоронить Мысливечка великолепнейшим образом и дал поставить ему монумент из мрамора.
Но потрудим себе голову еще немножечко над тем, что написано у Пельцля. Где это сказано, что он сделал это на свой счет? И где указано у Пельцля, что Мысливечек умер в нищете? Ведь мы достоверно знаем, что даже в последний год жизни прошли у него в Риме целые две оперы «Антигоно» и «Медонт», а до этого в Лукке и Милане «Армида» — то есть три оперы за 1780 год; а за предыдущий, 1779, год он опять провел три оперы — 10 апреля в Пизе «Ля Каллироэ», на фиеру в Венеции «Цирцею», 13 августа в Неаполе «Деметрио». И если прибавить к этому, что в самом конце 1778 года, на весь карнавал, шла с грандиозным успехом в Неаполе его «Олимпиада», ария из которой стала распеваться чуть ли не в каждом доме, на каждой улице по всей Италии, — то где же резон, чтоб не было у него на руках денег в начале года 1781-го, когда Мысливечек слег в постель? И вдобавок, по заказу Амстердама, он послал туда печатать шесть своих квартетов, написанных перед самой смертью!
Пусть дорого стоило жить и, может быть, оплачивать не только содержание, но и оставшиеся долги по дому, который он купил не сразу, а в рассрочку, но до полной нищеты, до «смерти, как собака, на соломе», до кредиторов, ринувшихся, когда лежал он больной, вытаскивать из-под него матрац и уносить мебель, как изображено и во многих о нем романах, и в опере о нем, написанной Станиславом Судой, дистанция огромного размера. А кстати, есть ли что-нибудь об этой нищете у Пельцля? Нет ни единого слова об этой нищете. Сказано просто: «Он отправился в Рим. Здесь сразила его болезнь, которая уложила его спустя короткое время в гроб». И все. Нищету Мысливечка и богатство английского дворянина высосали из пальца позднейшие биографы.
Логика, естественная и убедительная, заставляет не «предположить», а наверняка установить, что после семи опер, проведенных за двадцать пять месяцев, — пусть даже две из них потерпели провал, — у Мысливечка на руках к февралю 1781 года еще оставались кой-какие деньги. Английский ученик его, или тот, кто именуется мистером Барри у Пельцля, хоронил своего учителя отнюдь не за свой счет. Он щедро распорядился оставшимися у самого Мысливечка деньгами для этого.
И еще одно замечание. Немецкая форма «ег liess begraben, liess aufrichten» вовсе не означает прямого, личного действия: он похоронил, он поставил сам. При таком личном действии Пельцль мог бы написать: «er hat begraben; er hat eingerichtet». Но «liess» может означать распоряжение похоронить и поставить памятник, заказ и поручение сделать то и другое, и мы можем перевести эту форму либо словечком «дал», либо, точнее, словом «распорядился». И получается более точный перевод того, что стоит у Пельцля. «Один английский дворянин, м-р Барри, его ученик, распорядился похоронить его великолепнейше (иначе, по-нашему, по первому разряду! — М. Ш.) в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина и там же воздвигнуть ему памятник из мрамора».
Но те, кто хоронил когда-нибудь своих близких и ставил над могилой памятник, знают, что делается это не сразу; если могила на кладбище, нужно дать пройти году, чтоб осела земля; а в церкви тоже ведь требуется время для высечения надписи и самого памятника. Распорядившись и поручив кому-нибудь сделать это, вряд ли мистер Барри остался ждать в Риме, пока памятник будет воздвигнут. И может быть, даже не «исчезли и обвалились от времени» слова надписи, не развалился монумент во время плохой реставрации церкви, а вовсе и не были они высечены и поставлены в свое время. Множество интересных людей, причастных искусству, работало, училось и проживало в Риме в ту пору. Мысливечек, полный огня, ума, интеллектуальной разбуженности, добрый и щедрый, со многими из них общался и для многих держал двери своего дома открытыми. Среди этих людей был любящий его человек, бравший у него уроки. Узнав о внезапной и одинокой смерти учителя, которого перед этим долго не навещал, он был потрясен неожиданностью утраты и выполнил последний свой долг, распорядившись его похоронами, чтоб они были достойны гениального музыканта.
И все же хочется, чтоб м-р Барри был англичанином, сыном народа, позднее так щедро помогшего умирающему Бетховену и получившего в ответ предсмертное благословение великого гения музыки…
Быть может, после меня где-нибудь в дипломатических архивах английских представителей в Италии будет найден кем-нибудь след этого мистера Барри и разгадка его имени придет к читателю полностью.
3
А как с последней загадкой — дружбой Мысливечка с Максимом Березовским?
Мне пришлось объездить много чужих стран и городов, походить по бесчисленным библиотекам в поисках следов, хотя бы самых слабых и бледных, чтоб пройти по ним, хотя бы в темноте и ощупью, в то прошлое, где жил и дышал Мысливечек и пела его музыка. Но в этой истории «Мельпомены», музы его песни, ставшей музой его трагедии, как-то не приходило мне в голову поискать очень близко, у себя под рукой, на родине.
Прекрасны чужие города, где пришлось мне подолгу бродить. И в Праге, когда спускались сумерки, а на мозаику тротуаров ложилась влажная тьма, или, лучше, словами современного поэта:
В квадратах пражских тротуаров,
Ночь, наигравшись, прилегла…[68]
И на Понте Веккио во Флоренции, когда зажигались бесчисленные огоньки, отражаясь в тихих водах Арно и заблистав сквозь кисею тумана по всей Флоренции, подобно лесным светлячкам.
И в полутьме Пармского собора, когда выпукло выступали, оживая от тени вокруг и от собственного света, изумительные, словно движущиеся, сползающие со стен главного нефа фрески Гамбара.
И под нескончаемыми портиками Болоньи, когда, решившись выбраться из их лабиринта, я задумала выйти «за город», в поля и леса, и шла под ними, пока не догнал меня вечер, и вышла как будто к последним домам, за которыми холмились горы и темнели рощи. Но, вынырнув из-под последнего портика городских ворот, я вдруг увидела перед собою белую, нескончаемо вьющуюся змеиным зигзагом вокруг холма — до самой его вершины — невероятную, многокилометровую дорогу портиков, построенную руками одержимых портиками болонцев до самой загородной церкви св. Луки… И снова оказалась под их бессмертной колоннадой.
Прекрасны чужие моря, когда плеск их волн доносится до вас и Адриатика шепчет вам что-то ласково в Римини, а древнее Тирренское море бурливо бормочет в Салерно, напоминая совсем забытого нынче Метастазио, не стыдившегося, как сейчас стыдятся, звучности и звуконаполненности простых слов:
In un mar she non ha sponde
Senza remi e senza vele
Come andr? coi venti e l’onde
Sconsigliata a contrastar?
Или в неуклюжем моем переводе:
В это море, что так безбрежно,
Без весла и парусов
Как войду, волне и ветру,
Не смутясь, противостать?
Безбрежным морем неизвестности казалась мне вначале тема о Мысливечке, а сама я — без весел и парусов, на одном осколке моей любви и воли, должна была пуститься в плавание, чтоб воскресить его из мертвых. Но море медленно затихало, укладывалось дорожкой, и по этой зыбкой дорожке чужих морей я дошла постепенно до зеркальной глади родного залива, на жемчужные отсветы которого небо спускало не черноту южной, а призрачный свет светлой белой ночи.
Город, где я очутилась напоследок, имел волшебную историю. Он не уходил далекими корнями в прошлое, наслаивая пласты веков с исчезнувшими культурами друг на друга. Он возник, как по мановению жезла, по четырем словам царя Петра, воспетым Пушкиным: «здесь будет город заложон». И Пушкин соединил два точных, как математика, эпитета, говоря об этом городе: «строгий, стройный», и озвучил в стихах цокот чугунных копыт по его гранитным плитам.
Здесь, по нарядному Невскому, бегал странный мифический «Нос» Гоголя, затянутый в мундир.
Здесь — в глубине вторых и третьих дворов с улицы, — в мешках его каменных домов подсматривал и подслушивал Достоевский последние глубины человеческих трагедий, где уже гаснет индивидуальность и остается только одна, присущая всем, голая человеческая душа.
Здесь, зная, что обречены, и зная, что трагическая обреченность не напрасна и не пропадет бесполезно, вышли на Сенатскую площадь декабристы.
И сюда, на броневике, облепленном народом, въехал тот, кто дал этому городу второе имя, а родине нашей — второе рождение…
Библиотеки и библиотечные работники всюду схожи, может быть потому, что в их суровые залы не входят корысть и стяжательство, а только благороднейшая из страстей человеческих, страсть к познанию. Стены, столы, стулья в этих залах изо дня в день, из года в год насыщаются ею. И тут царствует самая точная вещь в мире, более точная, чем математическая формула, — Логос, Слово. Потому более точная, что формула достигает кратчайшей точности в совокупности многих знаков, и краткость ее многозначна (а в самой кратчайшей из формул по меньшей мере двузначна). Но Слово — едино. Оно передает себя в кратчайшей форме именно своею единственностью.
И если вздумать описывать слово, то нужно размазывать, растягивать его смысл, прибегать к помощи других слов, не укорачивать, а удлинять его. Это прекрасно выразил еще в XII веке Низами Гянджеви в своей поэтической хвале Слову:
Без сердца — ты в нем не поймешь ничего.
Описанье его — многословней его.
Так вот, я начала свою книгу, вступив в это царство Логоса в Москве, — в библиотеку, когда-то Румянцевскую, а сейчас имени Ленина. И кончаю свою книгу тем же — Публичной библиотекой имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Но не только ею — библиотеками и архивами Ленинградской консерватории, Театрального института, Института истории искусств, филармонии…
В Ленинграде жил брат моего давнего друга, поэта Е. Г. Полонской, известный театровед и искусствовед А. Г. Мовшенсон, хорошо знавший ленинградские библиотеки и архивы. Щурясь под светлыми стеклами очков, словно капая с них светом на карточки в картотеках и страницы каталогов, Александр Григорьевич, в ответ на просьбу мою, обращенную из города Москвы в город Ленинград, — поискать что-нибудь Мысливечка, просмотрел многие каталоги, зная, где именно нужно искать, и дал ответную телеграмму: «Нашел». Так была обнаружена первая рукопись последней оперы Мысливечка «Медонт, царь Эпирский» среди манускриптов библиотеки князей Юсуповых, хранящихся в ленинградской Публичной библиотеке.
Известна судьба этой счастливой находки. Подаренный мной чехословацкому городу Острава микрофильм «Медонта» попал в заботливые руки музыковеда, доктора Иво Столаржика, одного из самых дорогих моих чешских друзей. Иво Столаржик лично приехал в Ленинград, чтоб сверить микрофильм с оригиналом и заполнить не попавшие в снимок ноты с полей его. Он собрал чудесный коллектив людей, увлекшихся мыслью поставить «Медонта» в оперном театре Опавы, и они блестяще выполнили постановку.
Счастьем было сидеть в переполненном зале, слушать благодатную музыку Мысливечка, последнее, что писал он уже слабеющей, почти бессильной рукой, и видеть, как горячо принимает публика эту оперу, отделенную от современности двумя веками. Почти про все оперы Мысливечка (особенно неаполитанские) мы знаем, что они были ему заказаны и он их писал на заранее заказанные либретто. Но про «Медонта» неизвестно, выбрал ли Мысливечек для римского карнавала сам это либретто, написанное поручиком Де Гаммера, или ему заказали его. И если сам выбрал, то многое приходит на ум.
Медонт, или Калимедонт, — историческое лицо интригана и политикана, свирепого сторонника тирании и врага афинской демократии, врага вождя этой демократии стратега-афинца Фокиона. Историю его Де Гаммера взял из Ликофрона[69], о ней говорится и в «жизнеописаниях» Плутарха. Народ афинский за интриги и борьбу Медонта против демоса приговорил его к смерти и казнил. Уступая мелодраматической традиции своего времени, по которой тираны неизменно раскаиваются и прощаются, Де Гаммера, превративший своего «Медонта» из простого политикана в царя Эпира, завоевавшего чужую страну и угнетающего эпирский народ, тоже привел его к раскаянию. Но на сцене остались хитрость, двуличие, бешеная жестокость Медонта-завоевателя. На сцене осталось угнетение народа — решетки страшной подземной темницы, где гибли заключенные, политические их противники. И что-то от мрака темницы, от мук ее пленников, от страстной потребности свободы, проснувшейся в людях, пробилось своими человеческими ростками и в музыку Мысливечка. Сколько жутких темниц, от которых, при одном лишь рассказе шепотом, волосы становились дыбом, знал он на своем веку! В Брно, где постриглась в монахини его сестра, черной тучей австрийского владычества простер свою тень с горы на весь город страшный замок Шпильберг, австрийская тюрьма, за одну ночь в которой мог поседеть человек. В Венеции, где Мысливечек учился у Пешетти, каждый день приходилось ему проходить мимо решетчатых окон темницы, черные стены которой упирались в таинственный, наглухо закрытый «Мост вздохов»…
А время, когда писался «Медонт», было особенным. Шли зимние месяцы Рима, похожие на весну, и весна словно стучалась отовсюду: во Франции назревала революция, в Богемии пробуждались писатели и поэты — и сами становились народными будителями.
Но я сказала выше: «первая рукопись «Медонта». Огромный труд и бесплодные усилия были мною затрачены, чтоб найти хотя бы еще одну, по уверениям чехословацких музыковедов находящуюся в Риме, более «достоверную» рукопись «Медонта», чем наша ленинградская, — на предмет их сравнения и проверки. Но все, что отыскалось в Риме, было лишь безымянной (по каталогу) и дефектной (по выполнению) рукописью одного только первого акта этой оперы, и никаких сведений о том, где еще можно ее искать, в Италии я не получила. И вдруг, тут же в Ленинграде, Александр Григорьевич, в карточном каталоге Нотной библиотеки Театра оперы и балета имени Кирова, преспокойно нашел… второй манускрипт полной оперы «Медонт». Второй «Медонт» в Ленинграде!..
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Прошла неделя, потом меня отправили в путь имеете с другими пленными, дезертирами и арестантами, которых препровождали в Лилль. Вскоре я оказался в «Эгалите», военной тюрьме, где должен был находиться на протяжении нескольких дней. Чтобы смягчить тоску
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая В середине декабря 1828 года полк Эдгара По в полном составе высадился и встал на квартиры в крепости Монро, близ Пойнт-Камфэрта. Перевод из форта Моултри означал лишь перемену места, но отнюдь не монотонного течения солдатской службы. Пойнт-Камфэрт в ту
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Сов. секретно Черному. Радиостанция «Пена» 16.5.44 г. «Для разведки условий работы наших людей за Вислой снарядить группу разведчиков, численностью 15-20 человек из наиболее смелых, дисциплинированных и преданных товарищей во главе с лучшим офицером. О
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Я уже свыкся с тюремной жизнью и сумел выработать образ жизни, который находил терпимым. Во многих отношениях я воспринимал себя как монаха-созерцателя, ведь когда-то я чувствовал призвание к этому. Тем не менее меня не оставляла мысль попытаться
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Жаль, что Павлуши нет со мной. Он знал бы раньше Меня, когда, наконец, придут события, которых все ждут. Он объяснил бы мне все, что происходит.Но Павлуш далеко, ни о нем, ни о маме, ни о маленьких Феде и Наде я ничего не знаю. Я рассказываю бабушке о
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая «В КОТОРОЙ НАШИ ГЕРОИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЯКОГО СОДЕЙСТВИЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СО СВОИМ СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ, ВСТУПИВ В СХВАТКУ, ГДЕ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, С ЭТИМ ЗАБАВНЫМ ЗВЕРЕМ ПО ИМЕНИ “MTV”»ТАБИТА СОРЕН (TABITHA SOREN), ВЕДУЩАЯ НОВОСТЕЙ «MTV»: До
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая СКОТТ ХАМФРИ«КОРОТКАЯ БЕСЕДА, В КОТОРОЙ СТОЛЬ ОБСУЖДАЕМЫЙ ПРОДЮСЕР ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ»Каковы были твои первые впечатления от работы с группой?Они, знаешь ли, очень уникальные люди. Сначала было круто работать с ними, потому что это всегда
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая TOММИ«О КОНЦЕ, НОВОМ НАЧАЛЕ И ЗАРЫТОМ ТОПОРЕ»Я поднимался по ступенькам, чтобы отвести своих детей в школу в их первый день, когда я поднял глаза и увидел силуэт Никки, который возвышался на вершине лестничного пролёта. Это было похоже на сон, который я
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Ищи в чужом краю здоровья и свободы, Но Север забывать грешно. Так поспешай карлсбадские пить воды, Чтоб с нами вместе пить вино. А. Пушкин 1Наступает час прощания с книгой, бывшей мне поддержкой и утешением в тяжелые минуты жизни. Но еще не все долги
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникало какое-либо ложное и вредное учение, которое в начале своем не имело хорошего повода, благой мысли. Первое движение ума и совести человеческой почти всегда бывает чистое и доброе: потом
Глава одиннадцатая.
Глава одиннадцатая. Курс на КубаньВ конце декабря сорок второго я получил распоряжение срочно прибыть в штаб Военно-Воздушных Сил. Сборы для военного человека недолги. «Но почему срочно, в дни, когда мы добиваем немцев на Волге?» — недоумевал я. Однако приказ всегда
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Сезон 1913-14 года ознаменовался новой встречей и увлечением. Осенью Ал. Ал. собрался в Музыкальную драму, которая помещалась тогда в театре Консерватории. Его привлекала «Кармен». Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которое ему очень
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая Лазаревы жили недалеко от Красной горки на улице Островского. Из их окон были видны пригородные пустоши и Теркинские горы, где находился лагерь «Седло». Закрытый с улицы густыми зелеными деревьями и каменным забором, дом особого внимания не привлекал.
Глава одиннадцатая
Глава одиннадцатая После выхода «Retard Girl» «Hole» отправились в небольшой тур, играя в маленьких клубах и барах по все стране. В этом туре Кортни познакомилась с Билли Корганом, двадцатитрёхлетним ведущим вокалистом «Smashing Pumpkins», чей дебютный сингл «I Am One» был выпущен в 1989