Снова на родине
Снова на родине
Этого Кемаля надо повесить на первом попавшемся дереве, но, проходя под этим деревом, следует плакать.
ФУ АД-ПАША О Намык Кемале
За годы, проведенные Кемалем в эмиграции, Турция мало чем изменилась. Он нашел все ту же бедную, разоренную страну, полное бесправие народа и безграничный произвол придворной камарильи.
Попрежнему плелись от набережных, сгибаясь под непосильно тяжелой ношей, вереницы изможденных хамалов,[61] а полуголые грязные нищие протягивали изъеденные язвами руки на галатском мосту. На Пера, в Галате открылись богатые греческие, армянские и европейские магазины, постепенно вытесняющие национальную турецкую торговлю. Старые кварталы Стамбула казались еще больше, чем прежде, запущенными и разоренными. Зато вдоль прекрасных берегов Босфора стояли сейчас новые великолепные мраморные дворцы султана и феодальной знати. Пиры и пышные празднества не прекращались в роскошных загородных виллах вельмож. Иностранный капитал щедро платил султану и его камарилье за право безконтрольного хозяйничанья в стране.
Значительные изменения произошли во внешней политике Турции. Отношения с Францией начали портиться еще с 60-х годов, когда, под предлогом защиты маронитов[62] против друзов,[63] Франция послала экспедиционный корпус в Сирию.
С момента поражения Франции в войне с Пруссией и демонстративного заявления России, что она не считает себя более связанной обязательством Парижского договора в отношении черноморского флота, Высокая Порта сочла нужным коренным образом пересмотреть свою ориентацию.
Россия вновь становилась опасным врагом, и не было больше надежд на французскую поддержку. Кроме того, самодержавию Абдул-Азиса был гораздо родственнее русский абсолютизм, чем европейские конституционные режимы с их «общественным мнением», ради удовлетворения которого Европа от времени до времени напоминала Турции о необходимости проведения демократических реформ.
С приходом ко власти Махмуда Недим-паши эта смена ориентации была полностью осуществлена. Махмуд Недим всячески поощрял в султане стремление к неограниченной власти. Он повторял Абдул-Азису: «государство, нация, словом, все находится в руках падишаха, и он волен во всех своих поступках. Что касается Европы, то она не посмеет вмешиваться в наши внутренние дела. Для нас важнее прислушиваться к мнению наших соседей – русских. С Россией нам надо быть в дружбе».
Ловкий интриган Игнатьев – «вице-султан», как насмешливо окрестили его в дипломатическом корпусе, и «отец лжи», как называли его турки, – стал буквально хозяином в Высокой Порте. Для русского посла были открыты все двери, правительство спешило предупредить каждое его желание. Но Махмуд Недим, понятно, не порывал и с Францией, откуда шли в виде займов необходимые правительству денежные средства. Насквозь прогнивший, давно бы уже рухнувший, если бы он был предоставлен самому себе, деспотический режим подпирался теперь русскими штыками и монументальной колоннадой Парижской биржи. Русские интриги в придунайских и других, подвластных Турции, славянских областях, постоянно угрожали восстанием, за которым должна была последовать интервенция северного соседа. На французское золото содержалась полиция и вооружалась армия, мало пригодная для защиты внешних границ, но зато вполне достаточная для подавления всякого внутреннего революционного движения.

Бешикташский дворец на Босфоре.
Вся трагедия Турции заключалась в том, что в тот момент, когда внутренние условия ее развития поставили на очередь свержение абсолютизма, появились могучие внешние факторы, поддерживавшие этот режим против нараставшей революционной волны.
Политически близорукий и ослепленный надеждами на высокую карьеру, Зия-паша по своем возвращении в Стамбул не замечал вначале всего этого. Ему казалось, что со смертью Али и Фуада для Турции наступила новая эра. Он был уверен в благоволении к нему султана и нового великого визиря. В первое время он был у него почти своим человеком. Каждый вторник его приглашали на раскошные приемы в загородный дворец Махмуд Недима, где он встречался со всей верхушкой правительства. Из-под его пера в изобилии лились одна за другой хвалебные оды, то в честь падишаха, то в прославление нового главы правительства. Читая эти стихи, можно было думать, что для Оттоманской империи наступил «Золотой век» и что под «мудрым» управлением ожиревшего пьяницы Абдул-Азиса страна переживает исключительное благосостояние.
Но, если льстивые излияния Зии принимались дворцом и правительством не без удовольствия, то практически он не видел от них никаких для себя результатов. Назначение на высокий пост заставляет себя ждать. Падишах, в расположение которого к себе он твердо верил, не хотел его даже видеть. Он не скрывал своей ненависти к человеку, который осмелился бежать за границу и выступать там, хотя и весьма умеренно, против самодержавия.
Была и другая причина этой ненависти. В «Хурриет» Зия, под влиянием взятой младотурками линии, написал ряд статей в защиту старой системы престолонаследия, т. е. передачи трона старшему в роде. Эта система обеспечивала престол Мураду, которого, как мы видели выше, младотурки считали своим.
Абдул-Азис специально избрал великим визирем послушного Махмуд Недима, чтобы провести изменение этой системы, но оно наталкивалось на сопротивление даже среди влиятельных улемов, так как порывало с вековой традицией ислама. Понятно, что Зия, публично выступивший против лелеемых падишахом планов, не мог рассчитывать на симпатии этого последнего.
Расстроенный, переживающий сильные материальные затруднения, Зия осужден был на вынужденную бездеятельность. Пробыв около пяти лет на чужбине, он и сейчас у себя в стране выглядел чужим человеком. Хорошие отношения к нему великого визиря также продолжались весьма недолго. Вместо высокого правительственного назначения, которого он все время ожидал, Махмуд Недим-паша после долгих проволочек предложил ему наконец пост в одной правительственной комиссии. В состав этой комиссии входили: помощник садразама, министр финансов и ряд крупных сановников. Комиссия была создана для выработки контракта с Компанией восточных железных дорог, получившей концессию на железнодорожное строительство в Европейской Турции.
Дороги эти строились знаменитым тогда международным финансовым хищником бароном Гиршем, нажившим на этом строительстве миллионы, часть которых он жертвовал потом на еврейскую колонизацию, русские церковно-приходские школы и на поддержание компаний французских монархистов. Гениальные финансовые комбинации этого авантюриста второй империи, тип которого великолепно описан в романах Эмиля Золя, опустошали в равной мере сбережения европейских рантье и казну оттоманского правительства. Но они носили столь открыто грабительский характер, что даже Махмуд Недим-паша не счел возможным заключить новый договор, не прикрыв его авторитетом специальной комиссии. Назначая туда Зию, он надеялся, что в благодарность за доходное место затертый и нуждающийся поэт станет его послушным орудием и поможет ему покрыть эту постыдную сделку. Однако он ошибся. Зия был карьеристом, готовым расточать свою льстивую поэзию перед сильными мира сего, но он не лишен был элементарной честности. На этой почве между Зией и садразамом и произошло резкое столкновение.
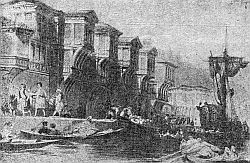
Богатый загородный дворец.
Когда комиссия после долгих дебатов составила проект контракта и направила его великому визирю, Махмуд Недим-паша полностью изменил проект и, вызвав к себе членов комиссии, предложил им подписать его в новой редакции. Зие достаточно было взглянуть на проект, чтобы понять, какой колоссальный ущерб он должен был нанести и казне и стране. Он смело заявил и садразаму и министру финансов, что такого договора ни за что не подпишет.
В ближайший вторник Махмуд Недим-паша позвал Зию на свой обычный прием. Встретив его крайне любезно, он вновь попросил его подписать контракт. Но Зия не соглашался. Тогда садразам вспылил:
– Ваше упорство подтверждает ходящие о вас слухи о том, что Гирш дал вам взятку в 300 тыс. франков.
Зия вскочил:
– Паша, даже мой злейший, смертельный враг Али-паша не осмеливался подозревать меня в бесчестном поступке. Вы же, чтобы заставить подписать составленный вами никуда не годный, вредный для страны договор, оскорбляете честного человека. Мне больше нечего делать в вашем доме, – и он бросился вон.
Старик-садразам испугался скандала. Он бежал за Зией по лестнице и, хватая его за сюртук, извинялся:
– Милый мой, я просто хотел испытать тебя. Ты знаешь, что я отношусь к тебе как к родному. Не сердись.
Он насильно вернул Зия в залу, но подписи от него все же добиться не мог.
После этой истории отношения Зии с великим визирем совершенно испортились. Он пытался еще обратить на себя внимание султана своими стихами, ему посвященными, предпринял издание большого сборника старинной поэзии, который, как он надеялся, должен был вернуть ему расположение двора. Но все было напрасно.
В противоположность Зие, уже с самого момента возвращения в Стамбул, Намык Кемаль развил лихорадочную общественную и оппозиционную деятельность. Он немедленно начал сотрудничать в газете «Хадика», издаваемой Эбуззиа-Тефиком, а вскоре затем в компании с этим последним, а также со своими друзьями Нури и Решадом, бывшими с ним в эмиграции, и своим родственником – Махиром, начал издавать газету «Ибрет» («Назидание»), купленную у одного армянина. Главная журналистская деятельность Намык Кемаля относится именно к эпохе «Ибрет».
Когда-то величайший турецкий архитектор Синан, чьи величественные здания, украшающие Стамбул и Адрианополь, остаются непревзойденными шедеврами оттоманской архитектуры, говорил о своих трех мечетях: «В Шах-заде – я ученик, в Сулеймание – подмастерье, а в Селимие – мастер.[64]
Намык Кемаль мог сказать те же слова про три свои газетные эпохи: „Тасфири Эфкяр“, „Хурриет“ и „Ибрет“. В этой последней он действительно выявил себя мастером.
Опыт заграничной жизни, изучение европейской литературы и журналистики оказали ему громадную услугу. По выражению недавно скончавшегося турецкого литературного критика Сулеймана Назифа, когда Намык Кемаль бежал за границу, турецкая пресса лишилась ножа, но когда он вернулся, она приобрела бритву.
Популярность Кемаля в то время была уже так велика, что появление „Ибрет“ составило в жизни Стамбула настоящее событие. Это был как бы луч света в атмосфере полного мрака.
„В день выхода первого номера газеты,[65] – рассказывает в своих воспоминаниях Эбуззия-Тефик, – на улицах Стамбула царило необычайное оживление. На публику сильнее всего, лучше всякой рекламы, подействовали имена младотурок – издателей газеты, Номер был моментально раскуплен. Днем было выпущено второе издание в 5 тыс. экземпляров. Всего первый номер разошелся в количестве 25 тыс. экземпляров“.
Ежедневно газета печатала статьи по вопросам внутренней и внешней политики, как-то: „Наша будущность обеспечена“, „Европа не знает Востока“, „Отечество“, „Семья“, „Предрассудки“, „Право“, „Равенство“, Просвещение», «Завоевание Хивы и Бухары», «Критский вопрос», «Больной человек», «Политика Пруссии» и другие.
В своих статьях Кемаль осторожно, учитывая отсталые взгляды тогдашнего турецкого общества, проповедывал реформу жизненного уклада, искоренение предрассудков, приобщение к западной культуре. В то же время он пропагандировал конституционные идеи и резко критиковал внешнюю политику правительства, которая сводилась к позорному страху перед русским и европейским оружием и к постыдной торговле национальными интересами.

Намык Кемаль по возвращении из эмиграции.
Популярность Кемаля росла не по дням, а по часам. «Ибрет» взбудоражил всю атмосферу Стамбула, что не замедлило встревожить правительство. Махмуд Недим решил принять срочные меры. Испытанным старым средством, позволявшим без шума удалять подальше беспокойных людей, как мы видели выше, являлось в то время их назначение на какой-либо чиновничий пост в отдаленную провинцию. Кемаль был послан в Гелиболу[66] начальником округа, Нурибей – чиновником в Ангорскую губернскую канцелярию, Решад – каймакамом[67] в Биледжик, а Эбуззия-Тефик – секретарем в Смирнский суд. Таким образом, обе редакции «Ибрет» и «Хадика» были рассеяны.
На несколько месяцев правительство успокоилось. Но весьма скоро Эбуззия-Тефик, вследствие упразднения Смирнского центрального суда, вернулся в Стамбул и возобновил издание «Хадика». Вслед за этим снова стал выходить «Ибрет». Намык Кемаль посылал из Гелиболу статьи и в ту и в другую газету. В «Хадика» он подписывался «Н. К.», а в «Ибрет» – «Б. М.» (Баш Мухарир – главный редактор).
Нападки на политику правительства в этих статьях стали еще резче. Служба Кемаля в Гелиболу продолжалась недолго. У него возник ряд столкновений с начальником Дарданелльских укреплений и другими крупными чиновниками округа. Как-то, ввиду появившихся случаев бешенства, окружное управление распорядилось расселить бродячих собак, предварительно отделив самцов от самок, по различным кварталам города. Как известно, до младотурецкой революции 1908 года бродячие собаки в Турции пользовались настоящей «неприкосновенностью». Кемаля обвинили в святотатственном оскорблении собачьего рода и уволили со службы.[68]
Понятно, что возможность вернуться в Стамбул[69] была для него настоящим счастьем. Он вновь становится во главе «Ибрет» и продолжает свою кипучую журналистическую деятельность. К этому периоду относится и ряд переводов европейских произведений, сделанных Кемалем. В частности, им были переведены весьма удачно на турецкий язык стихи национального французского гимна «Марсельезы», которая во всех странах самодержавного режима была в то время революционным гимном.
Приобретенный политический и журнальный опыт не мог не натолкнуть Кемаля на мысль, что, ввиду безграмотности подавляющего большинства населения, турецкая пресса является крайне ограниченной трибуной для распространения идей, которые в первую очередь предназначены для проникновения в широкие массы. Лишь небольшая кучка образованных людей: чиновников, людей свободных профессий, буржуазии, т. е. в общей сложности несколько десятков тысяч человек на всю громадную страну, читали газеты и могли усваивать ту проповедь обновления и реформ, которую он неустанно вел со страниц различных изданий. Для всей остальной массы населения печатное слово было недоступным. В поисках средств более широкого и доступного влияния на массы, Намык Кемаль натолкнулся на мысль о театре.
В бытность свою в Европе, он не мог не заметить, каким могучим средством воздействия на массы является театр. В театр шли не только представители зажиточных и обеспеченных классов, но и мелкая буржуазия, ремесленники, рабочие, студенческая молодежь. Неграмотный человек, не способный прочесть двух печатных слов, прекрасно воспринимал идеи автора, воплощенные в живой образ, в живое действие. Да и для грамотных, но отступавших перед сухостью газетного языка, маленький диалог на сцене усваивался лучше, более непосредственно влиял на чувства, чем лучшая газетная статья. Все это убеждало Кемаля в громадном значении, театра как средства пропаганды и агитации.
К тому времени в Турции настоящего театра не существовало. Официальная религия весьма отрицательно смотрела на это искусство. Полное исключение женщины из общественной жизни создавало дополнительные трудности для его развития. Существовавшая в турецких народных массах громадная потребность в развлечениях театрального типа удовлетворялась примитивными и подчас грубыми формами балаганных представлений: «Орта ойун» (средняя игра) и «Карагез».
«Орта ойун», вышедшая из итальянской «комедия дель артэ», ближе подходящая к нашему представлению о театре, являлась обыкновенным ярмарочно-балаганным представлением, часто содержавшим весьма грубые и скабрезные шутки. «Карагезом» в Турции называют театр теней. Вырезанные из картона силуэты кукол проектируются на белом экране; они делают несложные движения, и орудующие ими актеры говорят за них, как в русском «Петрушке». Обычно ведут игру два или три, освященных вековой традицией, типа: Карагез – простак, наделенный ясным мужицким умом, Хаджи-Эйват – хитрец, говорящий книжным витиеватым языком и, наконец, Бекри-Мустафа – менее постоянный персонаж, роль которого бывает различна.

Газета «Диоген», в которой Намык Кемаль писал сатирические стихи против великого визиря Махмуд Надима.
Как это ни странно, но именно чисто народный Карагез испытал на себе влияние Запада и, в частности, мольеровских комедий.
Во время поста Рамазана, длящегося целый месяц, во время которого верующие не пьют и не едят днем, а по ночам насыщаются и развлекаются, «Орта ойун» и «Карагез» собирают вокруг себя громадное количество зрителей.
В эпоху Танзимата в Стамбуле и двух-трех других городах появились уже театры европейского типа. Правда, это были самые примитивные предприятия. Так как закоренелые предрассудки не допускали даже сравнительно передовых мусульман к профессии актера и заставляли считать ее позорной, пионерами театрального дела в Турции явились армяне и левантийцы. Они были как антрепренерами, так и актерами. Театральные здания представляли собой обыкновенные досчатые балаганы, устроенные самым примитивным образом. В 60-годах в Стамбуле было два таких театра: один в Галате, другой – на азиатском берегу Босфора. Пьесы ставились в них переводные, по большей части самого дурного вкуса. Только гораздо позже были поставлены мольеровский «Мещанин во дворянстве», оперетта «Жирофле-Жирофля» и «Горе от ума» Грибоедова, в переводе беглого черкеса Мухамед Мюрад-бека.
Национальных турецких пьес в то время еще не было. Первая чисто турецкая пьеса «Женитьба поэта», написанная лет 15–20 перед тем Шинаси, никогда не увидела подмостков и была уже давно забыта, несмотря на ее сценические достоинства. Таково было положение с турецким театром, когда Намык Кемаль принялся писать свою первую, наделавшую столько шума и так печально отразившуюся на судьбе автора пьесу: «Отечество или Силистрия».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Снова на Родине
Снова на Родине Настал долгожданный день. 19 июня 1945 года, через сорок дней после окончания войны, был получен приказ о нашем возвращении на Родину. По-братски распрощавшись с югославскими товарищами и получив ордена Партизана Югославии, наш экипаж оторвался от аэродрома
На родине
На родине Весной 1887 года Чехов собрался на родину. Семь лет прошло с тех пор, как он покинул Таганрог.Какие резкие, мучительные впечатления вынес он от этой поездки!«…Впечатления Геркуланума и Помпеи: людей нет, а вместо мумий — сонные дришпаки (Дришпаки — молодые люди;
Снова Карелия, снова финны
Снова Карелия, снова финны — Мы, товарищ Мерецков, хотим вам предложить Карельский фронт, — сказал Сталин. — Вы хорошо знаете Северное направление. К тому же приобрели опыт ведения наступательных операций в сложных условиях лесисто-болотистой местности. Вам и карты в
42. Снова на родине
42. Снова на родине Об упрямстве Фердинанда Порше ходили легенды. Но его поступки легко понять, если взглянуть на события, происходившие в то время…В 1928 году компания «Даймлер» переживала тяжелые времена. Спрос на дорогие роскошные автомобили резко упал – в Германии
Глава V. Четверть века в строю Снова во главе КБ. И снова главный идет на риск. «Это техническая фантазия!» На одном дыхании. Взлет без разрешения… Словно тысяча чертей. Есть два «маха»! И самолет назвали Су-7. Он идет в серию!
Глава V. Четверть века в строю Снова во главе КБ. И снова главный идет на риск. «Это техническая фантазия!» На одном дыхании. Взлет без разрешения… Словно тысяча чертей. Есть два «маха»! И самолет назвали Су-7. Он идет в серию! В начале 50-х годов ведущие конструкторские бюро
ГЛАВА 7. СНОВА НА РОДИНЕ
ГЛАВА 7. СНОВА НА РОДИНЕ Что говорить! “Хорошо жить в Париже!” — а не живется дольше. Тянет домой. Там зреют события, бурлит и бьет ключом своя, не чужая жизнь. Там и место сейчас русскому человеку, и всего больше — журналисту.Парижские бульвары с их перемеживающимися,
ГЛАВА 2. СНОВА — КАРЬЕРА ПОЛИТИКА, СНОВА — ЛИЧНАЯ ДРАМА
ГЛАВА 2. СНОВА — КАРЬЕРА ПОЛИТИКА, СНОВА — ЛИЧНАЯ ДРАМА «Принцип абсолютного приоритета личности, ее достоинства, в том числе и по отношению к государству, — это прямая производная от западного христианства»[28] Однажды, много позже описываемых здесь событий, в ходе
СНОВА НА РОДИНЕ
СНОВА НА РОДИНЕ Нa чешской земле была весна, когда Сметана вернулся в Прагу. В майском уборе стояли деревья, наполняя воздух ароматом свежей молодой зелени. Вдоль улиц цвели каштаны, и ветер кружил осыпавшиеся белые лепестки. Счастливый бродил Сметана, любуясь картинами
Снова на Родине
Снова на Родине Тоска по родной стране была столь велика, что отец отказался от контрактов в Англии и Америке, и в июле 1930 года наша семья вернулась в Советский Союз.Мы возвращались из-за границы повзрослевшими, и не только потому, что нам просто прибавились годы. Дело
Глава 14. СНОВА ГАСТРОЛИ НА РОДИНЕ
Глава 14. СНОВА ГАСТРОЛИ НА РОДИНЕ В обществе Бенедетты. Бенедетта разумно удерживает меня от необдуманного шага. Договор с театром в Пизе. Триумфальный дебют. Великодушие Джиральдони. В театре Массимо и в доме у импресарио — мецената Флорио. Подарок донны Франки. В театре
СНОВА АРЕСТ, СНОВА ТЮРЬМА…
СНОВА АРЕСТ, СНОВА ТЮРЬМА… Весной 1912 года на далеких сибирских рудниках были расстреляны царскими властями рабочие. Эта весть молниеносно облетела всю Россию. События на Лене подняли за собой новую волну революционного движения в стране. Русский пролетариат энергично
ГЛАВА 19 Снова в пустыню — Через реку 27 раз — 13-й переход — Течение уносит — Спасение на краю гибели — Невыносимый холод — Снова в воде — Черепашьим шагом — к дому
ГЛАВА 19 Снова в пустыню — Через реку 27 раз — 13-й переход — Течение уносит — Спасение на краю гибели — Невыносимый холод — Снова в воде — Черепашьим шагом — к дому Сразу же после праздника Благовещения брат-пчеловод, удачно завершив все свои покупки, поспешил уехать
Глава 1. Дежавю[4] снова и снова
Глава 1. Дежавю[4] снова и снова Странная ситуация сложилась в корпорации Chrysler в начале 90-х. Компания, которую всего десять лет тому назад спасли при помощи исторического и неоднозначного решения — предоставления займов, гарантированных федеральным правительством, снова