Не был, а есть!
Не был, а есть!
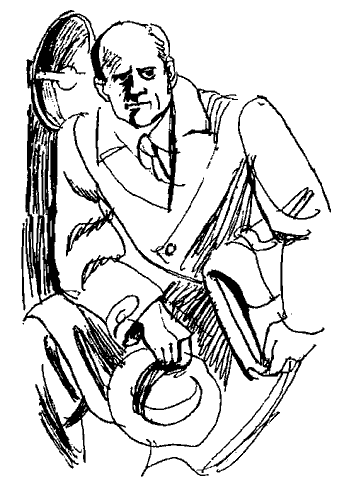
И. Рябов
По широкой обшарпанной лестнице, ведущей на второй этаж неуютного, царской постройки, казенного здания, к двери, на которой висела не очень аккуратно написанная вывеска «Тверской губернский комитет РКСМ», поднимался тощий длинный парнишка с пачкой книг и тетрадей, заткнутой за пояс. Он нерешительно потоптался у двери, робко приотворил ее. В большой прокуренной комнате, за одним из разнокалиберных, беспорядочно расставленных столов круглоликая девушка в красной косынке, читая какие-то бумаги, грызла яблоко, большое и румяное, как и ее щеки. Посетитель робко предстал перед ней и стал сбивчиво излагать, что он юнкор, что несколько его заметок уже напечатаны в «Тверской правде» и что теперь вот им написан очерк на интереснейшую молодежную тему.
— Так тебе что? — спросила девушка, оторвав глаза от бумаг.
— Мне редакцию «Путь молодежи».
— Там, — был ответ, и рука, державшая наполовину съеденное яблоко, указала на дверь, из-за которой доносился молодой голос, ласково, распевно читавший стихи.
За второй дверью бродили все те же сизые клубы табачного дыма. Так же тесно толпились столы. На них сидели какие-то парни, девушки, и один из них, ясноглазый, чубатый, с живым подвижным лицом, озорным, мальчишеским голосом читал, округло размахивая рукой:
…Моя родимая, сосновая,
Вот эта — наша быль.
Поют по-новому, по-новому
Дорожные столбы.
Все те же серенькие тучи
И серых изб кольцо,
Но ветер молодой и жгучий
В мужицкое лицо…
Слушали, дымя папиросами, серьезно, будто доклад. Заметив вошедшего, чубатый, приостановив чтение, через головы слушающих вдруг спросил его:
— Ну как? Нравится?
— Нравится, — ответил тот, заливаясь краской.
— Знаешь, чьи стихи?
— Н-н-н-ет… Есенина?
Воцарилось неловкое молчание. Губкомольцы с осуждением, с насмешкой смотрели на невежду. Но читавший вдруг рассмеялся, да так заливисто, заразительно, как смеются лишь добрые люди, обладающие крепким душевным здоровьем. Против этого смеха нельзя было устоять. Скупо заулыбались важные губкомольцы, и даже вновь пришедший, уже успевший понять, что он сморозил чепуху, отчего лицо его приняло свекольный оттенок, тоже поддался обаянию этого смеха. Вытирая слезы, выступившие на глазах, и все еще лучась улыбочками, вихрастый снисходительно сказал:
— Чудило — это же я написал. Мои стихи… А ты, между прочим, парень, к кому?
— Мне бы редактора «Пути молодежи».
— Это тоже я, — сказал поэт, садясь за стол, на котором только что сидел, и с шутливой подчеркнутостью отрекомендовался: — Редактор Рябов Иван, все, как ты заметил, зовут Ванька. Тебе тоже разрешается. — И показал на заваленный бумагами, гранками стол: — А это — моя редакция. Садись. Стихи принес?
— Нет, очерк.
— Очерк — это хорошо. Давай сюда. А то завалили стихами. Впрочем, удивляться не приходится, стихи в твоем, брат, возрасте — проявление не столько литературное, сколько физиологическое… Понял? Эге, я вижу, ты смекалистый… Ну, посиди, а я прочту твою опусину. С очерками у меня как раз зарез…
Мы были знакомы с Иваном Рябовым больше тридцати лет, работали вместе в юношеской газете «Смена», частенько встречались потом у нас на родине, в Твери, именуемой теперь Калинином, и многие годы, сотрудничая после войны в редакции «Правды», жили в одном доме. Он стал известным, получил всеобщее признание как один из лучших очеркистов страны, потолстел, изменился внешне. Но для меня он на всю жизнь остался тем складным, чубатым, ясноглазым пареньком, с живым, подвижным лицом, могущим мгновенно менять свое выражение, с лицом, на котором, однако, всегда жила то скрытая, то явная, но какая-то неугасимая, неиссякаемая улыбка, — словом, таким, каким я увидел его в первый раз, когда он принял из моих рук мой первый очерк, к слову сказать, тут же на месте им и забракованный.
Это был русский человек, с душой богатой и необыкновенно щедрой. Это был добрый человек. Но его доброта не имела и оттенка показного добрячества. Наоборот, с юношеских лет, с тех пор, как мы видели его редактором сначала вкладки «Путь молодежи», появлявшейся по субботам во «взрослой» «Тверской правде», а затем заместителем редактора боевой инициативной «Смены», он зарекомендовал себя человеком прямым, резким в суждениях, склонным скорее к сатире, чем к юмору. Никто лучше его не умел у нас в глаза автору разбранить халтурную рукопись, сказать человеку, совершившему неблаговидный поступок, все, что он по этому поводу думает, и сказать самыми резкими словами. Но за этой его непримиримостью всегда чувствовалось желание помочь человеку, исправить его, очистить его душу от накипи и дряни. Заблудившегося он готов был терпеливо выводить на дорогу, падающего никогда не толкал.
Это был литератор, как говорится, «милостью божией», литератор каждой клеткой своего существа, каждым уголком и закоулком души. И хотя стихи свои он печатал лишь в юности, а потом никогда не переиздавал, он оставался поэтом до конца своих дней.
Тверская комсомольская газета «Смена», родившаяся в конце двадцатых годов, возникла при его горячем участии. Это была самая демократическая редакция, какую только можно себе представить, и в центре ее неизменно стоял живой, ясноглазый юноша с озорными глазами — Ваня, как звали его все, от редактора до пожилой курьерши тети Елены, самого положительного персонажа редакции.
Работал тогда Рябов весело, со вкусом, без всякого напряжения. Под шум, смех, под рассказы веселых историй, под все, что обобщалось популярным в те дни словечком «балдеж», он мог написать передовую на какую-нибудь весьма непоэтическую, но важную тему, как, например, участие комсомольцев в яйцезаготовках. Пишет, весь уйдет в дело, бормоча какие-то слова. Острые, размашистые буквы, тесно лепясь одна к другой, ложатся на бумагу, и вдруг, когда «балдеж» достиг кульминационной точки и все позабыли о рождающейся передовой, в комнате раздается громкий певучий голос:
…Вы помните, вы все, конечно, помните,
Стояли вы, приблизившись к стене…
Настает тишина. Все удивленно оглядываются. Рябов стоит веселый, озорной, лукаво посмеивается. Потом, будто поймав что-то, что ускользало, не давалось ему, быстро склоняется над столом и, точно стараясь поскорее пригвоздить к листу это недающееся, ускользающее, снова яростно пишет, позабыв обо всем и вся.
Читал он много. Стихами был просто перенасыщен, и они прорывались у него порой без всякого видимого повода, даже посреди делового разговора и так вот, во время работы. Любил и Пушкина, и Некрасова, и Тютчева, и Фета, и Маяковского, и Тихонова, и Багрицкого. Множество знал наизусть, легко приводил на память целые стихотворения. Но больше всего, как мне кажется, в ту пору любил он Есенина, его деревенские стихи, хотя всячески это отрицал и очень сердился, когда кто-нибудь говорил ему об этом. Но увлекался он не «Москвой кабацкой» и не «Исповедью хулигана», которые тогда кружили немало неустойчивых молодых голов. Он любил лучшее, что было в стихах прекрасного русского поэта, — богатство его языка, силу его слова, насыщенность образов, его ощущение мира сельского труженика, стоявшего тогда на распутье двух дорог, из которых одна была веками обкатанная, с глубокими, трудными колеями, полными вязкой грязи, а другая — большая, широкая, но еще не изведанная, неведомо что сулящая и что таящая за горизонтом.
И в юношеских стихах Рябова, написанных когда он был еще «избачом» маленького сельского клуба в деревне Селищи, говорилось:
Тяжело мне под этой крышей —
Мне, видавшему много крыш.
Только ветер сердитый колышет
Над деревней осеннюю тишь.
И в угрюмый, холодный вечер
Я грущу одиноко о том,
Что, как встарь, похвалиться нечем
Мне тобою, отцовский дом.
Но я знаю, и слышит каждый
Вот из этих поникших изб,
Как по-новому мается жаждой
Вековая крестьянская жизнь.
Быть еще и засухам и ливням,
Но взрастет полнокровная новь
В перепутанных жнивьях
Миллионов мужицких голов…
Этих своих юношеских стихов, изданных в 1927 году в Твери, Рябов потом стеснялся и, вероятно, не разрешил бы цитировать их, если бы перед публикацией мог прочесть эти мои строки. Но, думается мне, нельзя представить себе этого большого советского публициста во весь рост, если обойти первые его произведения, написанные в ранней юности, когда он селькорствовал, был избачом, секретарем волисполкома, организатором одной из первых в Тверской губернии сельских комсомольских ячеек.
Думается, что именно в те, уже далекие теперь, дни навсегда и определился в нем интерес к жизни сельских тружеников, возникла любовь к родной, скромной, милой верхневолжской природе, появилось умение ценить слово — чистое, звонкое, точное русское слово. Все это он пронес через жизнь в журналистике и литературе.
Вскоре он уехал из Твери в Москву, но, и это кажется мне характерным, никем в родных краях не был забыт. Все, даже те, кто приходил в тверские редакции уже позже, когда его не было, считали Рябова своим, гордились успехами земляка и по-прежнему называли его не по фамилии, не Иван Афанасьевич, а Ваня…
Ваня! Это как-то очень к нему шло и будто даже определяло его душевные качества.
Но и он, работая в столичных газетах и журналах, набирая силы, приобретая литературное имя, оставался прежним, юношески пылким, чутким, жизнелюбом, жадным до всего нового, с восторгом относившимся ко всем проявлениям истинной новизны и со столь же горячей ненавистью к пошлости, к глупости, к узкому мещанскому мышлению в искусстве, в литературе, в быту, к приспособленцам, к лакировщикам действительности, к тем литераторам, что действовали по принципу «чего изволите».
Помнится, в конце тридцатых годов встретились мы с ним на узловой станции Лихославль. Он возвращался из города Торжок, а я ехал туда, чтобы написать о молоденькой колхознице, ошеломившей в ту осень всю нашу льноводческую область обещанием взять тонну волокна с гектара. Я подошел к билетной кассе и вдруг слышу — из человеческой толчеи доносится знакомый заразительный, заливистый смех. Рябов! Ну так и есть. Он стоит, показывая каким-то военным, как оказалось, случайным попутчикам, небольшую бумагу, и хохочет, заливается, заставляя улыбаться окружающих.
Не виделись мы с ним лет пять. Очень обрадовавшись, бросился я к нему. Едва взглянув, он скороговоркой пробормотал:
— А, это ты?.. Здравствуй! Куда едешь? И, не слушая ответа, показал мне бумагу.
— …Нет, ты прочти, прочти, какие объявления развешивают у вас тут, в богоспасаемом городе Торжке. Вот, собственноручно со столба отлепил… Уникум!
Это был рукописный плакат. Некая артель «1 Мая» извещала, что она с началом учебного года начинает валку теплой детской обуви… «из шерсти родителей».
— Ты смотри, смотри, что они там объявляют!
И снова звенит его милый, звонкий, заразительный смех, и снова все вокруг, даже те, кто и подозревать не может, о чем идет речь, глядя на этого уже полнеющего человека со шляпой на затылке, с толстым, тяжелым портфелем, который он прижимает к животу, как ребенка, невольно улыбаются.
— Да мы, кажется, еще и не поздоровались… — спохватился он. — Ну, извини. Здравствуй. Так зачем и куда едешь?
Я стал рассказывать. Он слушал будто рассеянно, думая о чем-то другом. Потом выхватил из кармана бумажник, стал быстро пересчитывать деньги. Их оказалось немного. Он огорчился.
— Жаль, не хватит… Знаешь, а ведь это здорово интересно насчет этой льноводной девицы. Вот молодец! Надо бы и мне поехать… А, была не была. Дам телеграмму в редакцию, — может, пришлют…
И он отправился обратно, в тот самый новоторжский колхоз, где произошло знаменательное событие. Известный московский журналист снова имел возможность поразить своего провинциального коллегу дотошностью, жадностью до всего нового, интересом, любовью к людям.
По природе творчества, в отличие от меня, он не был репортером. Его интересовал не сам факт — тонна волокна с гектара. Его интересовала психология подвига, интересовало, как семнадцатилетняя девушка, ничем до той поры не примечательная, пришла к государственной мысли, что лен лучше «не размазывать» по посевным площадям, а, сосредоточив силы, удобрения, машины на площадях меньших, суметь взять больше волокна и лучшего качества. Пока я бродил по полям, он беседовал с героиней, с ее матерью, дедом и пришел в неописуемый восторг, узнав, что этот самый дед «еще при царе Николашке Кровавом» на узенькой полоске тощей тверской земли брал столько, что и в современном пересчете звучало солидно: тонна с гектара.
— …Нельзя быть Иванами не помнящими родства. Русский мужик искони был талантлив, необыкновенно талантлив, умен, самобытен. Только не поддерживали в нем этого горения, и гас огонь, развеивался у кабацкой стойки…
Был прохладный сентябрь. На ночлег мы с Рябовым устроились в сарае, набитом неистово пахнущим луговым сеном. Мелкий дождь шелестел по драночной крыше. Где-то рядом, в сене, спал тот самый дед, который только что своим «государственным разумением» умилил моего друга. А Рябов не спал, все ворочался. Шуршало сено.
— Боже ж ты мой, как безмерно талантлив русский человек… Не спишь? Знаешь, у Глеба Успенского…
Дальше было импровизировано блестящее эссе об Успенском, которого Иван Афанасьевич чтил больше всех дореволюционных публицистов и которому впоследствии посвятил серьезный труд.
Рябову были одинаково противны как стремления обеднить и принизить богатое великими делами, открытиями и изобретениями прошлое народов России, так в одинаковой же степени бытовавшее в ту пору поветрие, выражающееся в желании доказать, что все хорошее и ценное, что сделало человечество в науке, в технике, родилось именно у нас. Этого проявления комчванства, которое Рябов именовал советским зазнайством, он тоже терпеть не мог.
Однажды в редакции некий не в меру экзальтированный литератор пустился при Рябове, с обычным для себя преувеличенным пылом, обосновывать одно такое сомнительное утверждение. Рябов стоял, переминаясь с ноги на ногу, с отсутствующим видом. Вдруг лицо его стало подчеркнуто серьезным.
— Правильно, — сказал он, — а ведь и рентгеновские лучи открыл вовсе не Вильгельм Конрад Рентген, а владимирский иерей Феофан Благовещенский… Да, да. Что думаете! В пятнадцатом веке. И это легко доказать. — Рябов говорил серьезно, даже сердито. Не отвечая на удивленные взгляды, он продолжал: — Вот вы не знаете, а в так называемом Троицком списке русских летописей значится, что однажды, на масленице, оный иерей в сердцах сказал своей попадье: «Я тебя, стерва худая, насквозь вижу». Видите — уже видел насквозь! До Рентгена. — И, обращаясь к рассказчику, посоветовал: — Можете написать об этом еще одну статью. Диссертацию защитить. А что?
И, не дождавшись, пока с лиц слушателей сойдет удивление, повернулся и вышел.
Большой книгочий и книголюб, отдававший все свободное время этой благородной страсти, Рябов как никто знал историю русской публицистики от Радищева, Добролюбова, Белинского до Короленко, Глеба Успенского. Об Успенском он написал книгу. И это не просто литературная монография. Это плод раздумий самого Рябова о журналистике, о месте литератора в жизни, о силе слова в борьбе нового со старым, прогрессивного с реакционным, о великом значении публицистики в воспитании душ человеческих.
Рябов не только восторгался Успенским. Он старался следовать его примеру. Он стремился всегда быть среди своих будущих героев. Неутомимо разъезжал он с корреспондентским билетом «Правды» по своим любимым областям Центральной России, и лучшие его очерки, корреспонденции, фельетоны, как это легко установить, даже просто перечитывая их теперь, возникали именно в дни его живого общения с действительностью. Зато когда в последние годы переутомленное сердце шалило и болезнь, как он с горечью выражался, пришпиливала его к стулу, он был сам не свой. Ходил мрачный, сердитый, точно ему, привыкшему дышать полной грудью, не хватало воздуха. Писать же по готовым фактам, разговаривать о том, о чем только слышал, он просто не мог.
Однажды у нас зашла речь об одной редакции, где существовала даже специальная должность — сборщик фактов. Некто собирал интересные факты и данные для выступления какого-нибудь писателя-белоручки.
— Гадость, гадость, — сердился Рябов. — И как это можно витийствовать на основе фактов, собранных кем-то другим, ведь истинная публицистика и начинается при соприкосновении с жизнью.
В досаде он плюнул на пол и сказал гадливо:
— Терпеть не могу консервы. Кусок самого скверного мяса, мослак какой-нибудь в сто раз милей, чем роскошные консервы, приправленные лавровым листочком.
Журналистов-лакировщиков, любивших к тому же «приправлять факты лавровым листочком», просто не переносил. Об одном писателе, весьма в те годы преуспевавшем, отмечавшемся из года в год наградами, он сказал:
— Если положить его тома под типографский пресс, из них вытечет уйма сладкого сиропа. И останутся одни переплеты… Брр! Наверное, по ночам несчастный кричит в страхе, когда его обступают картонные, покрытые розовым лаком герои… Жуткое дело!
Сам он умел видеть людей такими, какие они есть, без прикрас, с их достоинствами и недостатками, со светлыми и темными сторонами характера, видеть в движении, в борении, в совершенствовании. Именно поэтому победа нового в его очерке ощутима, убедительна, а разоблачение старого, с каким бы сарказмом, с какой бы злостью он его ни производил, никогда не было мрачным делом, и сам он не выглядел при этом ни ура-энтузиастом, ни брюзгой. Он оставался самим собой, Иваном Рябовым, хорошим советским человеком, с живой, умной искрой в глазах, умеющим наблюдать жизнь, слышать, как бьется пульс его великого народа.
Весьма обширное литературное наследство И. А. Рябова, к сожалению, издано лишь в незначительной степени. Это — множество фельетонов, очерков, рецензий, литературоведческих статей, которые старшее поколение советских читателей знает и помнит по газетам. Перечитываешь эти густо населенные героями, хранящие массу описаний, полные живой, яркой мысли произведения и задумываешься, кто же он был, Рябов. Фельетонист? Да. Очеркист? Да, конечно. Литературный критик? Несомненно. Автор многих правдинских передовых, которые, как известно, не подписываются? Говорят, что да. Говорят, что именно ему принадлежат многие яркие, взволнованные, окрыленные высокой идейностью, согретые живым теплом патриотической мысли, передовые статьи. И все-таки, выступая во множестве литературных ипостасей, в лучших своих работах Рябов оставался поэтом, человеком, влюбленным в слово, в образ, в музыкально звучащую фразу.
Именно поэтому, когда он бывал, говоря спортивным языком, «в форме», все выходившее из-под его пера было красиво, доходило не только до ума, но обязательно трогало и сердца читателей. И прежний комсомольский пыл, который когда-то, в дни нашей юности, так привлекал к нему, не потух в нем до последних дней. За обликом немолодого, грузноватого, больного человека с огромной лысиной и мягким лицом всегда виделся вихрастый, стремительный парнишка с веселыми чертиками, продолжавшими жить в нестареющих, ясных глазах.
Он почему-то не любил, когда его называли писателем.
— Какой я писатель? Я журналист, — сердито буркал он. — Журналист, большевистский журналист!.. Что может быть лучше?
Это не было стремлением порисоваться. Он верил в это, считал нашу профессию важной и просто взрывался, когда какой-нибудь литературный юнец с билетом Союза писателей отзывался о журналистике с пренебрежением.
Однажды по пути из «Правды» я обогнал его на улице. Он сердито шагал в обнимку со своим портфелем.
— Здорово, здорово, — торопливо обронил он в ответ на приветствие и замолчал, по-видимому, чем-то раздосадованный.
В такую минуту его было опасно трогать. Так и шли молча. Но уже у ворот его вдруг прорвало:
— Этот… — Тут рядом с именем собственным он употребил энергичный, но совершенно не предназначенный для женского и детского слуха эпитет. — Этот сухой идиот спросил у меня сейчас, — как это мне «не надоест мотаться в газете»? Мотаться в газете! А? Да все его дохлое собрание сочинений на иной номер газеты не поменяю… Нет, ты только подумай, он там работает, а мы с тобой мотаемся.
Равнодушный к наградам, ко всяким внешним выражениям почета, Иван Рябов, не скрывая, гордился тем, что он старый правдист, и показывал пример, как надо носить это славное звание. При этом он был необыкновенно скромен, никого не поучал и, как его ни упрашивали, отказывался читать лекции по журналистике. Но в его докладах на семинарах и даже в простых выступлениях на редакционных летучках столько интересных мыслей о печатном слове, о журналистской профессии, что, если их систематизировать, они могли бы оказать добрую помощь начинающей литературной молодежи.
Его друг, правдист Юрий Лукин, готовясь к докладу о творчестве Рябова, извлек некоторые его суждения о профессии из старых стенограмм.
Говоря о радости быть большевистским журналистом, Рябов восклицал: «Газета — зеркало жизни. Ценно уже это одно ее качество. Но газета не только отражает то, что уже вошло в жизнь, стало явью, реальностью. Газета выступает в качестве организатора нового в жизни. Она смотрит вперед и выше, ей присущ полет мысли, у нее есть крылья мечты, недаром она стала такой привлекательной силой для энтузиастов и романтиков нового века в деревне».
«…У нас есть силы, энергия, желание работать. У нас есть все возможности для работы, предоставленные литераторам нашим великим и великодушным народом, столь любящим и ценящим литературу».
И дальше, верный своей поэтической манере, Рябов говорит: «У каждого человека от природы есть внутри тонкая чудодейственная пружина. Когда ее заведут, зарядят, она двигает человека к великим целям. Но, если она долго остается без употребления и ее не заряжать, она ржавеет и тогда только напрасно бременит человека. И заряжать ее должен сам носитель».
Сколько раз все мы, знавшие Рябова, слышали от него двустишье Ибсена, которое он цитировал еще когда-то, в сменовские времена:
…Того позабудет завтрашний день,
Кто сам о сегодняшнем дне забывает.
Его последняя, напечатанная незадолго до смерти, статья, посвященная новой книге молодого поэта, так и называется «Приметы времени». Многозначительное двустишье Ибсена я процитировал по ней.
Но, сделав современника и современность главной темой своей литературной деятельности, обладая счастливым даром замечать новые явления в момент их зарождения, радуясь всему новому, Рябов презирал тех коллег, которые, спекулируя на современном звучании темы, несли читателю всяческие недопеченные скороспелки. В редакции одного журнала мне привелось стать свидетелем такого многозначительного диалога. Рябову предлагали написать рецензию на одну такую ультрасовременную книгу, весьма в ту пору поднимаемую и окуриваемую критикой.
На мгновение брови Рябова сердито сошлись, но потом в глазах вспыхнули лукавые огоньки.
— Рецензию? Нет, я напишу фельетон. Ладно? Фельетон о литераторе, старающемся современность заменить сиюсекундностью. Идет?
Мысль эта ему, видимо, очень понравилась. Раздался задорный тонкий смешок, отразившийся не только в глазах, но и в каждой морщинке лица.
— Ох, соленый будет фельетон о человеке, который, позабыв о том, что на свете есть самый внимательный советский читатель, позабыв о реальной жизни, как Бобчинский или Добчинский, стремится лишь первым сказать «э».
И, развивая эту мысль, которую вынашивал с юношеских лет, он в зрелые годы говорил: «Искать жизнь — это в первую очередь искать и находить людей, творящих эту жизнь, преобразующих свое бытие. Надо искать и находить людей, олицетворяющих наш народ, выражающих в своей личности, в своем мышлении, в своих делах и подвигах генеральную линию нашего века, генеральную линию коммунистического строительства».
Людей он любил и всегда говорил, что именно в деятельности советского человека — стиль, дух его героического времени, его неповторимость, его новшества, его богатства. И он советовал, как искать и находить таких людей. «Надо брать их не по должностному признаку, не по анкетным данным, не по внешним приметам и не по рекомендациям, которые часто являются поверхностными. Очеркист, писатель должен в огромном человеческом море находить человеческие индивидуальности, расцветшие в условиях коммунистического строительства. И черты этой человеческой индивидуальности, черты советского человека вводить в мир газеты, делать их достоянием литературы»…
Перечитываешь его очерки, фельетоны, корреспонденции разных лет, и перед тобой проходит в образах, в портретах, в живых зарисовках история нашей страны, вереница тружеников, строящих социализм, готовящих себя к построению коммунизма. Глубокая человечность рябовского творчества сделала лучшие из его литературных миниатюр нестареющими, они с интересом читаются и сегодня, сохраняя свое боевое звучание на завтра, и на послезавтра, и, может быть, на многие годы.
Завтрашний для Рябова день не забывает того, кто так сердечно, проникновенно, умно писал о дне вчерашнем и позавчерашнем. Вот почему, вероятно, всем, кто знал Ивана Афанасьевича, Ваню, так трудно говорить о нем в прошедшем времени.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Не был, а есть!
Не был, а есть! И. РябовПо широкой обшарпанной лестнице, ведущей на второй этаж неуютного, царской постройки, казенного здания, к двери, на которой висела не очень аккуратно написанная вывеска «Тверской губернский комитет РКСМ», поднимался тощий длинный парнишка с
«Есть дверь и есть замок в квартире…»
«Есть дверь и есть замок в квартире…» Есть дверь и есть замок в квартире, И ты совсем один. А все ж В огромном мире, странном мире Ежесекундно ты живешь. И радио шумит, как примус, — Прибор давно минувших лет, И воздух обретает привкус Не только крепких сигарет. Он пахнет
Глава вторая. Есть человек — есть проблема
Глава вторая. Есть человек — есть проблема Гончар атакует Атмосфера страха, которую Лукашенко старательно нагнетал в стране, поглотила не всех.Он знал, что есть по крайней мере один человек, который представляет для него действительно серьезную опасность. Который будет
«У меня есть собака, значит, у меня есть душа...»
«У меня есть собака, значит, у меня есть душа...» Эту главку моей книги я бы хотела посвятить их памяти. Вашей – бодер-колли Чак Гордон Барнс из Нортумберленда, и Вам, друг мой, душа моя, любовь и скорбь моя, Чак Гордон Барнс, сын благородной колли Чейни и пограничной овчарки
Что-то есть
Что-то есть Потолкавшись среди них, я поднялся наверх, в приемную ректора (тогда им был знаменитый писатель Федор Гладков). Там сидела со строгим видом та самая секретарь Фейгина, что прислала мне телеграмму с отказом в приеме. Когда я представился, она сразу стала
«Кто есть кто?»
«Кто есть кто?» А теперь обратимся к фильмам, которые были сняты Жоржем Лотнером.Жан-Поль, конечно, знал его прежние картины. Лотнер был плодовитым режиссером и много работал в разных жанрах. Последнее время он снимал фильмы с Аленом Делоном («Ледяная грудь», «Смерть
Кто есть Who?
Кто есть Who? В сентябре 1964 года посетители паба «Railway Hotel» на северо-западе Лондона подверглись звуковой атаке со стороны ритм-энд-блюзового квартета The High Numbers, который скоро поменяет название на The Who и начнет играть материал собственного сочинения вместо кавер-версий
МУР есть МУР
МУР есть МУР Фраза эта принадлежит литературному герою, авторитетному вору Софрону Ложкину, персонажу повести Аркадия Адамова «Дело „пестрых“». В одноименном фильме их произнес Михаил Пуговкин, блестяще сыгравший Ложкина.Книга А. Адамова стала первым сочинением о
Кто есть кто
Кто есть кто Первого сентября в мастерской Юткевича состоялось общее собрание и мы впервые увидели друг друга. Среди студентов сразу обращали на себя внимание иностранцы и фронтовики – все это были взрослые, зрелые люди, повидавшие войну, прошедшие огонь, воду и медные
Кто есть кто
Кто есть кто Первого сентября в мастерской Юткевича состоялось общее собрание и мы впервые увидели друг друга. Среди студентов сразу обращали на себя внимание иностранцы и фронтовики — все это были взрослые, зрелые люди, повидавшие войну, прошедшие огонь, воду и медные
Кто есть кто
Кто есть кто Кама Гинкас – театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФСоломон Абрамович – профессор Лондонского университета (Великобритания)Алла Демидова – актриса, народная артистка РСФСРАлександр Митта – кинорежиссер, народный артист РФЛиля Митта –
Кто есть кто
Кто есть кто Агранович В. М. — доктор физ. — мат. наук, известный физик-теоретик, институт спектроскопии РАН.Александров Л. П. — академик АН СССР, выдающийся физик-ядерщик, трижды Герой соцтруда, директор ИАЭ им. И. В. Курчатова.Алиханов А. И. — академик АН СССР, выдающийся
Есть тот же дом
Есть тот же дом Среди ветров и ветерков, колеблющих и наполняющих в разные времена Парус Плаваний и Воспоминаний были разные: и такие, что, случалось, заставляли раньше времени отшвартовываться от тех причалов, у которых, казалось бы, особенно приятно стоять каждому
Кто есть кто
Кто есть кто Юрий Алексеевич Спиридонов — 1938 года рождения, русский. Родом из Омской области. В 1964 году Ю. Спиридонов приехал в Коми АССР и стал первым руководителем — ОТЦОМ Республики Коми в современной России. Сначала он завладел партийной властью в республиканской