V «АРЗРУМ НАГОРНЫЙ»
V
«АРЗРУМ НАГОРНЫЙ»
От «милости» властей и «популярности» в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать — в деревню, в чужие края, в Париж или в Пекин, — лишь бы освободиться от обступившей его «тупой черни». Давно замышленный «побег» отчасти получил свое осуществление в самовольной и стремительной поездке на турецкий фронт. В стратегический план главнокомандующего отдельным кавказским корпусом — Паскевича — входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было «поехать посмотреть на Константинополь». Такая возможность, видимо, снова, как и в 1824 году, соблазняет поэта. Во всяком случае путешествие в действующую армию давало хотя бы временное избавление от Петербурга.
Пушкин сам рассказал в 1836 году по записям своего путевого журнала 1829 года всю эту замечательную главу своей биографии: посещение под Орлом опального Ермолова (вызвавшее в дорожном дневнике поэта изумительный портрет: «Голова тигра на геркулесовом торсе»); пребывание в калмыцкой кибитке под Ставрополем (получившее отражение в степном мадригале: «Прощай, любезная калмычка!»); переезд по Военно-Грузинской дороге, две-три недели в Тифлисе, где местное общество венчало «русского Торквато»; встречу с телом Грибоедова, военные действия Паскевича, посещение арзрумского гарема и чумного лагеря. Одна глава автобиографии Пушкина написана им и не нуждается в пересказе. Она может быть только дополнена материалами, освещающими те моменты, которые по ряду соображений поэт не захотел включить в свой рассказ или изложил намеренно сжато. «Путешествие в Арзрум» известно каждому, но на его полях можно сделать несколько заметок.
Накануне тридцатых годов, с их заботами, обязательствами, тисками и гнетом, летом 1829 года в последний раз блеснула молодость Пушкина Красочность и удаль азиатской войны, живописность утесов и пропастей горной дороги, восточные бани и грузинские песни, воздушные строфы самого путешественника о «шатре» Казбека и холмах Грузии — все это кажется продолжением далеких южных лет с их скитаниями, таборами, черкесскими песнями, мечтой о заморских краях и бессмертными поэмами.
Путешествие в Арзрум было возвратом к лучшей поре, новым свиданием с Николаем Раевским, новым созерцанием Эльбруса, непосредственным наблюдением Пушкина над жизнью, нравами и песнями горных народов и, наконец, творческим воспоминанием о Марии Раевской, неизменной Беатриче его жизненною пути:
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Стихотворение было написано на Северном Кавказе, в местах, памятных по путешествию с Раевскими в 1820 году.

Тифлис в 30-х годах прошлого столетия.
«Я остановился в трактире на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев» («Путешествие в Арзрум»)
Столь ценивший «сладостный союз поэтов», Пушкин в новой поездке чрезвычайно расширил круг своих личных общений с мастерами размеренной речи. Недалеко от Казбека он встретил поезд иранского принца Хосрев-Мирзы, посланного в Петербург с извинениями за убийство Грибоедова и всей русской миссии. Принца сопровождал знаменитый иранский поэт и ученый Фазиль-хан. Пушкин просил представить его тавризскому писателю и был очарован простотой его обращения и «умной учтивостью» его беседы. Сохранились наброски его стихотворного посвящения Фазиль-хану, в котором русский поэт несколько по-восточному благословляет день и час, когда судьба его соединила в горах Кавказа с собратом по искусству, благословляет новый путь тегеранского лирика «на север наш суровый, — Где кратко царствует весна, — Но где Гафиза и Саади — Знакомы имена…» Среди этих неотделанных черновиков блещет великолепная строфа:
Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след в своих стихах.
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.
В Тифлисе Пушкин познакомился с крупнейшими поэтами современной Грузии — Александром Чавчавадзе (тестем Грибоедова) и Григорием Орбелиани. Это были знатоки русской и европейской поэзии (их перу принадлежит и ряд переводов из Пушкина); они способствовали знакомству странствующего поэта с народным творчеством своей родины.
В Тифлисе в честь Пушкина был устроен праздник с музыкой, пением, танцами. В загородном винограднике за Курою были собраны «песенники, танцовщицы, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии, — сообщал впоследствии устроитель этого празднества. — Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песнь, и Ахало, и Алаверды, и Якшиол…» Пел имеретинский импровизатор под аккомпанемент волынки. Национальное искусство еще ярче выступало на фоне сменявшего временами грузинских музыкантов европейского оркестра, игравшего марш из «Белой дамы» Боальдье. «Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячьей веселости!» «Голос песен грузинских приятен», записал Пушкин в своем «Путешествии», а один из романсов, прозвучавших на этом вечере, «Ахал агнаго суло», он перевел и поместил в своей книге. Это «Весенняя песнь» поэта Димитрия Туманишвили, расцвеченная восточными орнаментальными образами и красивым строфическим рефреном: «От тебя ожидаю жизни!» Можно поверить мемуаристу, что под утро, взволнованный этим богатством красочного искусства Грузии и горячими приветствиями тифлисских друзей, венчавших поэта живыми цветами, Пушкин сказал им: «Я не помню дня, когда был веселее нынешнего…»
Дальнейшее путешествие дало новые встречи уже с азербайджанскими поэтами: в Кахетии Пушкин познакомился с Мирза-Джан Мадатовым, автором анакреонтических песен; в штабе Паскевича ему представили одного из крупных писателей Азербайджана Абас-Кули-Ага Бакиханова, сына изгнанного бакинского хана Мирза-Мухамед-хана. Он хорошо владел восточными и западными языками — фарсидским и французским. Эти встречи не прошли бесследно. Личность и творчество Пушкина были горячо восприняты азербайджанской поэзией, через несколько лет раскрывшей свою любовь и поклонение убитому русскому певцу элегическою поэмою молодого Мирза-Фатали Ахундова.
В эти летние месяцы 1829 года сбылась давнишняя мечта Пушкина увидеть войну и даже принять в ней участие.
Его лицейские мечтания о военной деятельности, его стремление броситься в борьбу Греции с Турцией, его прошение о поступлении в действующую армию в 1828 году — все это свидетельствовало о какой-то прочной склонности характера. Интерес к идее «вечного мира» аббата Сен-Пьера никогда не угашал в нем влечения к военной профессии, возбужденного «грозой двенадцатого года» и окрепшего в среде царскосельских гусар и кишиневских штабных. Один из них — полковник Липранди, умный и зоркий наблюдатель, категорически утверждал, что Пушкин, с его «готовностью на все опасности», был бы выдающимся военным и прославился бы на этом поприще, как и на своем поэтическом.
Пушкину предстояло увидеть настоящую «большую» войну. Как раз в июне 1829 года начинала развертываться сложная, трудная и весьма ответственная кампания. С весны новое расположение турецких войск довольно отчетливо раскрывало намеченный неприятелем план генерального летнего наступления на русскую армию. Из Арзрума, центра военных сил Турции и ставки главнокомандующего, или «сераскира», Хаджи-Магомета Салех-паши, решено било произвести одновременное наступление по всей линии русского фронта, то-есть на Гурию, Карс, Ахалцых и Баязет. Отдельный Кавказский корпус, сравнительно немногочисленный, находился под серьезной угрозой. Необходимо было предупредить намерение сераскира и сохранить за собой инициативу наступления, угрожая таким важным неприятельским пунктам как Арзрум и Трапезунд.
В середине мая Паскевич выступил из Тифлиса в поход, а в начале июня уже находился в окрестностях Карса. Здесь, у самой подошвы Саганлугского хребта, на берегу Карочая, при разоренном селении Котанлы, Пушкин нагнал русский отряд утром 13 июня за несколько часов до его выступления на Арзрум.
Начинался первый военный поход Пушкина.
В пятом часу дня корпус двинулся на Саганлугские высоты — «древний Тавр», по обозначению Пушкина. Небольшой отряд с целью демонстрации был направлен влево на главный турецкий авангард. Колонной командовал генерал Бурцов, видный член «Союза благоденствия», приобщивший лицеистов — Пущина, Кюхельбекера и Вольховского — к своей вольнолюбивой «артели». С тех пор он отбыл тюремное заключение в 1826 году и был переведен на Кавказ, где его выдающиеся военные дарования вскоре доставили ему генеральский чин Это был один из самых талантливых командиров Кавказского корпуса, которому Паскевич неизменно поручал ответственнейшие задания. Имя его было знакомо Пушкину со школьной скамьи, а развернутая им политическая пропаганда через друзей-лицеистов оказывала свое воздействие и на подраставшего поэта.
Но Пушкин примкнул теперь не к Бурцову, а к другу горячеводских и гурзуфских дней — Николаю Раевскому, командующему нижегородскими драгунами. «Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку», вспоминал впоследствии поэт (в этой же части служил и его брат Лев Сергеевич). Полк находился в резерве — друзья неторопливо вслед за главными колоннами двигались по горным дорогам, ведя дружескую беседу после долгой разлуки.
Хотя Николай Раевский считался «прикосновенным» к делу о 14 декабря, но в корпусе Паскевича он командовал в решительных сражениях всей кавалерией. Пушкин был рад, что к военному делу его приобщит этот умный друг, кому он посвятил «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».
К 8 часам вечера войска расположились привалом в лощине, прикрытой холмами от неприятельских разъездов. Здесь у бивачных огней Пушкин был представлен Паскевичу.
Это был один из известнейших современных полководцев. Мнения о нем, правда, расходились, он имел многочисленных недоброжелателей и критиков, но несомненным фактом оставались его удачные военные операции которых нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом был, несомненно, отличным организатором походов. В александровское время Паскевич считался одним из передовых военных. Как и другие участники европейских кампаний, он был решительным противником аракчеевской муштры, заботился об улучшении быта и образовании солдат, боролся с жестоким произволом их начальников. За ним числился ряд бесспорных военных заслуг — почетное участие в таких сражениях, как Бородино, Малоярославец, Лейпциг, Париж. Боевой генерал был ценим Багратионом и Барклаем, упрочившими за ним репутацию «неизреченной храбрости». Даже весьма мало расположенный к Паскевичу Денис Давыдов не пощадивший красок для изображения его недостатков (самонадеянность, тщеславие, самовластье и пр), считал своим долгом «отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанным во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах».
К желанию Пушкина совершить поход в рядах его войск Паскевич отнесся с полным сочувствием, быть может, рассчитывая на соответственные «отзвуки» поэта. Еще в мае главнокомандующий получил от Бенкендорфа извещение, что Пушкин «по высочайшему его императорского величества повелению состоит под секретным надзором», каковой надлежит сохранить над ним и «по прибытию его в Грузию». Ослушаться «высочайшего» приказа Паскевич, конечно, не мог, и соответственное извещение было сделано тифлисскому военному губернатору. Лично же командир Кавказского корпуса стремился выказать Пушкину полное радушие. «Он был весел и принял меня ласково», писал Пушкин о их первой беседе. Паскевич даже предложил гостю расположиться палаткой у своей ставки.
В штабе главнокомандующего Пушкин увидел своего лицейского товарища Вальховского, не раз воспетого в знаменитых лицейских строфах. Пушкин увидел его в ночь на 14 июня «запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренно! о заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ», вспоминал впоследствии Пушкин.
В штабе Паскевича поэт встретился и с братом своего лучшего друга — декабристом Михаилом Пущиным, только что вернувшимся с рекогносцировки неприятельских позиций.
«Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их, — обратился к нему новоприбывший. — Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал».
Михаил Пущин мог пообещать поэту самую скорую встречу с неприятелем. Только что законченное им обследование лагерного расположения турок на высоте Милли-Дюз побуждало к неотложному выступлению. Паскевич чрезвычайно ценил мнение М. И Пущина: «В своей солдатской шинели Пущин распоряжался в отряде, как у себя дома, переводя офицеров и генералов с их частями войск с места на место по своему усмотрению», свидетельствовал декабрист Гангеблов[58]. Так было и на этот раз.
Ранним утром 14 июня отряд двинулся дальше и вскоре расположился на левом берегу речки Инжа-Су, уже на поверхности Саганлугского хребта, в восьми верстах от неприступного лагеря знаменитого турецкого полководца — трехбунчужного Гагки-паши.
После полудня большая партия куртинцев и делибашей атаковала передовую цепь казаков. Это и была «перестрелка за холмами», описанная Пушкиным Поэт вскочил на лошадь и бросился в свой первый бой. Раевский сейчас же отрядил майора Семичева сопровождать Пушкина и удерживать его воинственные порывы. Выехав из ущелья, поэт увидел на склоне горы синюю казачью шеренгу, выгнутую дугой, а на вершине хребта — гарцующих турецких всадников в высоких чалмах и пунцовых доломанах:
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш
Турки поразили поэта дерзостью своего наездничества. Увлеченный картиной сражения, он схватил пику одного из убитых казаков и — в своей круглой шляпе и бурке — бросился на неприятельских всадников Майор Семичев почти насильно вывел его из передовой цепи. Вокруг происходили удалые стычки и молниеносные смертельные встречи; одну из них Пушкин запечатлел в неподражаемых по своей динамичности стихах:
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?.
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Паскевич решил разрешать растянутую неприятельскую линию и опрокинуть разделенные части противника. Маневр удался. Разбитая беспрерывным и сосредоточенным артиллерийским огнем надвое, турецкая конница метнулась в противоположные стороны. «Картечь хватила в самую середину толпы», описал это военное зрелище Пушкин. Немедленно же в обоих направлениях были посланы сильные части для преследования.
Но в это время на скате горы появились густые колонны турецкой пехоты и кавалерии сам сераскир арзрумский во главе своего тридцатитысячного корпуса спешил на помощь Гагки-паше. В 6 часов вечера русские войска двинулись на турок тремя колоннами, из которых одной, состоявшей из всей кавалерии, командовал Николай Раевский. Произошел один из самых решительных боев всей Арзрумской кампании — сражение при селении Каинлы. Войска сераскира были разбиты и к ночи опрокинуты за Саганлугские горы.
«На другой день, — писал Пушкин, — в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня». «Не утомил ли вас вчерашний день?» — «Немного, пожалуй, граф». — «Огорчен за вас, ибо нам предстоит переход, чтоб подойти к паше, а затем и преследовать неприятеля десятка на три верст».
В девятом часу утра корпус уже находился против Милли-Дюза, у лагеря «первого сановника по сераскире». Обрывистые берега речки Ханы-Су и глубокие скалистые овраги делали его неприступным. Но после безрезультатных переговоров о сдаче Паскевич повел пятью колоннами войска на неприятеля. Поражение сераскира предопределило исход нового наступления. Турки бросились бежать врассыпную. Гагки-паша со своим штабом сдался в плен. Путь на Арзрум был открыт.
В эти дни решительного сражения Пушкин разъезжал по горным вершинам, наблюдая отдельные моменты боя: марш Бурцова на левый фланг, артиллерийскую подготовку Муравьева, Паскевича среди своего штаба, налет турецкой конницы, контратаку татарских полков. Пушкину удается спасти раненого турка, которого хотели прикончить штыками; он наблюдает агонию татарского бека, рядом с которым неутешно рыдает его любимец.
«Лошадь моя… остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет осьмнадцать; бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом…»
Это было новое ощущение войны, первое подлинное представление о ней. Не парадная и театральная героика Полтавского боя, а действительная война, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная, — «война в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти» (так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой). Главы «Путешествия в Арзрум», где дана глубоко правдивая картина боя во всей его неприкрашенной трагической сущности, первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденной в мировой литературе «Войной и миром».
21 июня Паскевич вступил в арзрумский пашалык, а 23 июня, в 9 часов вечера, занял древнейшую крепость Турецкой Армении, воздвигнутую римлянами, — Гассан-Кале, передовой оплот горной столицы Анатолии.
27 июня, в день Полтавской победы, русские войска вступили в Арзрум. В плен сдались сам сераскир и трое его пашей — трехбунчужный Осман-паша и двухбунчужные Абут-Абдулла-паша и Ахмет-паша. Один из них вскоре встретил Пушкина пленительным восточным приветствием: «Благословен час, когда мы встречаем поэта». Пушкин был тронут и восхищен этим лестным приветствием. Он живо обрисовал этого восточного оратора в своих путевых записках и воспел стихами его «многодорожный» город:
В нас ум владеет плотью дикой,
А покорен Корану ум,
И потому пророк великий
Хранит, как око, свой Арзрум.
Плоские зеленые кровли, извилистые и тесные улицы, высокие минареты, шумная толпа армян — все это было ново, неожиданно, заманчиво по своей «чужеземности». Пока в завоеванном городе учреждалось областное правление с военным губернатором, русские войска расположились лагерем на северо-востоке от города, в долине Евфрата Именно здесь в «лагере при г. Арзруме», как он официально именовался, или в «лагере при Евфрате», как назвал его Пушкин, он обратил внимание на татарского юношу Фахрат-бека, входившего в состав мусульманских частей русской армии. «Сардар» Паскевич, как его называли в этих полках, усиленно вербовал новобранцев в каждой завоеванной области. Под Арзрумом в его войска входили и регулярные части из тюрок, курсов, армян, греков, жителей Карабаха и других провинций. Пушкин, видимо, пожалел юного рекрута из татарской «дистанции», обреченного на кровавую борьбу с единоверцами в рядах враждебной завоевательной армии.

А. С. Грибоедов (1795–1829).
С портрета Горюнова.
«Все в нем было необыкновенно привлекательно. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами» (1829–1835)
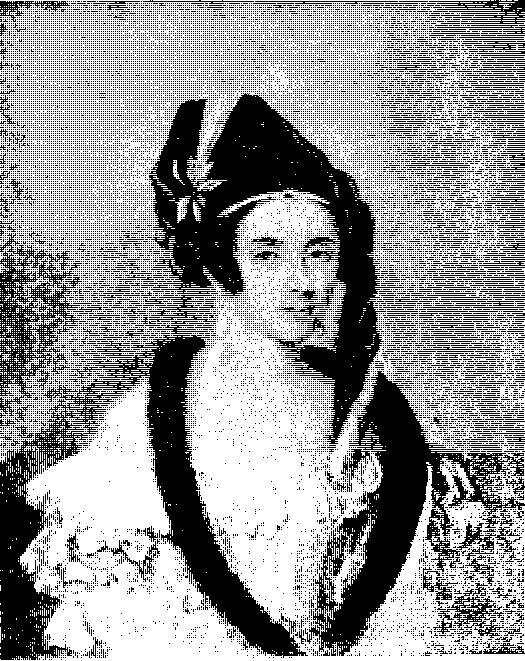
Екатерина Ушакова (1809–1872).
С акварели Ф. Берже.
Ей посвящены стихи Пушкина: «Когда бывало в старину», «В отдалении от вас» (1827), «Я вас узнал, о мой оракул». (1830)
5 июля было написано стихотворное, приветствие молодому беку: «Не пленяйся бранной славой…» Восточный колорит образов здесь сочетается с проникновенным преклонением поэта перед юным и прекрасным существом, захваченным трагическими событиями:
Знаю: смерть тебя не встретит;
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!
Это один из лучших фрагментов в «ориенталиях» Пушкина.
В лагерях он не переставал работать; его постоянно видели с тетрадями и записными книжками. Помимо лирики и дорожного дневника, он занят замыслами новых поэм. Слагается сюжетный вариант к раннему «Кавказскому пленнику»: русская девушка-казачка спасает пленника-черкеса. Еще сильнее увлекает тема столкновения суровых горных нравов с проповедью миссионеров; увлекает образ «черкеса-христианина», отвергающего неумолимый родовой обычай кровавой мести. Образ был связан с раздумьями Пушкина о средствах умиротворения черкесов[59]: поэту представлялось разумным укрощать горцев «влиянием роскоши» и ослаблять их мстительность моралью «прощения». Психологический конфликт от столкновения двух этических систем соблазнял художника и вызвал замечательные диалоги Гасуба-старика и юного Тазита. Младший сын горного узденя отказывается стать «могучим мстителем обид». На такой драматической внутренней антитезе строилась новая поэма.
Она давала широкий простор для воплощения путевых впечатлений 1829 года. Верховые игры молодых чеченцев, похороны Гасубова сына (описанные по личным наблюдениям автора над осетинским погребением в одном из аулов Кап-Коя), быт, обряды, нравы, предания «адехов», их похоронные и венчальные обычаи — все это уже воплощено в отрывке поэмы о юноше Тазите, изгнанном из патриархальной среды своих соплеменников и гибнущем на войне.
В поэме чувствуется приток новых слов в поэтический лексикон Пушкина, восприятие целого ряда речений кавказских народностей, придающих живописность и звучность описанию. Прелестны по своей мелодичности отдельные образы, например, черкесской девушки у водопада:
И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла.
Пушкина привлекали и русские на Кавказе — военные, ссыльные декабристы, представители его поколения, участвующие в гибельной войне, как Раевский, Вальховский, Пущин, Бурцов, блестящий писатель Александр Бестужев (с которым Пушкин мечтал встретиться на Кавказе), прапорщик Молчанов, осужденный за хранение отрывка из пушкинского «Андрея Шенье», и многие другие (Захар Чернышев, В. Д Сухоруков, Н. Н. Семичев, А. С. Гангеблов, А. О. Корнилович, П П. Коновницын). Некоторых из них Пушкин уже не застал на Кавказе, с другими не мог свидеться, но личные встречи достаточно обрисовали перед ним тип нового русского молодого человека, новый этап в развитии его поколения «Евгений Онегин», который представлял собою творческий дневник Пушкина, видимо, готов был обогатиться новой главой — кавказской, военной. В лагерных палатках Пушкин рассказывает своему брату и молодому Юзефовичу (адъютанту Николая Раевского), что «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Замысел этот еще будет занимать Пушкина и получит свое частичное осуществление.
7 июля Паскевич перешел из «лагеря при Евфрате» в Арзрум и занял дворец сераскира. Он пригласил Пушкина поселиться в том же дворце. Считаюсь с интересами творца «Бахчисарайского фонтана», он устроил ему посещение гарема Османа-паши, где поэт впервые увидел одалисок, лишь по рассказам описанных им в его крымской поэме.
Древний город с его пестрым населением продолжал свою обычную жизнь. Пушкин оценил организаторские дарования Паскевича — «тишину мусульманского города, занятого 10 000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата»; «во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен». Это было новое понимание войны: не «божия гроза» и ад Полтавы определяют ее ценность, а образцовый порядок в занятой местности и неприкосновенная целостность корпусного хозяйства.
Три недели пробыл Пушкин в лагере и городе, наблюдая его оживленную восточную жизнь. 14 июля Пушкин узнал, что в Арзруме чума. «Мне тотчас открылись ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию». Разговоры о медицинских осмотрах, сожжении вещей, карбункулах и опухолях производили удручающее впечатление. Начинала сказываться скрытая «добавочная» опасность восточной войны — риск ужасной заразы при оккупации неприятельской территории. Так в 1799 году французская армия заразилась чумою в Сирии при взятии Яффы; одним из высших проявлений мужества Бонапарта было посещение чумного госпиталя, где он жал руки больным, стремясь внушить им бодрость и веру в исцеление[60]. Этот ли образ вспомнился Пушкину, непосредственное ли чувство пренебрежения опасностью овладело им, но 15 июля он посетил с лекарем лагерь зачумленных. Это мрачное место вспомнилось ему через год, когда он изображал Наполеона в Яффе: «Одров я вижу длинный строй, — Лежит на каждом труп живой, — Клейменный мощною Чумою., — Царицею болезней…» Герой сражения,
Нахмурясь, ходит меж одрами
И хладно руку жмет Чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость…
Пушкин заставил себя осмотреть одного больного, выведенного из палатки, и «обещал несчастному скорое выздоровление».
19 июля Пушкин пришел проститься с Паскевичем и застал его «в сильном огорчении»: генерал Бурцов был убит близ селения Харт, в пятнадцати верстах от Бай-бурта, который незадолго до того был им взят вместе с соседним медным заводом. Это был путь на Трапезунд, который по плану кампании подлежал взятию после Арзрума. Бурцов погиб, пробиваясь к Черному морю, что представляло стратегическую необходимость для русского корпуса в Турции, так как давало ему надежную опору,
Потеряв своего начальника, отряд Бурцова отступил от Харта к Байбурту. Это была, по словам Пушкина, «первая неудача» турецкой войны, опасная для всего нашего малочисленного войска. При вести о событиях под Байбуртом среди арзрумского населения вспыхнуло возбуждение: в народе распространялись воззвания к всеобщему ополчению и «священной войне», шли слухи о концентрации крупных турецких сил на правом фланге Паскевича и о предстоящем вмешательстве Англии и Франции в пользу Турции. Неподалеку от театра войны, на озере Ван, действительно находились в то время английские дипломатические агенты.
«Итак, война возобновлялась! — вспоминал этот переломный момент Пушкин, — граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию…»
На прощание Пушкин принял в подарок от Паскевича саблю. «Она хранится у меня, — писал он в 1836 году, — памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». Паскевич вошел в галлерею военных портретов Пушкина не только в его арзрумских мемуарах, но и в хвалебной строфе 1831 года:
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому Суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
К похвалам полководцу Пушкин добавил личное воспоминание о взятии Саганлугского хребта — «вершины Тавра», развернутое им впоследствии в драматические страницы его дорожного журнала «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». Самое заглавие показывало, что путевые записки здесь соприкасаются с военной корреспонденцией и батальным этюдом.
1 августа Пушкин уже был в Тифлисе. Он посетил здесь свежую могилу Грибоедова. На склоне горы св. Давида, над извилистым лабиринтом старого Тифлиса, который весь, как на ладони, расстилался перед ним, он принес последний поклон трагическому и прекрасному образу поэта-дипломата.
«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни, — записал Пушкин в своем «Путешествии». — Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна…»
Встреча с телом Грибоедова у Гергерской крепости и посещение его могильного холма вызвали новые раздумья Пушкина о судьбе дарований в царской России («способности человека государственного оставались без употребления, талант поэта был непризнан»). Но в краткой записи нет и следа жалоб, безнадежности, лирических сетований. Это мужественные строки. В них слышится преклонение перед цельной и сильной личностью, способной к углубленному труду и коренной внутренней ломке.
В этом отзыве (записанном, быть может, позже) чувствуется бодрый тон всей летней поездки 1829 года. Она была временным освобождением для Пушкина, новым обогащением его творческих возможностей. Тяжелой поступью приближались тридцатые годы. Путешествие в Арзрум — последняя глава пушкинской молодости.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Путешествие в Арзрум (1829–1830)
Путешествие в Арзрум (1829–1830) I В 1829 году вышла в Москве очень хорошо отпечатанная книжка в 190 страниц малого формата под заглавием: «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году Н… Н…» За заглавным листом следовало посвящение «Ея Высокородию
Лагпункт «Нагорный»
Лагпункт «Нагорный» Нелегок был мой путь в шахту! Даже двести метров от вахты до барака я осилила с превеликим трудом. В бараке меня встретили хорошо. Там оказалась женщина, недавно вернувшаяся из центральной больницы лагеря и знавшая о том, что я добивалась отправки в
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ Имеретинский «сиятельный князь» Нугзар Абашидзе в голом виде не казался голым. Это была черношерстная десятипудовая горилла с не присущей этому примату осанкой бывшего солиста детского танцевального ансамбля Зестафонского дворца пионеров.
IV ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ
IV ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ 1 От «милости» властей и «популярности» в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать — в деревню, в чужие края, в Париж или в Пекин, — лишь бы освободиться от обступившей его «тупой черни».Давно замышленный «побег»
Глава XVIII «Путешествие в Арзрум» 1829 г. и кавказские стихотворения
Глава XVIII «Путешествие в Арзрум» 1829 г. и кавказские стихотворения Неожиданная поездка на Кавказ в марте 1829 г. — Пребывание в Москве в эту эпоху, жажда покоя. — 15 мая Пушкин в Георгиевске. — «Путешествие в Арзрум», эпоха его появления. — Причина путешествия,
Лагпункт «Нагорный»
Лагпункт «Нагорный» Нелегок был мой путь в шахту! Даже двести метров от вахты до барака я осилила с превеликим трудом. В бараке меня встретили хорошо. Там оказалась женщина, недавно вернувшаяся из центральной больницы лагеря и знавшая о том, что я добивалась отправки в