Мнемозина на метле
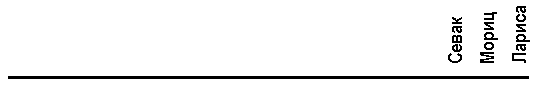
Мнемозина на метле
Распад нашей Империи стал главным событием прошедшего тысячелетия. Беловежская пуща нарушила не только границы пространства, но и временные категории. В провалы Карабаха проникло время варварства, времена феодализма вылезают из иных щелей. Мы живем, если живем, в смещавшемся времени. Чтобы поехать к другу в Киев, нужна виза.
Но поэты живут не в пространстве — в общей стране страдания. Светлана Аллилуева писала, что я мечтаю о кочевой столице поэтов. Это не совсем точно. Но пока никто не может вырвать меня из пространства или времени Мариса Чаклайса, Ивана Драча, Ладо Гудиашвили. Это не имперское мышление, а сущное.
Почему-то вспомнился Паруйр Севак. Интеллектуальный сумасшедший.
Он погиб, как жил и писал, — молниеносно, в автомобильной катастрофе.
По-русски в его имя закодирована небесная программа, призыв и предостережение:
Порушь, Севак!
Пируй, Севак!
Соборуй, Севак!
Пароль — Севак.
По руль — Севак…
Погиб он за рулем. Истинного поэта как бы выбирает смерть — гибель была его последним стихотворением. Он не умер «на постели, при нотариусе и враче», он погиб.
Про таких говорят: «Поэт милостью небосклона, милостью Севана, высокогорных чабанов, бессонных самолетных огней и человечьей мысли». Как осмыслил он локальный пейзаж Армении!
Сам рьяный цвет
сарьяновского лета
здесь прост
как «да» и «нет»…
Но так ли это!
Рожденный в крестьянской семье, как истинный сын земли Севак, презирал примитивную псевдонародность. Он входил в Историю и Культуру, как входит в сад опытный садовник. Его муза интеллектуальна. Мыслитель, доктор наук, энциклопедический исследователь, поэт погружал свой ум в глубины древнеармянского эпоса, тонко чувствовал русский стих, наизусть по-английски цитировал Элиота.
В гулкой поэме «Несмолкающая колокольня» он раскачал колокол познания по страшной амплитуде от Комитаса до наших дней.
Одни родились, чтобы жить во хмелю,
А другие — чтобы хмелели ими.
Рожденный вечной отчизной суровых зодчих, обрученных с Вечностью, Паруйр Севак соединился с вечностью при жизни. Стихи его не устаревают, а становятся все более сегодняшними. Как шпыняли его при жизни за «придуманность», «головоломность»! Сегодня, когда мир стал умнее, его стихи кажутся естественными. Он был умным сумасшедшим. Это его кредо поэтически повторяло известное изречение, что лишь безумные идеи — истинны.
…говорил я — да так,
что лягушки
пучеглазо и буддообразно взирали на нас,
очевидно, пытаясь понять это жгущее слово,
это слово палящее и задыхающееся —
м о я…
Каков темперамент чувства и мысли! Как он здесь перекликается с «общелягушачьей икрой».
Его безумство сродни безумству архитектора — когда великий расчет конструктивиста соседствует с дерзкой идеей. Такая же в нем дерзость масс, аналитичность и темперамент идеи.
Я хочу разложить, расщепить тоску,
Природу поэзии и глубокую тайну смерти.
Не случайно строки эти перевела Ю. Мориц. Она ему сестра по бешенству интеллектуализма.
Что сказать о музе Юнны Мориц?
Это Мнемозина на метле.
Голос Юноны повенчан в ней с гуннами, классические тропы — с бешеным ритмом погони, с гневными набухшими жилами стихотворных строчек. Уже давно запомнился читателю ее отклик:
Кто это право дал кретину
Совать звезду под гильотину?
Содержание и смысл поэзии Юнны Мориц — жизнь наша, суетная, затурканная, трагичная и прекрасная по сути своей.
Нелегкая жизнь досталась поэту. Детство ее, голодное детство войны, определило характер ее поэзии — с аудиторией от Олимпа до Лысой Горы.
Я не езжу на Пегасе,
Я летаю на метле! —
так написала она в своей книге «При свете жизни».
Заброшенное, рано повзрослевшее детство ее поет на пепелищах, играет не на моцартовски жемчужной флейте, не на губной гармошке, а на старой расческе, обернутой папиросной бумагой, — таков, увы, был нехитрый инструмент детства войны.
Она и в жизни особая. Не алкогольная сирена, а кофейница. Черный кофе, двойной, в турочке, особо варят ей в ЦДЛ на песке.
Черный цвет — любимый цвет, автоцвет нашего поэта. В нем все оттенки черной гаммы. Еще задолго до того, как с легкой руки инфернального Версаче он стал самым модным цветом планеты, цветом джинс, рокеров, киллеров и актерских долгополых кашемировых пальто, она одела и обула свою музу в обугленный цвет.
Я — черная, буду я черной землицей,
Ты — белая, будешь черемухой виться
И черную землю сосать.
Это не летучий черный цвет Лорки, а плотный, густой, это голландская сажа.
Как многоголос этот черный — от бархатной каймы бабочки махаона до «черных дней, где трудно отшутиться». Но это не цвет монашества, схимы, в нем таится тот стон, запредельный взлет, как в лучшем, может быть, ее стихотворении с рефреном: «Я черная птица, а ты — голубая!»
Этот черный только подчеркивает праздничную голландскую живопись жизни. Как хищен и цепок взгляд живописца, как роскошна и гобеленно остра вышивающая игла!
Зеленым шелком вышитые елки
На леденяще сизом серебре,
Снегирь вишневый на зеленом шелке
И зяблый листик сердца в снегире.
Слово — духовная жизнь народа, материализованная в звуке, затем в высвеченном начертании. Отпадающие поколения уносят с собой отсохшие словообразования. Слово биологично, растительно. Даль, Хлебников — великие биологи слова.
Слагать вещь из слов — это все равно что строить стены из живых, трепещущих птиц, из птичьих стай!
Ты работаешь с живой историей. В поэзии слово чисто, обнаженно, вынуто из словесной толпы, поставлено отдельно с круговым обзором, как храм на холме.
Вот уже неделю я брожу под гипнозом старорусской любовной песни, записанной у Киреевского. В ней звук — цвет, а за ним акварельное чувство.
Нет цвета, нет цвета,
Ах, нет цвета алого!
Аль его, аль его
Песком желтым вынесло?
Аль его, аль его
Боярыни вырвали?
Аль его, аль его
Совсем в поле не было.
Вслушайтесь: «Аль его, аль его…» Все как прошито алой лентой! Прямо старорусский Матисс какой-то. Сурик с желтым и изумрудкой. Так писали портреты и иконы на алом подмалевке, и грунтовка порой проступала.
Сравните у Есенина: «Черный человек, черный, черный человек…» Как в технике сграффито, образы поэмы обведены черной каймою.
Жил мальчик
В простой крестьянской семье.
Желтоволосый
С голубыми глазами —
эта непритязательная строчка загорается бирюзой и золотым кадмием на черном фоне («черный, черный, черный»), как горят на черном чистые цвета мастеров Палеха и Мстеры. Черный лаковый цилиндр ставит точку в конце, черную дыру небытия.
Ю. Мориц — певец нравственный и благородный. Пускай иные стихотворцы пытаются восполнить слабости своей поэзии окололитературной шумихой, комплексуя, разражаясь статьями, — Ю. Мориц честна, сила ее в стихе, стихи ее говорят сами за себя.
Она остается своей, дворовой, из нашего двора, верной подругой. На нее всегда можно положиться в нынешней зыбкой актерской тусовке. Мы не часто сейчас встречаемся с ней, но я в нее верю, она не подведет.
Читает Юнна Мориц как подлинный поэт — не заискивая перед аудиторией, без эстрадной жестикуляции — читает как пишет. Она владеет ритмом, вернее, ритм ею. Поэтому так и внимает ей аудитория, читая над головами, что диктуют ей «сестра-ирония и лирика-сестрица».
Духовная сила, вернее, духовная биология — духовность, спрессована до материальности в ее ритмах. Это захлебывающаяся сила жизни, чувственная молодая страсть, огненное заклятье.
Мнемозина на метле гуляет по моим страницам. Собственно, хорошо, что сметены эти тяжкие годы, что ужасные детали остались только в истории и что современный читатель не понимает, что значит «цензура», «партийность» и т. д. Гуляй, метельная Мнемозина!
Как обычно в конце столетий сквозь телесную скорлупу просвечивает духовность, параллельные миры, какое раздолье волхвам, ведьмам, экстрасенсам.
Я был знаком со странной художницей по имени Лариса. Чернокосую, безалаберную, озаренную свыше, ее мучили то спады, то бешеные взрывы сознания. Она постоянно водилась с цыганками, прорицателями, подшивала в джинсовку какие-то заколдованные тряпочки, шептала заговоры.
Тогда я с трудом получил выездную визу на первый тур по городам США.
В январе, за неделю до отлета, я сорвался в Крымскую обсерваторию. Потянуло что-то написать. Лариса попросилась со мной. Обиделась, что ее не взяли.
Я бродил по горам, ловил кайф вдохновения над обрывом. Вдруг будто кто-то ударил меня в спину, я полетел кувырком и на какое-то мгновение почувствовал темный мстительный взгляд Ларисы. Дистанционный гипноз?
Я исхитрился, падая, удариться плечом. Результат — сломанная ключица. Я ходил две недели с загипсованной рукой «а-ля-хайль-Гитлер», жрал мумие. Поездка накрылась.
Жил я конспиративно, мой друг Саша Ткаченко один знал, где я. Лариса позвонила ему из Москвы в вечер моего падения.
— Как там Андрей? Сильно расшибся?
— А ты откуда знаешь?
— Я же его и скинула…
— (поток Сашиной ненормативной лексики)
— Так я же его не насмерть, просто поучить…
Через неделю она приехала и показала мне место, откуда я свалился. Думайте что хотите, но так случилось.
А поездка состоялась через полгода, устроители оплатили неустойку, был успех. Лариса смущенно утверждала, что звезды были против моей поездки в феврале, а сейчас, видишь, все о’кей.
Не только тайная магия работала против поэтов. Симферополь город небольшой. Все все знают. Недавно один спецслужбист в отставке по пьянке поведал Саше, что мои спонтанные приезды, незапланированные броски в горы беспокоили департамент внутренних дел, подчиненный Киеву. Оказывается, с 1976 года за мной повсюду следовала «Волга», меня пасли. Куда бы я ни ехал, поймав такси, оказывается, на расстоянии пяти километров следовала автомашина с радаром. И что они искали? Бред какой-то. Вообще, с Киевом отношения мои не сложились.
В самом роскошном Киевском театре были распроданы билеты на мой вечер. Должен был открывать выступление В. Коротич. Накануне, перед ночным поездом меня перехватил звонок. Плачущая администратор просила сдать билет, сказав, что в театре начался срочный ремонт и вечер отменяется. «А в другом театре, где я выступаю на следующий день, тоже ремонт?» — спросил я. «Ну, конечно», — ответил упавший голос. В то время секретарем по идеологии украинского ЦК был Кравчук. Говорят, он сам занимался ремонтом театров.
Скоро я еду в Киев по приглашению Киевского Политехнического. В Киеве это будет мое первое выступле…
Тут мы прервем диктовку воспоминаний. Компьютеру надо отдохнуть. До завтра.
А что у нас завтра? Попробуем вспомнить.
С восьми до девяти прыгаем по полям и лесам, кайфуем с рифмами. В девять тридцать зайдет Олег Хлебников из «Новой газеты». Они дают полосу о книге «Casino „Россия“» и новые стихи. В одиннадцать тридцать заезжает съемочная группа Кара-Мурзы. Завтра должна приехать в Москву из Минска Ирина Халип — у нее опять проблемы, дала пощечину следователю. Теперь должна скрываться. Может быть, попробовать переправить ее через Пен-клуб в Швецию? Не забыть заплатить за электричество, а то грозятся отключить. Еще надо послушать Алену Ганчикову, молодого электронного композитора, ученицу Булеза. И обязательно свезти свою работу «Бешеное мясо» в галерею «Марс» для выставки в Музее изобразительных искусств. В четыре часа встреча с пермяками, чтобы обсудить поездку. В пять часов — американская переводчица. В шесть — прямой эфир по «Эху Москвы». В семь часов — юбилей Эльдара Рязанова. Звонила его супруга, просила не опаздывать. Да еще на автоответчике из срочного: звонили из «Комсомолки» (оказалось, хотят интервью про какой-то экстремальный случай), и Александра из «Нью-Йорк таймс» (оказалось, об Ивинской). Обычный денек русского поэта конца XX века. Ну, а потом, конечно, додиктуем воспоминания.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Мнемозина на метле
Мнемозина на метле Распад нашей Империи стал главным событием прошедшего тысячелетия. Беловежская пуща нарушила не только границы пространства, но и временные категории. В провалы Карабаха проникло время варварства, времена феодализма вылезают из иных
На огненной «метле»
На огненной «метле» Как известно, скорость опытных истребителей в начале 1940-х превысила 700-километровый рубеж, и дальнейший ее рост сдерживался как недостаточной мощностью поршневого двигателя, так и воздушным винтом. Для дальнейшего прогресса советской авиации
Я была навеселе и летала на метле
Я была навеселе и летала на метле Достигнув такого несколько сомнительного успеха в деле материализации духов, Алистер Кроули решил податься в несколько иную степь. Как уже говорилось, тогдашние оккультисты себя сатанистами не считали. Но Кроули двинулся к откровенным