Битники
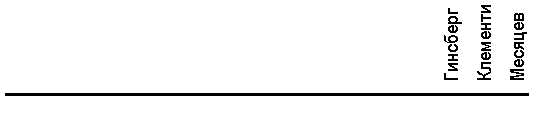
Битники
Самый страшный вывод нынешнего столетия — мысль о том, что человечество смертно. Эта мысль не перестает мучить меня. Поймите, не каждый из людей смертен, что можно понять, — а все человечество. Значит, не будет ни памяти, ничего. Именно в середине столетия это стало беспощадно ясно. Еще не финал, но возможность.
Идея христианского гуманизма оказалась усталой, чтобы спасти. Не апокалипсис, который все-таки духовен, а грозит конкретный механический конец цивилизации, конец ресурсов.
Именно в середине века организм планеты как защитную реакцию выделяет духовную энергию — поэзию, музыку, как надежду и спасение. Америка выставила духовное движение битников. Они мыслили планету как заболевшее духовное тело, они пытались расшатать убивающую нас цивилизацию при помощи наркоты, революции секса, дзен-буддизма. «Никакое правительство не может контролировать мозги под наркотиком, — наивно надеялся Аллен Гинсберг. — Иначе, если все будет продолжаться логически, через тридцать лет мы сожрем всю нефть, уничтожим среду обитания».
Мы сидим с ним в Гринвич-Виллидж. Он протирает очки, понимает, что слишком уж напугали мы друг друга футурологией, и меняет тему беседы.
— Ты не знаком с новым художником, итальянским акварелистом? Он иллюстрировал у меня, думаю, он для тебя создан тоже, — настраивает нас на релекс Аллен.
Лимонный Клементи?
Ментоловый запах цвета — как чаи, заваренные из натуральной розы, жасмина, калмия. Мы сидим в доме художника Франческо Клементи, ранее принадлежавшем Бобу Дилану, которому вчера стукнуло 50, мы сидим во внутреннем зеленом садике, за спиной бетонного, загазованного города, где садик этот — внутренний зеленый мазок, так вот, мы сидим внутри этой маленькой зеленой революции, мы — ее мысли, растительное сознание: белеет параллелепипед Аллена Гинсберга, который по-тибетски смотрит в пуп своей камеры-зеркалки, чернеет квадрат безворотниковой рубахи по-буддийски бритого хозяина, каторжника цивилизации, лиловеет майка Майкла Маклюэ, в которую втекает белая полоска спутницы, алеет смех итальянки, джинсовый Раймонд кидает шар близнецам над черным треугольником Альбы, подсаживается недодуманная мысль Дилана в очках, визжит оранжевый на газоне, и есть еще цвета, наверное, но уже, видно, 8 часов, ибо темнеет, цвет затекает в цвет, запретная марихуанка-самокрутка 60-х годов по-домашнему переходит по кругу из губ в губы, 60-е отраженно затекают в 90-е, 90-е в 09-е, следующего, наверное, века.
Время и бытие имеют свойства акварели — цвет затекает в цвет, мысль в мысль, жизнь в нежизнь — я говорю, конечно, о внутреннем цвете.
Меня привлекли акварели Клементи — не только моментальный, акварельный цвет акварели, но ментальный цвет Клементи. Какой водой пишет художник? Водопроводной, гераклитовой, кастильской, Evіan, гангской, фрейдовской, задолбанной битнической, святой? На его бумаге корчится, умирая, наша смертельно больная вода — отравленная пестицидами, очистителями, идеями, вода, наша опасная и от этого еще более хрупкая, мгновенная вода.
Никогда раньше вода не давала чистого, предсмертного сияющего цвета.
На бумаге стены умирает от жажды скелет воды. Это высохшее цветное русло Анри Мишо, акварель, написанная поэтом, когда тот экспериментировал с наркотиками. Дактилоскопия воды… Он писал водой подсознания.
Единственная непрозрачная безводная вещь дома — это писанный недужным маслом, серый прекрасный лик Падшего ангела, демона по-нашему, доврубелевского еще, чьи волосы по-панковски уложены в форме крыльев Гермеса, портрет этот кисти Фузли, учителя и друга Вильяма Блейка. Блейк, поэзия — главный источник Клементи. Космогония — огонь, земля, вода, метафизика — элементы Клементи. Конечно, затекают абстрактно импрессионисты, и клинопись мешает, как уже виденное, конечно, де Кунинг, скульптура Энди Уорхола — не больше, чем клеймо неоимпрессионизма, видится в нем поэзия, на ней он разводит краску — Блейк, Паунд и битшестидесятники… Конечно, не публицистическая, левая или правая моментальность влияет на него, а духовная суть, спиритуализм ежедневности, искренность, обращение к тексту, да и сам материал художника — бумага, все идет от поэзии, к этому привел нас итог нашего столетия: поэзия плюс видео, духовное через визуальное, цвет затекает в Слово, и все явственнее проступает тантра бытия. Не клеммы важны — Восток или Запад, — а энергия между клеммами.
Не покупайте билетов на KЛM! Хотите в «Индию духа купить билет»? Купите билет на Клементи. Запад затекает в Восток.
«Чтобы подняться к вершине, где Рерих, я прошел пешком уйму км, — это уже Клементи, — в деревне Камгра у меня украли сумку со всем, что было… Я был еще молод, беден. Я собрал их и сказал: „Вы не можете так поступать с художником. Отдайте“. Утром девочка принесла сумку. Сказала — собака утащила. Собака, видать, у них клептоманка. Я понял — они непредсказуемы. Вчера украли, сегодня вернули. Завтра убьют. Я ушел».
Этот разговор шел в дни, когда убили Раджива Ганди. Голубой скульптурный Будда-дитя выставил глиняные коленки, глядя на нас, поедая краденые сладости, еще не застигнутый матерью. Что скажет художник после поездки в Москву? Что различит он? «Аварию, дочь мента»? Субкультуру лимиты? Глаза нашего бумажного голода, жрущие ассортимент его роскошных сортов бумаги? Уловит ли он сейсмические сдвиги России?
Среди новой лжи нам так необходима живая вода, чистота цвета, непестицидная искренность, нужна зеленая, чуть было не оговорился, «революция». Надо оклематься.
Рим и Мадрас затекают в Нью-Йорк. Куда затекает Россия?
«Самое страшное, — шепчет он мне, приближая лицо к лицу, — это ожирение души. В Нью-Йорке душа не жиреет».
На своих поэтических вечерах, сложив по-дзенбуддийски ладони, Аллен Гинсберг медитирует вместе с аудиторией, выдыхая гулко нутряное обращение к духу и Богу: «Ом-ом-ооомм…» Вот кто созвучен нашему термину «видеом»!
Аллен Гинсберг, лохматый, как шмель, идол масс-медиа, гуру, теперь уже классик, Уолт Уитмен нашей эпохи — родоначальник и вождь битничества, явления, без которого невозможно познать духовную жизнь и культуру Америки последнего полувека. Да разве только Америки? Где только мне не довелось с ним выступать, помимо США, — в Мельбурне, Париже, Берлине, Сеуле, Риме, Амстердаме… Увы, только почему-то не в Москве! И всегда на него ломится своя, неподкупная, главным образом молодая и с проседью шестидесятников, аудитория, воплощающая духовную мысль, а то и совесть страны.
Первый мой вечер за океаном состоялся в Нью-Йорке в «Таун-холле». Это вообще был первый вечер русского поэта в американском театре, как таким же первым был вечер в парижском «Вье-коломбье», таким же первым был вечер на Томском стадионе и в рижских Лужниках. Это никакой не плюс и не минус, просто так случилось — кому-то суждено начинать. И всюду перед выступлениями говорили, что на поэзию никто не ходит, что зал не собрать. И всюду было не только празднично, но и страшно трудно — пробить стену непонимания, противодействие властей и стереотип публики.
Председательствовал Роберт Лоуэлл. Переводы читали Оден, Кьюниц, Билл Смит… Они сидели на сцене. В зале я заметил поблескивающие очечки Аллена Гинсберга.
— Аллен, вали сюда на сцену, — пригласил я по беспардонной московской привычке. Заминка. Поэты на сцене посовещались, как хоккеисты, и выслали ко мне делегата.
— Андрей, если он вылезет на сцену, тогда мы все уйдем.
— Ну, что же, если его не пустят на сцену — я уйду. Я же его уже пригласил.
Ситуацию спас Аллен. Он подошел к сцене, по-буддийски сложил ладони, поклонился, поблагодарил.
— Из зала лучше тебя слушать — не со спины.
И, усмехнувшись, сел на место.
Я был потрясен. Неужели и у них так же, как у нас, ревность и противостояние? Но увы, если б это только касалось противоречий между университетской и битнической поэзией.
Полуграмотные охранители, и туземные, и наши, эпатированные непереводимыми терминами «fuck» и «shit», введенными поэтом в тексты, не хотят замечать, как в глубинах гинсбергского бунтарского сленгового, сильно ритмизированного духовного стиха просвечивает классическая культура У. Блейка, его Бога, Э. А. По, Эзры Паунда. Когда он одевался в черную прозодежду и улично эпатировал эстраду, эта Культура стояла за ним в глубине сцены. Сейчас, когда он носит смокинг (правда, как он оправдывается, купленный по скидке), за ним стоят стихия нынешней речи, современность. Из русской поэзии он знает не только Мандельштама, но и Клюева. (Правда, большинство битников интересуется лишь загадкой отношений Клюева и Есенина.)
Смысл движения битничества, рожденного молодыми американскими интеллектуалами, профессорами, «антибуржуазными» эрудитами, до сих пор малоизвестен нашему, даже образованному, читателю. Книги Керуака, Берроуза, да и самого Гинсберга только начали издавать у нас. А без них, повторяю, мы будем слепы в вопросах мировой культуры, которую стремимся понять.
Теперь о портрете самого героя. Портрет размером один метр на полтора. Я нарисовал, вернее, слепил его из жженой веревки с натуры в Филадельфии, куда Аллен приезжал читать английские переводы на моем вечере. Голубой фон воплощает любимый для Аллена небесный цвет.
Я объяснил ему и другое, русское сегодняшнее значение термина «голубой». Он обрадовался совпадению. Даже звуково это близко английскому «гей».
Аллен Гинсберг был отзывчив на людскую боль, особенно остро реагировал на любое подавление личности. Поэт исповедует идею художественного братства. Я бы назвал это метафизической страной интеллигенции, которая едина, несмотря на географические границы. Как и другие наши поэты, я дружил с Алленом. В тяжкие минуты он всегда помогает. Помню, в Лондоне во время знаменитого чтения в «Альберт-холле», первого мирового съезда поэтов, советский посол запретил мне читать стихи. Тогда Аллен читал мои стихи вместо меня. А я молча сидел на сцене. В другой раз, когда меня уж очень дома прижали, он пошел пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: «Дайте выездную визу Вознесенскому».
В Москве он был дважды. Но так и не удалось ему устроить вечер. Российские ретрограды были солидарны с американскими в отношении политики и слова «fuck».
В первый приезд он упал на могилу Маяковского. Никого это не впечатлило. Побыв у нас дома, поиграв на медных тарелочках, он, обычно не пьющий, вероятно из-за наркотиков, хлопнул пару рюмок водки.
Дымящаяся стопка блинов, как стопка победных фишек, стояла перед американским гостем.
Икра — красная.
Скатерть — белая.
Гинсберг — голубой.
Прикольный триколор! Проглядывался в его голубизне бизнес небесный.
Композитор К. играл нам и пел. Пришедшая к ним первая красавица Москвы сияла. Потом мы поехали на Таганку на семисотый спектакль «Антимиров». Ах, Таганка — бешеная рулетка семидесятых!..
Я сидел рядом с Алленом. В затылок мне дышал Композитор. Автора вызвали на сцену.
Сначала я поприветствовал гостя: «У нас в зале великий поэт-битник, борец за мир!» Аллен, близоруко щурясь, встал, роскошно-лысый, как Карл Маркс, в грязном красном шарфе, наивный ниспровергатель военных блоков, Домостроя и Торы. Публика лупилась на великого.
Я читал на полную катушку. Мне хотелось, чтобы он увидел, как я прохожу не только в Америке, но и дома. Вдруг среди чтения я увидел, как Композитор, схватив за руки красавицу, выбежал из зала.
Вечер был испорчен. Я погрузил запотевшие очки гостя в такси.
Утром меня разбудил звонок К.: «Ты знаешь, что этот твой … борец за мир сделал? Он обернулся ко мне, прямо-таки залез в ширинку. Всенародно. Я не дал ему в морду только во имя дружбы народов».
«Он еще вынул свой язык, показывая какой-то пупырь на нем», — пожаловалась красавица.
Через пару лет, летя из Австралии, я спросил: «Аллен, ты помнишь красавца Композитора? Ну зачем ты это сделал? Ну, влюбился, но почему не подождал конца чтения? А если для рекламы, то пойми, мы отсталые провинциалы, пуритане, ханжи, мы этого не понимаем еще…»
Аллен взглянул сквозь голубые очечки. «Я ничего не помню», — ответил он.
Я понял, что он ответил уже с той стороны иллюминатора.
Где мы только не встречались с ним! Он был осведомлен обо всем, он заботился о вас как патриархальный папаша.
В Австралии он предложил поехать с ним к аборигенам. Мне дали визу, а ему нет, считая, что он связан с «черными пантерами» и может произвести революцию. Мы все равно полетели. Неделю жили на берегу, записывая на магнитофон аборигенские ритмы.
Ведь не для туризма поэты перемещаются по миру — в поисках смысла существования, в поисках праязыка — именно аборигенская культура самая древнейшая на планете, гортанно гипнотизировала нас из двухметровых труб музыкантов. Мы поняли, что бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Из этого темного кайфа нас вывел полицейский джип, он догнал нас и возвратил на фестиваль. Но мы уже познакомились с вождем племени, великим певцом аборигенов Уанджюком, который через пару лет приехал ко мне в гости в Москву и навел переполох.
Потом мои австралийские друзья меня тайно умыкнули с фестиваля в Аделаиде. Мы слетали на побережье, весь день купались, переночевали в отеле пляжного городка, и через сутки я, жутко обгоревший, выступал в Аделаиде. Никто не узнал о моей самоволке.
После фестиваля местный богач повез нас с Алленом по стране на своей машине. Аллен, проповедник дзен-буддизма, повторной жизни, искал наркотические грибы. Он, как и я, впервые был в Австралии. Едем. И вдруг я узнаю мой пляжный городок.
— Сегодня наше интервью должно выйти, — молвил Аллен. — Где бы газету купить?
— Полмили еще и налево. Там, помнится, будет драг-стор с газетами, — уверяю я. Спутники вылупились на русского, никогда не бывавшего на этом континенте.
И действительно. За поворотом показался драг-стор.
Купили газеты.
— А где бы поланчевать? — спрашивает Аллен.
— Второй поворот налево. Там рыбный ресторанчик под зеленой крышей. Чудесно си-фуд готовят, — невозмутимо утверждаю я.
Уплетая си-фуд на зеленой террасе, Аллен рассуждал:
— Андрей, это что — русская тренированность в ясновидении или опыты парапсихологического зрения? Я читал о сибирских шаманах…
— Да нет, Аллен, просто в прошлой жизни я, наверное, был кенгуру. И теперь вспоминается.
Послом СССР в Австралии тогда был Н. Н. Месяцев. Его сослали туда за какие-то партийные заговоры. До этого он был председателем Гостелерадио. А я первого сентября, в День учителя, прочитал в вечернем эфире невинные стихи «Елена Сергеевна» о безумном романе ученика и учительницы английского. ЦК был в ярости. Потом меня клеймили с экрана. Учительская общественность клокотала. Меня запретили давать по телевизору.
И вот на моем вечере в столичном театре Канберры, среди декольтированного и офраченного зала, я, общаясь с публикой, машинально сказал в микрофон: «Fuck off!» Зал был покорен моим совершенным знанием английского. Такие бурные аплодисменты получала, наверное, только Каллас.
На приеме в фойе театра ко мне подошла группа незнакомых товарищей. Коренастый человек с помятым, измученным лицом представился: «Месяцев, посол Советского Союза». И, понизив голос, сокрушенно спросил: «Товарищ Вознесенский, это правда, что вы со сцены произнесли?..»
Как и любого опального, посла было жаль. Он тосковал в чужой стране. Много пил. Ему не разрешили даже взять с собой жену. Потом, я слышал, его отозвали и исключили из партии в результате какой-то темной провокации с танцовщицей московского балета, гастролировавшего в Австралии.
Так вот, путешествуя по шестому континенту, Аллен ахнул:
— Андрей, взгляни на этот участок — лесок и речка! Продается за недорого. Нам хватит наших аделаидских гонораров. Давай купим два участка рядом. Лет через пять это будет стоить сотни тысяч долларов.
Я представил себе написанный на меня донос — мол, поэт-антисоветчик купил землю у империалистов, намылился сбежать… Я отшутился. Но до сих пор вижу эти клены, сбегающие к реке, и зеленый биллиардный экологически чистый луг.
Там мы и жили у охотников на крокодилов. Это были пять молодых европейцев, адептов растительной жизни. Одной шкуры аллигатора им хватало на идиллические полгода. «За что?! Триста лет живет это умное чудище, а вы его убиваете, чтобы кайфовать тут!» — сокрушался Аллен.
Смущенные убийцы прокрутили нам видеофильм, запечатлевший свадьбу крокодилов. Куда там «любовной схватке орлов» Уитмена! Бешеная воронка воды и тел. Вода — красная от крови. Клочья вырванной чешуи в водоворотах. Она, самка, хочет, чтобы ее изнасиловали. Только так согласна она любить. В результате рождающиеся их дети живут по двести — триста лет.
Увы, жизнь поэта куда короче срока мудрой рептилии.
Вместо того чтобы встречать Аллена в Москве, как мы договорились, когда уже были готовы залы для его вечеров и наш Пен-клуб добыл средства на его приезд — мне пришлось писать реквием по Аллену.
Не выдерживает печень.
Время — изверг.
Расстаемся, брат мой певчий,
амен, Гинсберг.
Нет такой страны на карте,
где б мы микрофон не грызли.
Ты — в стране, что нет на карте,
брат мой, призрак.
Нет Америки без Аллена.
Удаляется без адреса
лицо в жуткой бороде,
как яйцо в чужом гнезде.
Век и Сталина, и Аллена.
Шприцев стреляные гильзы.
Твой музон спиритуален,
Гинсберг…
Призраки неактуальны.
Но хоть изредка
дай знак мне иль Бобу Дилану,
чтоб потом не потеряться.
Ты — в просторах дзен-буддизма,
я — в пространствах христианства.
Слыл поэт за хулигана,
бунтом, голубою клизмой…
С неба смотрит Holy ангел —
Ангел Гинсберг.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Битники и другие Набоковы
Битники и другие Набоковы «Гинзберг ответственен за освобождение дыхания американской поэзии в середине века /…/ Более всего он продемонстрировал, что ничто в американской и эротической реальности не может быть отвергнуто и может занять своё место в американской