7 КАВАЛЕР ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
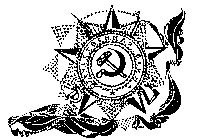
7
КАВАЛЕР ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На похоронах Юсупова вслед за гробом, как положено по ритуалу, несли на бархатных подушечках его награды; процессия растянулась далеко: шесть орденов Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени… На отдельной подушечке один из товарищей нес красную звезду на фоне золотых лучей — орден Отечественной войны 1-й степени. Этой наградой отмечались, как правило, длительные военные заслуги. Если у человека на груди Отечественная война 1-й степени, можно с уверенностью сказать, что за плечами у него сотни походов и боев.
Юсупов носил этот орден по праву.
О войне он узнал, как все, неожиданно и и тот миг, когда меньше всего думал о ней. Раньше бывали дни, когда Юсупов, по его собственному признанию, ждал, что «вот-вот начнется…». В то же навеки врезавшееся в нашу общую память июньское воскресенье Юсупов позволил себе отдохнуть, что случалось, как известно, нечасто.
Он находился в предгорном Нуратинском районе. Сам захотел посмотреть, как используются неполивные массивы для посевов зерна. Времени это отняло немного, и он велел шоферу гнать «бьюик» в степь. Она была очень хороша — в высоких, еще сочных травах, среди которых поднимались островками гордые эфемеры. Ближе к выходу из долины, в золотых под солнцем, покрытых острой стерней пшеничных полях прятались перепела — они стали еще осторожнее, напуганные недавней жатвой; мелькали жаворонки, будившие своим порханием тишину летнего утра.
Юсупов, как обычно и такие поездки, захватил с собой охотничье ружье. Он спросил, пройдет ли автомобиль по предгорному бездорожью к ложбине, где сейчас могли пастись дикие козы.
— Зверь — не машина! — с удовольствием прислушиваясь к ровному гудению мощного мотора, ответил, чуть повернув голову, шофер.
И тут же бабахнуло где-то сзади и справа. Раз, другой. Выстрелы раздавались беспорядочно и часто. Юсупов велел остановиться, вышел и увидел, что по их следу спешит, подпрыгивая на буграх, открытая машина. На ступеньке стоял, свесившись, человек. Он размахивал над головой белой фуражкой. Как и пальба, это должно было привлечь внимание Юсупова. Вскоре он узнал в этом человеке секретаря Самаркандского обкома партии Чиковани.
— Война, Усман Юсупович! — крикнул еще на ходу Чиковани.
Весть поразила его так, будто он не ждал ее со дня на день. Чиковани рассказал о том, что сообщило утром радио.
— Мне уже звонили? — спросил Юсупов.
— Звонили из Ташкента. Москва вызывает.
По пути в Самарканд Юсупов молчал; только когда уже подъезжали к станции, — в город он не поехал, велел, чтоб вагон прицепили к первому идущему в сторону Ташкента составу, — сказал:
— Да, большие беды придется вынести нашему народу.
Чиковани был настроен иначе. Как и многие, в начале войны он был убежден, что фашисты будут разгромлены едва ли не в первые дни боев. Не оставляло это настроение и его товарищей, уезжавших вскоре уже из Ташкента на фронт, — среди них были видные партийные работники: Кудрявцев, Филимонов, Котов, — и на вокзале в минуту прощания. Юсупов тоже провожал их, и они, разумеется, шутя пообещали в самое ближайшее время пригласить его на Берлинскую партийную конференцию. К слову, похожее событие, если иметь в виду хотя бы съезд СЕПГ, как известно, и впрямь состоялось, но как тогда было до него далеко, какими страшными вехами отмечен путь к нему. Видел ли мысленным взором эти вехи Юсупов в те июньские дни? Он знал главное — надо работать.
«Пора, товарищи, покончить, по крайней мере, среди наших ответственных работников с традицией работать только 8 часов, а остальные 16 часов болтать, отдыхать и спать… Работать упорно, работать без устали не менее 16 часов и своим личным примером поднимать широчайшие массы трудящихся на самоотверженную работу… Воина неумолима; она обязывает всех нас удесятерять свои силы и энергию, не щадить себя ради общего дела» — это из его выступления перед коммунистами Ташкента в первые месяцы войны.
Он был уверен, что какой бы дорогой ценой ни далась победа, она будет за нами.
«Пусть Гитлер и его приспешники уже сейчас подыскивают мышиные норы, чтоб спрятаться от нашего суда» — из выступления на третий день войны перед рабочими Ташкентского текстильного комбината.
Внешне Ташкент еще жил прежней, довоенной, жизнью; в гастрономе на углу улицы Карла Маркса и Кирова стоял спиной к зеркальной стенке плюшевый медведь, по-прежнему прижимая к груди коробку конфет «Тузик», и конфеты эти можно было купить здесь же, в кондитерском отделе. В кинотеатрах шли комедии, а перед ними — киножурнал, в котором показывался, пуск Краматорского завода тяжелого машиностроения и соревнование девушек-парашютисток в Коктебеле. На рассвете неторопливые дворники поливали кирпичные тротуары, черпая ведром воду из арыков, и протяжно возвещали о своем прибытии разносчики молока.
Но уже шагали по булыжным улицам под командой сутулого младшего командира стриженные наголо парни с котомками за спиной, и хозяйки, спешившие на Алайский рынок, останавливались, горестно покачивая головами: «Такие молоденькие…» — и чрезмерно бдительный патруль проверял на вокзале документы у мужчин. И громкоговоритель у трамвайной остановки сообщал, что в фонд обороны собрано уже пять с половиной миллионов рублей.
Узбекистан числил себя мобилизованным с первого дня войны. 23 июня рабочие паровозоремонтного завода имени Октябрьской революции (бывшие Красновосточные мастерские, колыбель революционных традиции, то же самое, что дли Ленинграда — Путиловский, а для Киева — «Арсенал») по собственному почину начали смену на два часа раньше обычного, и каждый выполнил по две-три дневные нормы. Колхозники Янгиюльского района обязались обеспечить двойной, «военный», как назвали они его, урожай хлопка, овощей, зерна.
Мозг, командный пункт республики — ЦК КП(б) Узбекистана работал почти круглые сутки. Отсюда шли не общие директивы — конкретные указания предприятиям о том, как переключиться на выпуск военной продукции; в связи с тем, что многие квалифицированные производственники уходили в армию, требовались резервы рабочей силы, определялись меры, способствующие ускоренной подготовке кадров. Скрупулезно учитывались запасы металла, сырья, топлива; оборудование, инструменты; контролировалась работа железной дороги, по которой уже перевозились военные грузы и войска.
Верный своему испытанному стилю, Юсупов, как никогда прежде, опирался на специалистов (группы были созданы по всем отраслям, включая медицину и культуру), прислушивался к их мнению.
Но историческая, без преувеличений, миссия Узбекистана в войне была впереди. Ее нетрудно было предвидеть: враг уже занял западные районы, двигался к Киеву и Москве. На пятый день войны ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР вынесли специальное постановление об эвакуации и размещении людей и имущества.
На Восток двигалась огромная лавина: миллионы людей, станки и машины, тракторы и автомобили, архивы и музейные ценности, гурты скота. История человечества не знает и вряд ли узнает что-то хоть отдаленно похожее по масштабам на это перемещение. «Эвакуацию промышленности во второй половине 1941-го и начале 1942 года и ее «расселение» на Востоке следует отнести к числу самых поразительных организаторских и человеческих подвигов во время войны». Так писал английский публицист Александр Верт.
Глядя с позиций нашего времени, он подвел справедливый итог. Тогда же, летом 41-го года, все еще только начиналось.
Первым прибыл прорвавшийся под бомбежкой из Ленинграда завод текстильного машиностроения. На людей, руководивших эвакуацией (разве упрекнешь их за то, что рассуждать им было недосуг), гипнотически действовало название «Текстиль». Значит, в Ташкент. А завод на ходу перестраивался на производство боеприпасов. То был первый опыт.
— Разъяснять, как размещать, не буду, — сказал на совещании Юсупов. — Действуйте как на фронте, но чтоб все оборудование до последней единицы было принято и установлено.
Товарищи уже прикинули, что ленинградское предприятие можно поместить в недостроенные корпуса ниточной фабрики на Ташкентском текстильном комбинате (тоже название натолкнуло!), но где взять дефицитнейшие в Средней Азии доски для ящиков?
— Никаких отговорок! Хоть заборы ломайте, хоть полы в конторах, — ответил Юсупов, и этим было сказано все.
А в направлении Ташкента уже двигались эшелоны Ростсельмаша — предприятия особой важности, как было подчеркнуто в постановлении ГКО — Государственного комитета обороны, уполномоченным которого в Узбекистане являлся У. Ю. Юсупов. Еще в пути Ростсельмаш начал подготовку к выпуску снарядов для знаменитых «катюш» и 120-миллиметровых минометов.
Секретарь ЦК Ефимов, другие ответственные работники, казалось, лишь теперь ощутили до конца, что означает одно из любимых выражений Юсупова: «Ломать надо!»
Ломали головы: присоединили к Ростсельмашу ленинградские цехи, занявшие ниточную фабрику, а дальше? Ломали фабричные стены, чтобы вместить сложное и громоздкое оборудование, потолки, чтобы поставить вагранки. Ломали — и Юсупов в этом был первый — инерцию отношения к делу по справедливой, впрочем, но только для иных времен формуле: «Вы нам дайте все необходимое — мы исполним».
На фронте в выражениях не стеснялись не только старшины, но и маршалы. Юсупов на заседании бюро ЦК сказал:
— Сейчас надо ломать ребра тем, кто прикрывается незначительными мотивами, выискивает объективные причины, формальные поводы и тормозит основное дело.
Он требовал: искать и находить ресурсы. Делать невозможное, как на фронте. Установка была такая: если ты руководитель, неважно, какого ранга, — ты командир, а потому думай, проявляй инициативу, ошибайся, падай, вставай и продолжай бой. Да, ты рискуешь головой, ты можешь даже потерять ее, но на то воина.
Он ненавидел их открыто, свирепел при виде тех, кто мечтал пережить трудное время спокойно. «Узбекистан — не тыл. Узбекистан — передовая позиция».
С возмущением говорил о том, что вот находятся такие: на бюро ЦК выносят вопрос о том, что нет, дескать, железа для походных кухонь.
— Бочку возьмите! Обыкновенную железную бочку. Много ума требуется, чтобы приспособить ее вместо котла и сварить в ней борщ? Привыкли жить на готовеньком. Отвыкать надо, не ждать, пока пришлют, а выходить из положения самим. Или: не хватает электрооборудования, ламп. Снимите своей властью в парках гирлянды, оставьте всюду, где можно, даже в ресторанах, одну лампу вместо трех. Остальные отдайте эвакуированным заводам, которые должны работать ночью.
И в заключение, отдышавшись, хрипло, решительно, так, что все понимают — это не краснобайство:
— Я готов, если нужно для обороны, приспособить под военные заводы даже здание Совнаркома и ЦК.
Они выходят на Хорезмскую, темную, потому что стоит глубокая ночь. Закуривают, переговариваются негромко: Абдуллаев, Игамбердыев, Емцов, Ходжаев, Попов…
— Ты думаешь, он не вытряхнет, если надо, весь аппарат и не сделает здесь цехи?
— Вытряхнет как пить дать.
И короткие команды шоферам:
— На «Текстиль».
— На Полиграф.
— К складам «Заготзерно»…
Адреса строительных площадок, где без перерыва идут работы: становятся на ноги прибывшие с запада заводы. Военными стали заводы, все без исключения, как стал солдатом каждый советский человек.
Все было далеко от идиллии; прибывшие вели себя далеко не так, как подобает гостям. На рассвете к заместителю Председателя Совнаркома, смяв секретарские барьеры, пренебрегая и вежливостью, и тем, что в кабинете шло совещание, ворвались два возбужденных человека — главный инженер и парторг Кольчугинского кабельного завода.
— Мы стоим на подъездном пути. К разгрузочной пройдем лишь в том случае, если вы гарантируете как минимум тридцать тысяч квадратных метров для цехов и двадцать тысяч метров жилья. Иначе даем телеграмму Москве, а сами двинемся дальше. (Спрашивается: куда? Но об этом не думали.)
Намекнули и на то, что им, дескать, отлично известна установка ЦК республики: принимать все предприятия, чтобы они осели в Узбекистане; тем более грех отказываться от такого ценного объекта, как кабельный завод.
Зампред взорвался. Не стесняясь присутствием своих сотрудников, крыл несколько минут кряду отборнейшими выражениями. В заключение сказал:
— Шесть тысяч метров — вот все, что вы получите и никуда не двинетесь отсюда. А будете саботировать, привлечем по законом военного времени. Идите и доложите об этом своей дирекции.
В полдень прибыл Сафонов, директор Кольчугинского завода. Его повезли к складам «Заготзерно» — шесть сооружений, каждое по тысяче квадратных метров. Сафонов в отличие от своих подчиненных, весьма, впрочем, присмиревших, спросил, где можно разместить подстанцию, — и все.
Кольчугинцы в своем предвидении оказались правы. Кабельный завод вырастет после войны в махину. Он будет обеспечивать многие города страны и экспортировать продукцию за границу. Как нельзя более придется он ко двору республике. Впрочем, то же самое можно сказать о любом из эвакуированных предприятий, а их было около ста.
В годы войны была создана в Узбекистане могучая и разноотраслевая индустрия, которая составит впоследствии гордость республики и основу мощи ее. Юсупов предвидел это. Говорил, как всегда, не таясь, что война минет, а заводы останутся и будут работать на хлопководство; что «сами мы, у себя в республике, будем производить все необходимое для хозяйства». Что вырастут ряды узбекского рабочего класса, появятся отряды специалистов, которых прежде в Узбекистане недоставало.
Не на корысти, не на эгоистичной расчетливости был основан юсуповский призыв-указание: «Берем все!», а на том, что называется сочетанием общегосударственных интересов с задачами развития республики.
Кстати, призыв этот сулил блага только в будущем, которое иногда, за завесой войны, видел не каждый, а хлопоты, заботы, ответственность — и все это — непомерное! — взваливал на плечи уже сегодня. И тут уместно сказать умышленного противопоставления ради о тех руководителях из соседних и несоседних краев, которые не выискивали причины, а приводили разумные и убедительные доводы «против», и ГКО соглашался с ними и отправлял то или иное предприятие в Узбекистан. Сами говорили: «Пошлите к Юсупову, он возьмет». И Узбекистан брал не только потому, что ЦК КП(б) Узбекистана прозорливее смотрел в будущее. Это при всей своей важности находилось на втором плане. А впереди была военная задача — дать фронту оружие и боеприпасы, исполнять с честью свой воинский долг.
Это отнюдь не высокие слова. Все силы, вся энергия отдавались решению этой сегодняшней задачи, а то, что она удачно сочеталась с перспективой, — так в этом же и состоит, между прочим, искусство партийного руководства.
Не всеми и не сразу был тогда Юсупов понят. Среди ближайшего окружения его находились товарищи, искренние благожелатели, которые предостерегали: «Выдюжим ли? Ведь каждый завод — это план, за который теперь будем отвечать и мы, поскольку предприятие становится узбекским. Это станки, которым нужна энергия и сырье. Это люди, которым нужен хлеб, кров, детские сады, школы и больницы».
Сегодня, внутренне устыдясь, вспоминают иные, как высказывали опасения, не сыграет ли злую шутку с Юсуповым свойственная ему неуемность, размах? Говорили об этом и вслух, и он отвечал:
— Говорят, по одежке протягивай ножки. Эти товарищи исходят из старого стиля: дадут фонды, будем строить, не дадут — откуда нам взять? Не дадут! Мы обратимся, как всегда, к нашему народу. Народ поймет. Он сделает возможное и невозможное для строительства военной промышленности.
Снова убежденная, страстная вера в силы народа, способного творить чудеса.
Он обращался в эти же дни к агитаторам и пропагандистам Ташкента:
— В дни Отечественной войны мы должны больше, чем когда-либо, дорожить страстным словом большевистской правды, способным поднять людей на беспримерный героизм и на фронте, и в тылу.
И подвиги совершались.
7 ноября 1941 года, когда на Красной площади состоялся тот незабываемый в ряду других, куда более представительных и торжественных, военный парад — высокая демонстрация воли и непреклонного мужества советских люден, уходивших от стен Кремля на передовую, пролегавшую всего лишь в десятках километров отсюда, — в Ташкент прибыла шифровка: сможете ли принять авиационный завод?
Казалось, все, что могло быть использовано под заводские цехи, — многие из них давали продукцию для фронта уже через 1,5–2 месяца после того, как были сняты с колес, — было занято.
Юсупов экстренно собрал бюро ЦК.
— Есть предложение — принять завод.
— Усман Юсупович, вы представляете, какая это громадина? Надо строить новые помещения — единственный выход.
Он сказал:
— Когда строить? Немцы под Москвой. Самолеты давать надо, а не цехи строить. Через месяц давать. И дадим!
Товарищи молчали, ждали, какой выход предложит Юсупов.
— Будем выселять наши собственные предприятия. Я думаю, освободим здание полиграфкомбината. Еще что можно?
— Ремонтный завод ГВФ.
— Ангары на аэродроме.
Здесь же, при всех Юсупов позвонил в ГКО, сообщил Щербакову о решении, ответил на вопрос, о смысле которого все догадались:
— Собирать будут под открытым небом. Вначале. А впоследствии построим цехи.
Положил трубку, ударил ребром ладони по столу:
— В двадцать четыре часа, вы слышите, товарищ Ефимов и товарищ Глухов, — на вашу ответственность: в двадцать четыре часа очистить полиграфкомбинат и другие объекты. Эшелоны уже получили команду — в Ташкент.
Каково же было директору комбината Василию Федоровичу Архангельскому снимать машины, которые едва ли не вчера были установлены на новеньком, выложенном керамическими плитками полу! Благо не нужно было ничего объяснять рабочим. Они уже знали, что здесь будет авиационный завод, но как все же тяжко было сокрушать ломом стены; еще помнилось, как давал Василий Федорович нагоняй из-за каждой царапинки на голубой панели, а тут…
— Днепрогэс изорвали, когда обстановка потребовала, — сказал Архангельский, сутулящийся больше обычного.
Когда подошли первые платформы, цехи уже были свободны.
На фронте бытовало выражение: «С колес — в бой». То же можно сказать об авиастроителях (к ним, кстати, присоединились и многие ташкентские полиграфисты).
Лили нудные бесконечные дожди. К брезентовым чехлам, которыми были укрыты самые ценные станки, прилипли заброшенные злыми холодными порывами ветра разлапистые листья чинар. Все — и рабочие, и инженеры, и директор завода Борис Дмитриевич Лисунов — не уходили с площадки. Здесь питались из походных кухонь, здесь получали по карточке свою рабочую норму: 800 граммов хлеба, здесь, между станин, на несколько часов засыпали в изнеможении, пока товарищи продолжали нести вахту.
Ровно через месяц из кабинета Юсупова было доложено в ГКО: «хозяйство Лисунова» выпускает продукцию. Первые десантные самолеты уже «обкатывались» в ташкентском небе.
Разумеется, и собственная промышленность Узбекистана, не только металлообрабатывающая, но и текстильная, и даже пищевая, встала на военные рельсы. Всего за полгода хозяйство было перестроено на военный лад. И все это при том, что Узбекистан теперь мог полагаться лишь на себя. Война прервала налаженные экономические связи; мгновенно возникла нужда в материалах, промышленном сырье, инструментах, запасных частях. Об этом докладывали письменно в ЦК, а из отделов Юсупову. Он собрал аппарат и сообщил со всей свойственной ему подчас категоричностью:
— Ни у меня, ни у других секретарей ЦК нет времени читать докладные записки. Этот стиль работы, товарищи, надо прекратить. Вы спросите, что делать? Я вам отвечу: идти на предприятия, помогать им, изыскивать возможности на месте, бороться с волокитой и бюрократизмом по правилам, которые диктует военная обстановка; советоваться с народом, с большевиками.
На Ташкентской швейной фабрике выходили из строя машины из-за того, что сносились детали. Нечего было надеяться теперь на то, что их пришлют из подмосковного Подольска. Инструктор ЦК собрал партийцев, спросил: «Как быть? Фронт ждет нашей продукции. (А это были не только гимнастерки, но и парашюты, и чехлы для орудий.) Мы — в бою. Давайте действовать как в бою».
Фронтовая ударная бригада члена партии Примова — токари, слесари, кузнецы — сама начала изготовлять простейшие детали, а вскоре даже самые сложные и тонкие. Все до единой машины были введены в строй.
Расшевелили и местную и кооперативную промышленность, которые едва ли не традиционно числились в отстающих. Они искали (и находили, порой на удивление ученым!) местное сырье, лом цветных металлов, подвергали его первичной обработке и поставляли военным заводам, а сами использовали для дела отходы крупных предприятии.
Фронт получал из Узбекистана самолеты, авиамоторы, минометы, бомбы, мины, обмундирование и обувь, продукты. Когда под Москвой были даны по фашистам первые залпы из «катюш», в ЦК КП(б) Узбекистана говорили друг другу радостным шепотом, — производство реактивных снарядов в Ташкенте относилось к области военной тайны: «Мы стреляли».
Через полгода после начала войны Юсупов говорил со строителями Северного ташкентского канала (кстати, на этой встрече присутствовали эвакуировавшиеся в Ташкент Алексей Толстой и Владимир Луговской, а переводил речь Юсупова с узбекского Гафур Гулям, прекрасный поэт и широчайшей души человек, тот самый, который обратился к обездоленным войной детям со словами «Ты не сирота»), согревшими сердца миллионам).
— На каждую фашистскую гадину, — докладывал народу первый секретарь ЦК, — мы даем, по крайней мере, по одной авиабомбе, по одному снаряду и гранате, несколько сот патронов. Если не на одного, то на десяток фашистов — по одной «катюшке», — он произнес именно так, с милой неправильностью, и разъяснил строителям, по преимуществу колхозникам: — Говорят «Катя», а уменьшительно «Катюшка». Правда, обычно понимают так, что Катеньку любить — хорошее дело, но я вам доложу, что это такая «Катенька», которая не оставляет от фашистов ни мяса, ни костей. — И люди восторженно рукоплескали.
Из Узбекистана уходил эшелон за эшелоном: запломбированные вагоны, и на площадке — красноармеец с винтовкой наперевес.
«Мы разместили, смонтировали и пустили в ход десятки важнейших оборонных предприятий… Можно с полным основанием сказать, что за время войны Узбекистан стал одним из серьезных центров военной промышленности Советского Союза», — говорил в другом своем выступлении Юсупов.
Шли эшелоны и в Узбекистан. Прибыло несколько институтов Академии наук СССР (около четырехсот ученых), Белорусская академия наук, Ленинградская консерватория, Украинский академический театр драмы имени Франко, московские театры: имени Ленинского комсомола, имени Революции, Государственный еврейский театр.
Приехала большая группа писателей, и среди них — Алексей Толстой, Анна Ахматова, Якуб Колас.
Ватаги студентов из Ленинграда, Киева, Харькова, мгновенно загоревшие под южным солнцем парни и девушки, весьма беспечные и веселые на фоне грозной поры, разгружали институтское оборудование, сколачивали в общежитиях двухэтажные нары.
Ловко перескакивая начищенными сапогами через лужи на кирпичных тротуарах, спешили на занятия слушатели Высшей военной академии имени Фрунзе.
Во дворе Центрального телеграфа на рассвете выстраивались на зарядку курсанты академии связи, одного из многих военных учебных заведений, прибывших в Узбекистан.
А сколько двигалось черепашьей скоростью, застревая на каждом разъезде, но неуклонно — на Ташкент, наспех сформированных злыми от усталости станционными дежурными поездов, с горькой иронией называемых «пятьсот веселый». Ехали в теплый спокойный край осколки семей, чьи отцы сложили головы в первый день войны, на пограничном рубеже; ехали, спасаясь от фашистов, киевляне и одесситы, жители сожженного Смоленска и израненного Минска; ехали из Молдавии и Буковины…
Счет шел уже не на десятки, а на сотни тысяч. И каждому нужна была хоть одна лепешка в день. А Узбекистан до войны две трети хлеба завозил из краев, которые ныне были заняты врагом. В ноябре, когда волна эвакуации достигла высшей точки, было подсчитано, что зерна остается только на несколько месяцев.
И каждому нужна была хоть какая-никакая защита от непогоды и холода, а кирпича, досок, даже гвоздей не хватало, чтоб строить цехи для военных заводов.
На Привокзальной площади Ташкента сидели таборами беженцы — на чемоданах и узлах, соорудив из одеял ненадежные навесы над головами. Созданные сразу же комиссии: от местных Советов до Совнаркома (членом республиканской комиссии по делам эвакуированных состоял и У. Ю. Юсупов), — занимались учетом, устройством этих людей; принять и обеспечить мало-мальски необходимым всех сразу было невозможно и чисто физически, и потому, что надо было искать и находить новые решения, а возможности были, казалось, исчерпаны дотла. И самые слабовольные из эвакуированных уже ходили по дворам, прося пристанища, а самые нахальные, бывали и такие, так же как бывали трусы на фронте, уже брали за горло. Из уст в уста передавалась похожая на легенду история о еще нестарой тетке, которая привела шумную и бесцеремонную ораву своих детишек в горисполком, впустила их в кабинет председателя и заявила, что никуда они не уйдут отсюда, пока родная Советская власть не даст ей квартиры.
Не исключено, что версия эта немало обросла домыслами. Более того, могла она наряду с паническими слухами о положении на фронте быть сознательно пущена вражескими языками. К тому же зазвучали эгоистичные, дремавшие в благополучное время струнки в душе у иных обывателей, которые теперь вынуждены были стоять в очередях, длина которых возросла вдвое, а то и втрое. А как обидно было — тут уж попробуй не пойми ее — добропорядочной ташкентской хозяйке, когда приезжая дама (а вместе с массой тех, кто лишился последнего достояния, прибыли в Ташкент и люди весьма денежные) забирала, не торгуясь, последний десяток яиц на Алайском рынке у перекупщицы с бегающими глазами.
Морская волна выбрасывает на песчаный берег мириады капель соленой воды, а вместе с ними — окурки, ржавые жестянки и пустые бутылки.
Сидя на земляном полу, усыпанном окалиной и спекшейся глиной от опок, усталые женщины, недавние минские модельерши и ленинградские искусствоведы, обрубали тяжелыми молотками заусенцы с минных болванок.
Девочки из интеллигентных киевских семей, мальчики из знаменитой одесской школы имени профессора Столярского становились токарями и фрезеровщиками.
Юноши неумело переправляли в паспортах год рождения — конечные цифры «25» на «23», — чтобы их призвали в армию, пока идет воина. Но находились и приспособленцы, и спекулянты, и воры. Пусть их было немного, они в отличие от тех, кто торопился затемно на заводы, были на виду.
Даже на собрании городского партийного актива к Юсупову поступила записка: «Ташкент чрезмерно перенаселен ненужными элементами. Но лучше ли отправлять эшелоны дальше?»
— Куда? — спросил, в свою очередь, с сердитым вызовом Юсупов. — К папе римскому?
В заключительном слове он все поставил на места:
— К нам едут люди, которые жестоко пострадали от войны. Многие из них испытали ужасы фашистского террора. Надо окружить их вниманием, протянуть руку братской помощи, а вместо этого эвакуированных в ряде случаев третируют, относятся к ним как к чуждым советскому обществу людям. Партийный актив должен решительно разбить подобные настроения как вредные, антисоветские. Нужно принять все меры к бытовому и трудовому устройству эвакуированных, окружить их вниманием, помочь быстрее включиться в нашу общую работу.
Таково было мнение и указание Центрального Комитета, высказанное его первым секретарем, а далее, выступая уже как Усман Юсупов, в умении которого подсказать выход из, казалось бы, безвыходного положения все убеждались не раз, он советовал:
— Потесните учреждения; рабочий стол может стоять даже в коридоре, но освободите хоть комнату для общежития.
— Стройте времянки, как наши прадеды строили: из глины и самана, зато внутри тепло и сухо.
— А как быть с хлебом? — опять и опять спрашивали у него.
Бывает, человек в порыве перескочит через пропасть, а потом, оглянувшись, и восхищается собой, и ужасается: как это я сумел? Нечто подобное испытывают нынче люди, которые были близки к Юсупову в годы войны. Они вспоминают, как, знакомясь с очередной сводкой о количестве выданных населению продовольственных карточек, не скрывали своих страхов за то, удастся ли пережить без голода год грядущий. Но вот же: остались живы все, хотя до сих пор кажется это невероятным.
Он был партийным руководителем, пусть первым в республике. Кроме него, кроме ЦК, были органы законодательные, исполнительные, которые он никогда не подменял авторитетом ЦК, не оттеснял от дела; наоборот, постоянно подчеркивал: «Необходимо все вопросы хозяйственного, советского порядка рассматривать лишь на заседаниях СНК и его решения считать окончательными, подлежащими безусловному выполнению. Совершенно излишне рассматривать одни и те же вопросы ЦК и СНК, дублировать работу». Никогда никого не упрекал и не наказывал Юсупов за проявленную инициативу. Все знали об этом. Но знали, что и результат должен быть при этом благим. А кто примет на себя величайшую, чтоб не сказать страшную ответственность: посеять на поливных землях Узбекистана, хотя бы на части площадей, не хлопок, а хлеб?
Сама жизнь Юсупова снова приводит нас все к тому же сравнению первого партийного руководителя с полководцем. Да, он не подставляет, подобно солдату, голову под пули. Но нередко ему приходится принимать, уже одному, окончательные решения, взвалив на себя такую ношу ответственности перед настоящим и будущим, что впору поседеть за ночь.
Юсупов, следуя своим правилам, прежде всего заставлял работать и думать членов ЦК, всех, кто занимался сельским хозяйством. Никогда, ни прежде, ни потом, не ставил он столько раз одни и тот же вопрос: мы можем рассчитывать лишь на собственные ресурсы. Как в этом случае обеспечить население хлебом? 20 сентября он обращается с этим к активу Ташкентской парторганизации. Он говорит, что необходимо расширить (очевидно, лишь в одной Ташкентской области) посевные площади по сравнению с текущим годом почти на 120 тысяч гектаров. Речь-то шла не только о зерновых, но и о сахарной свекле (в Узбекистан эвакуировался десяток сахарных заводов). Прежде в республике эту культуру не сеяли. Теперь это стало насущной необходимостью.
— Каждое зерно будем учитывать, — предупреждает Юсупов, чтобы окончательно поломать довоенную тенденцию, когда план по озимым кое-где выполняли спустя рукава, а после ссылались на неурожай. (Земли-то, на которых сеяли хлеб, — неполивные (богара), так что все зависело от бога, от погодки.)
Две недели спустя на собрании работников аппарата ЦК он вновь напоминает:
— Надо посеять озимые на богаре, в течение ближайших десяти-пятнадцати дней, иначе будет поздно. Посеять зерно на условно-поливных землях, использовать весенние паводковые воды, два раза полить зерновые.
Он не до конца уверен, правильны ли его рекомендации, и обращается к специалисту:
— Можно это сделать, товарищ Мальцев?
— Можно.
На память перечисляет он районы, где есть возможность расширить зерновой клин:
— Только в Орджоникидзевском районе — тысяча — тысяча пятьсот гектаров. В колхозе «Темир кадам», например. Можно на этих землях и повторные посевы делать — сеять просо.
Надо шевелиться, ехать в Таджикистан, в другие районы, чтоб купить этих семян. А спросите вы об этом товарища Инжелевского, он ответит: «Зерном не занимаюсь». Спросите Гогсадзе, он скажет: «Вы по ошибке у меня спрашиваете. Спросите у Мальцева…»
Неделю спустя на крупнейшем с начала войны совещании перед секретарями обкомов и председателями облисполкомов, руководителями республиканских организации:
— Мы должны во что бы то ни стало увеличить производство зерна в два с половиной — три раза. Проверки показали, что в колхозах есть свободные земли; надо использовать приусадебные участки колхозников: сперва снимать урожай хлеба, а потом — овощей. Или сначала овощи, а вслед за ними сеять просо или маш[10]. А сколько пустующей земли в садах, в виноградниках?
Иногда сталкиваешься прямо-таки со смехотворными фактами: на большой площади держат четыре дерева и говорят, это сад. Почему в таких случаях не использовать землю под зерно?
Двадцать лет спустя директор совхоза «Халкабад» Усман Юсупов будет поступать именно так, хотя потребность в хлебе уже не будет столь остра.
Он задает направление, тон, и выступающие не просто соглашаются с ним; они предлагают: «Подсобные хозяйства заводов должны сеять не бахчевые, а рис»; «Ташкент в состоянии покрыть потребность в хлебе за счет собственных ресурсов»; «Урожайность на богаре должна быть не меньше шести центнеров, а на поливных землях — 15 центнеров с гектара».
Юсупов обращается к колхозникам. Они вышли на строительство Северного ташкентского канала:
— Неужто мы будем просить союзное правительство, чтобы нам в такое тяжкое для страны время дали десять миллионов пудов хлеба? Нет, это было бы неправильно, это было бы нахально, это было бы не по-большевистски: к трудностям фронта наваливать дополнительные трудности. А как же быть? А так: решить проблему хлеба здесь, в Узбекистане, самим обеспечить себя.
Он знает сердце своего народа и взывает к нему:
— Представьте: вот ваш голодный ребенок плачет, старуха мать пьет чай без кусочка лепешки, а вы не в состоянии дать им хлеб. Это в тысячу раз труднее любых трудностей, которые нам предстоит здесь преодолеть.
Мы можем многое сделать, используя внутренние возможности республики. Одна из них — оросить эту степь. Тогда уже в начале нынешнего лета она даст не два-три, а пятнадцать центнеров зерна с гектара.
28 марта 1942 года земляные работы на канале были окончены. Ко времени поливов по нему пошла вода.
Но всей огромной хлебной задачи Северный ташкентский, к сожалению, не решал. Строительство его было одной из важных мер, намеченных пятым Пленумом ЦК КП(б) Узбекистана. Он состоялся в конце первого военного года и был посвящен вопросам производства вооружения и боеприпасов, разработке военно-хозяйственного плана на 1942 год и вопросам усиления организационно-партийной и политико-воспитательной работы в условиях военного времени. Пленуму предшествовала та требующая огромной отдачи сил и, увы, почти незаметная внешне, как многие настоящие свершения, работа, которая и составляет подлинную суть партийной деятельности. Пленум или съезд начинается задолго до заседания, президиумов, стенограмм и принятия решении. Тот, о котором идет сейчас речь, начался тогда, когда на места выехали направленные бюро ЦК, снабженные подробнейшими инструкциями бригады. Во главе их стояли самые ответственные работники — секретари ЦК, заместители председателя Совнаркома. В очень короткие сроки они определили и взяли на учет все внутренние ресурсы и производственные возможности каждой из областей. Ночи напролет просиживали они с сотрудниками обкомов и облисполкомов над сводками, таблицами, картами, а потом начиналось главное: выезды в районы, во все наиболее крупные колхозы, в совхозы; собрания первичных партийных организации, где нередко высказывалось рядовым членом партии мнение, мысль, предложение, которые затем полноправно входили в постановление пленума и возвращались уже в качестве директивы-приказа, продиктованного коллективным умом партии.
Та, принятая в декабрьские дни 1941 года, требовала от большевиков резко увеличить производство боеприпасов, расширить добычу цветных металлов, пустить новые электростанции, чтоб была обеспечена бесперебойная работа военных заводов, наладить производство всех важнейших стройматериалов; цемента, извести, мела, черепицы, толя.
Было подсчитано, что посевные площади можно будет увеличить на полмиллиона гектаров, а валовой урожаи зерновых должен быть доведен до 15 миллионов центнеров. (В 1941 году было собрано 5,5 миллиона центнеров.)
Вновь были направлены на село партийцы из городов — агрономы, механизаторы, бухгалтеры и просто — организаторы производства.
Но борьба на трудовом фронте, так же как на фронте военных действии, не была триумфальным маршем от победы к победе. Знал ли, предвидел ли Юсупов, что требование — дать во что бы то ни стало хлеб — снизит внимание к главной культуре, к хлопку? Сегодня только он один смог бы ответить на этот вопрос, а заодно сказать о том, почему он, столь в иных случаях непримиримый в своем отношении к тому своеволию, когда во имя ограниченных сегодняшней потребностью интересов отодвигается на задний план главное (а для Узбекистана это, разумеется, был, несмотря ни на что, хлопок), почему он до поры не призвал к ответу тех товарищей с мест, которые допустили, чтобы и на поливных землях выращивался не хлопок, а хлеб? Ответ на это следует искать, наверное, не в характере Юсупова-политика, а в душе Юсупова-человека, Коротко можно сказать, не боясь сентиментальности, заключенной в расхожей фразе: сердце его обливалось кровью, когда он видел голодных детей. А они прибывали и прибывали в узбекский край с такой понятной надеждой в рано повзрослевших глазах: отогреться, успокоиться, наесться досыта.
Мы упоминаем о детях, но речь-то идет и о рабочих, которые должны были иметь силы, чтобы выстоять двенадцатичасовую смену, и о колхозниках (в семье у каждого не менее шести человек), и о солдатах, которые в степях под Ташкентом учились военному делу, а потом били врага под Сталинградом.
Ему досталось к тому же на самом что ни на есть высоком уровне — на Секретариате ЦК ВКП(б). Были вызваны туда еще Абдурахманов и Глухов. Был поставлен вопрос о хлопководстве. Секретарь ЦК ВКП(б) Щербаков говорил так, да и атмосфера была такая, что каждое слово впечатывалось в мозг и душу на веки вечные. Не стеснялся к тому же — круг был узкий — и в выражениях:
— Собирать на поливных землях высокие урожаи хлеба каждый дурак сможет. Как не понять, что война не бесконечна, уже освобождены многие хлебные районы, а хлопок, кроме Средней Азии, нам никто не даст. Будьте добры, занимайтесь хлопком!
Надо полагать, Юсупов предвидел этот выговор и даже подготовился к еще худшему. Более того, и товарищи, наказавшие его, наверное, понимали, что кто-кто, а Юсупов не мог забыть о хлопке.
— Идите работайте, — сказали ему и товарищам в заключение.
Они работали.
Началась борьба, тут уж иначе не скажешь, за хлопок 1944 года. На полевых станах внесли лозунги: «Урожай хлопка и наступление на фронте — звенья единой цепи». Но работа ЦК не ограничивалась призывами. Самые сильные сотрудники из партийного и государственного аппарата (1700 коммунистов и около 2000 комсомольцев) были направлены на руководящую роботу в село. Практически в каждом колхозе оказался хоть один из них. Это была гвардия, четко представлявшая задачу, принципиальная, не отступающая на шаг от решении ЦК. (А указание давать и хлопок и хлеб оставалось по-прежнему в силе.) «Мы были люди Юсупова, — вспоминает один из товарищей, посланных партией в отдаленный андижанский колхоз. — Мы действовали от имени ЦК. Каждый имел право входить с любым вопросом лично к Юсупову».
На село тоже проникли настроения, свойственные испокон веку войне: «Как-нибудь пережить бы тяжелые времена, а там — займемся делами».
«Сейчас, — говорили большевики, — сегодня пускать на поля технику». Тракторы, даже сеялки, оставленные механизаторами, ушедшими на фронт, пришли в негодность. Организовали летучие ремонтные бригады — 1500 коммунистов и комсомольцев: механики, трактористы. Одна-единственная приходилась на целый куст колхозов, но зато это были мастера, готовые работать по-фронтовому, день и ночь. Но где взять запасные части?
Обратились к рабочим. Партийные организации заводов решили без ущерба для выпуска боевой продукции обеспечить колхозы запчастями. Город взял шефство над селом, которое недавно спасло его от голода. Рядом с плакатом: «Что ты сегодня сделал для фронта?» — в цехах появился второй: «Что ты сделал для села?» Весной на хлопковые плантации вышли тракторы, конечно не весь довоенный парк, но все же гораздо больше, чем в предыдущем сезоне. ЦК партии напоминал, требовал: никаких скидок на военное время; агротехнику во время сева соблюдать строжайше!
Конечно же, хлеб на поливных землях в первые годы войны сеяли, но была и более важная причина, из-за которой часть массивов выпала из оборота. Поднялись грунтовые воды; поля заболотились, засолились. Был залит весь Бухарский, затоплен Каганский, пострадали многие другие районы. Нужно было провести вовремя профилактические мелиоративные работы, а сил недоставало: из Узбекистана, так же как и всех советских краев, люди уходили ежедневно на фронт. Шестнадцатилетние бухарские мальчишки, стоя по горло в воде, чистили коллекторы. Коржавин рассказывал об этом на бюро ЦК. Даже по одному этому факту судя, можно представить, какой ценой были все же осуществлены мелиоративные работы и земли возвращены в строй.
Старики и дети, узбекские женщины, испокон веку великие труженицы, на их плечи легли заботы о хлопке.
У кого не хватало сноровки, у кого руки были слабы, а окучивать хлопчатник на глубину в восемнадцать сантиметров под жарким солнцем, да еще не очень сытому, — дело нелегкое. Юсупов знал, что это за работа, и потому, когда прочитал в Ферганском обкоме весьма успокоительные сводки о ходе обработки, не обрадовался, а обеспокоился. Сам проехал по полям; увидел, что у иных корней земля едва разворочена кетменем, что сорняки остались едва ли не выше хлопчатника. Свирепел, кричал, справедливо негодуя:
— Кого обманываем? Это все равно что на фронте послать командованию ложное донесение. За это расстреливают!
Доброкачественная окучка нужна была прежде всего потому, что не хватало удобрений. Надо было, чтоб земля кормила как можно лучше каждый куст хлопчатника, чтоб сорняки не забирали из нее драгоценные соки себе.
Секретари обкомов призывались к ответу. Докладывали, что приняты меры: на таких-то площадях будет произведена дополнительная окучка, на поля выйдет столько-то людей.
— И все? — спрашивал Юсупов. — А политико-воспитательная работа? Каждый ли колхозник понимает, какое значение для победы имеет его труд? Если бы понимал, умер бы, но не оставил рядом с хлопком сорняк. — Он рассказывал, не скрывая удовлетворения, о фронтовых бригадах, которые возникали по инициативе комсомола повсеместно. — Я видел десятки таких бригад, и они замечательно работали. Эти фронтовые бригады делают в два-три раза больше, чем другие, и качество работ отличное… Они живут прямо в поле, как на войне. Если не успели построить шалаши, спят прямо на грядках. Они не следят за временем, у них нет часов, — с особым упором произнес эту фразу, — они не разгибают спины, пока не обработан весь участок. Что им дает силы? Высокая сознательность. На поле — не машина с кетменем в руках, а комсомолец, боец партии.
На каждом заседании, с каждой трибуны, в любом документе настойчиво предъявляет он это требование: видеть во всем политический смысл и доводить его до сознания людей.
— Мы будем наказывать тех руководителей, которые под предлогом занятости пренебрегают агитационно-пропагандистской работой. Мы не деляги, а политические деятели, поставленные партией во главе республики.
Прочитайте теперь вот эти несколько цифр в сочетании со всем тем, о чем шла речь прежде: 10 декабри 1944 года Узбекистан выполнил государственный план хлопкозаготовок. Урожайность по сравнению с предыдущим годом повысилась более чем на четыре центнера с гектара. Триста тридцать четыре бригады собрали по тридцать центнеров с каждого гектара. Хлопка было сдано на триста двенадцать тысяч тонн больше, чем в 1943 году.
«Героической работой на хлопковых плантациях колхозники Узбекистана показали, как надо преодолевать порожденные войной трудности. Их победа — это победа животворного советского патриотизма, спаявшего воедино все народы СССР» — так оценила этот трудовой подвиг «Правда».
Следующий сельскохозяйственный год был, как все они, по-своему труден: весна наступила поздно, тракторы поизносились вконец. Но был собран урожай выше, чем в предыдущем декабре. Передовики-хлопкоробы были награждены орденами и медалями. Две тысячи шестьсот двадцать и одни человек. Этим одним был Усман Юсупович Юсупов, вновь награжденный орденом Ленина.
В войну он редко бывал дома. Случалось, месяц кряду ездил по областям, жил на больших стройках. Когда являлся в дом на Гоголевской, в мрачноватых комнатах со старой мебелью для всех наступал короткий праздник. За столом рассказывал о Сталинграде; вилки, ножи изображали армии. Все задавали вопросы, семилетняя Инна — тоже:
— А почему они не затопили печку? (Юсупов говорил о замерзающих итальянцах.)
Старший сын его, Леонид, тоже был на фронте, служил у Сабира Рахимова, первого узбека-генерала, но семья расширилась: родилась дочь Зоя, и была взята на воспитание пятилетняя русская девочка Фаина.
Юлия Леонидовна работала в Наркомате легкой промышленности, но заботы, как у всех, не ограничивались ведомством. Занималась она и детскими домами. Однажды стриженая русская девочка вскинула на Юлию Леонидовну, красивую, неизменно элегантно, но строго одетую, глаза, произнесла «мама» и тут же смолкла, поняв, что ошиблась. Юлия Леонидовна взяла девочку к себе. С Усманом Юсуповичем ничего не согласовывала; знала, он одобрит. Сам привозил из каждой поездки полон вагон (свой, служебный) детишек, подобранных на дорогах и вокзалах. Устраивал в детские дома, а тех, кто постарше, — на работу.
В Ангрене, где строили угольный разрез (начинали еще народным методом), в снежный холодный день пошел по баракам. Прежде заглянул в рабочую столовую, на кухню, поворотил поварешкой в котле.
Где картошка? — спросил у оробевшего пучеглазого зава и безошибочно заключил: — Между собой разделили. Ну ладно, доберемся до вас.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
5. Н. С. Хрущёв в годы Отечественной войны
5. Н. С. Хрущёв в годы Отечественной войны Н. С. Хрущёв был членом военного совета Киевского военного округа. Без его ведома и согласия важные решения не принимались. Дополнительную власть Хрущёву давало то обстоятельство, что он был первым секретарём ЦК КП(б)У и членом
В дни Отечественной войны
В дни Отечественной войны Концерт перед боемОна только что приехала с фронта. Через четыре дня она снова уезжает на фронт. Мы сидим в ее номере в гостинице «Москва». За окном громадные дома и асфальтовые перекрестки московского центра. Мчатся закамуфлированные машины,
Приложение 2 И. Дрягина Из доклада «Комсомольские организации 9-й Гвардейской истребительной авиационной Мариупольско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии в Великой Отечественной войне и примеры героических дел комсомольцев дивизии»
Приложение 2 И. Дрягина Из доклада «Комсомольские организации 9-й Гвардейской истребительной авиационной Мариупольско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии в Великой Отечественной войне и примеры героических дел комсомольцев
Окончание Отечественной войны
Окончание Отечественной войны Путь на Зембин проходил по болоту, на котором было устроено более 20 мостов, не разрушенных войсками Чичагова вопреки приказу Кутузова. Наполеон не повторил ошибку адмирала. Миновав дефиле, он сжег за собою мосты. Но, видимо, злой рок
Кавалер ордена Красного Знамени
Кавалер ордена Красного Знамени Нам уже известен день и час, когда начнется наступление гитлеровцев. И, несмотря на это, медленно текут часы ожидания. Короткая летняя ночь, кажется, не имеет конца. Где-то на переднем крае артиллеристы уже заняли места у орудий, в готовности
1. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Общая панорама первого и самого трагического периода войны, который для Зощенко обернулся эвакуацией из его родного города в Алма-Ату, была следующей.В начале сентября 1941 года, всего через два с половиною месяца после нападения
М. Г. ТРУБАЧЕВ, старший лейтенант в отставке, полный кавалер ордена Славы В БОЮ И ТРУДЕ
М. Г. ТРУБАЧЕВ, старший лейтенант в отставке, полный кавалер ордена Славы В БОЮ И ТРУДЕ Давно не видел я своего фронтового друга. Не знал, в каких краях он бросил якорь. Наконец, удалось установить его адрес.… От Тулы я добирался дальше автобусом. Мой однополчанин Сергей
С. П. ДЕНИСЕНКО, старшина запаса, полный кавалер ордена Славы СОЛДАТСКАЯ СНОРОВКА
С. П. ДЕНИСЕНКО, старшина запаса, полный кавалер ордена Славы СОЛДАТСКАЯ СНОРОВКА Шли бои на подступах к Тернополю. Группа разведчиков в составе десяти человек получила задание от командира полка захватить «языка».Подошли мы к городу с восточной стороны глубокой ночью.
ВОРОШИЛОВ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВОРОШИЛОВ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Отечественная война началась для Красной Армии тяжелыми поражениями. Уже к концу первого дня гитлеровцы добились ощутимого успеха, а Наркомат обороны и Генеральный штаб стали утрачивать нити управления войсками. Сталин на несколько
После Великой Отечественной войны
После Великой Отечественной войны Мы продолжали совершенствовать свои номера. Творческая лихорадка уступала место спокойным репетициям над созданием новых трюков, усовершенствованием имеющихся.Если в период Великой Отечественной войны мы главным образом выступали
7. Накануне Великой Отечественной войны
7. Накануне Великой Отечественной войны В тот же день вечером наша делегация выехала поездом из Бухареста на родину – через Будапешт, Братиславу, Прагу, Берлин и Варшаву. В пути мы благодаря продолжительным остановкам в крупных городах сумели кое-что увидеть. В Будапеште
ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Когда в 1941 году фашистские войска подошли к Москве, Сергею Николаевичу предложили эвакуироваться. Он категорически отказался, а своим родным сказал: «Война будет долгая. Мы победим, но не за один месяц или год. А ехать нам некуда и незачем». Они