2 НАЧАЛО
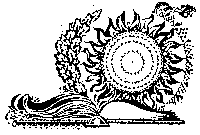
2
НАЧАЛО
Генерал Алексей Николаевич Куропаткин, по недомыслию и упрямству которого еще на сопках Маньчжурии полегла не одна тысяча русских мужиков, командуя в новой войне северным фронтом, уложил еще несколько дивизий, бросив их голой грудью на немецкие пулеметы и пушки, а затем был всемилостивейше направлен в Туркестан командовать здешним сугубо тыловым военным округом. Предполагалось, что генералу, годы которого близились к семидесяти, ныне обеспечена покойная старость. Судьба, однако, с завидным постоянством ухмылялась неудачнику в золотых эполетах, царское расположение к которому оставалось, впрочем, всегда неизменно. Именно Туркестан в 1916 году оказался самой «горячем точкой» внутри Российской империи.
Помимо пренебрежения здравым смыслом, отличался искони Алексей Николаевич еще и железной прямолинейностью. Она-то и понуждала русские полки наступать не в обход вражеских позиций, а штурмовать их в лоб, по открытому полю, где каждая сажень была тщательно пристреляна педантичными германскими артиллеристами. Ныне Куропаткин, неизменно верный себе, принял все такое же лежащее на поверхности решение: туземное население бунтует — следовательно, надо предпринять карательные меры.
Приказ применять оружие был отдай, но опять-таки, к чести русских солдат и офицеров, далеко не всегда он выполнялся буквально.
Против крупных же очагов восстания, прежде всего на Джизак, были брошены казачьи части.
Кулацкие сынки в заломленных фуражках точно так же, как на ивановских рабочих или на украинских селян, подняли нагайки на жителей Джизака.
Кое-кто обрадовался этой буре, и не в ставке Куропаткина, а в среде узбекской знати и духовенства. Много было положено усилий на то, чтобы возмущение направить против русских вообще. Но не вышло. Ценой жертв, как это нередко случается в многострадальной истории, народ уплатил за драгоценный опыт; самые темные и те пришли к пониманию извечной истины: все богачи — из единого племени. Позднейшие исследователи, и ученые и писатели, до сих пор постоянно обращающиеся к странице, которая в новой истории народа приметна столь же печально, как в российской — 9 января 1905 года, все более убедительно обосновывают главный вывод: восстание 1916 года было вызвано не самим фактом привлечения на тыловые работы туркестанцев, которым действительно не было никакого дела до войны, затеянной царем, а тем, с тупой откровенностью утвержденным в царском указе обстоятельством, что в далекие края отправляли, отрывали от семей только трудящихся, только неимущих.
«Выходит, бедняк Хамро должен бросать на произвол судьбы дом и детишек, а бай Турсунходжа будет по-прежнему булькать кальяном, возлежа на коврах?» — вот мысль, которая так или иначе повторялась десятками тысяч батраков и чайрикеров-издольщиков.
«Пускай толстопузые идут! Им от белого царя все блага и милости. Пусть сами и защищают его!» — в разных вариантах звучало над толпой в Коканде, Пскенте, в многострадальном Джизаке, в каждом селении.
Нет, ни мусульманским гапонам, ни более просвещенным джадидам, мечтающим о турецких объятиях, не удалось загрести жар чужими руками, поднять дехкан на газават — освященную исламом войну против неверных. У дехкан, которых грузили в скотские вагоны, чтоб увезти на запад, у отцов и жен, выплакавших глаза, сердца полнились ненавистью, но была она направлена не против мастерового, бредущего в замасленной робе, шатаясь от усталости, с завода, не против его иссохшей от забот жены и русоголовых босоногих детишек. Ненависть и гнев искали адрес: не сразу находили они его. Им и в этом помогали русские люди, те, кого называли большевиками.
Их было немного, но голоса их были слышны. Пыльный бедный поселок Каунчи, куда добралась после многих мытарств семья ферганского бедняка Юсуфали, не был исключением. Более того, здесь находился одни из немногих в Туркестане пролетарских очагов. Здесь был хлопкоочистительный завод московского промышленного и торгового товарищества «Владимир Алексеев», а рядом — маслозавод.
Ни архивы, ни память людская не сохранили сведении о подпольной большевистской ячейке в селении Каунчи, не сохранили имен рабочих, открывавших своим местным товарищам глаза, учивших их видеть правду, учивших, как говорил об этом В. И. Ленин, различать интересы тех или иных классов за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами.
Но известно, что сыскался просветитель для Усмана. Рассказывал об этом, и нередко, человек, не лишенный чувства зависти, хотя и предпочитавший всему в течение своей долгой жизни спокойное место каунчинского брадобрея. Любил он поведать при случае, что сам видел и слышал не раз, как один русский парень, («Лицо полноватое такое, борода чуть-чуть росла, сам на хлопкозаводе работал возле машины…») учил Усмана Юсупова читать.
— Да, да, — добавлял при этом парикмахер, — того самого Юсупова, который теперь в Ташкенте большой человек.
Он действительно мог видеть из растворенного окошка своей цирюльни, прилепившейся к боку одной из многочисленных чайхан на улице, которая вела от аптеки к вокзалу, как сидели по вечерам на балахане джугут-сарая (глиняная хибара с антресолью, не без восточной иронии прозванная «еврейский дворец») над книгой добродушный русский рабочий и грузчик Усман.
— Потом их больше собираться стало. Эгамберды Рахманов приходил, который при нэпе красную папку носить начал, и еще этот был, шорник с хлопкозавода, Турсун звали. Про революцию разговаривали. Мне все слышно было, потому что Усман и тогда был горячий, сразу кричать начинал. Особенно когда узнали, что царя уже нет. «Здесь тоже надо кончать!» — Усман кричал, а этот русский еще говорил: «Не спеши. До всех очередь дойдет».
Многое здесь от правды, увиденной по-своему, кое-что от не очень большого воображения человека, который, как многие, не прочь был погордиться мнимой близостью своей к личности незаурядной. Но сам факт неоспорим. Исход батрака Юсуфали из Каптархоны явился началом пути революционера Усмана Юсупова прежде всего потому, что привел он его к пролетариату и русским большевикам. Собственно, сам по себе исход был тоже шагом революционным. Надо помнить, что узбеки, под стать тем самым голубям, от которых пошло название кишлака, истово преданы насиженным местам в отличие от иных народов, населявших тот же Туркестан. А чего стоило отцу Юсупова порвать со своей общиной, верность которой ислам обязывает мусульманина хранить до самой смерти?.. Во всем этом нельзя не усмотреть уже не начало даже, а результаты глубинных процессов, которые совершались в узбекском обществе медленно, но неумолимо. Не только Юсуфали — узбекский народ пришел к пониманию того, что жить по-старому невыносимо, Но как мучительно медленно происходили бы перемены, каких жертв стоили бы они, не будь в крае русских большевиков. Они были немногочисленны, но подобны могучему катализатору, благодаря присутствию которого процесс преобразования общества принял не просто бурный, а поистине взрывной характер.
Усман, сын Юсуфа, таскал наверх, к бункеру ненасытной машины, хлопок. Таскал на шалче, на мешковине, которую клал на голую спину, чтоб не ободрать кожу. Ноги подкашивались, жилы на лбу вздувались от напряжения. Так же, как у всех грузчиков. Потом его перевели в цех, к грохочущей и трясущейся, словцо адская колесница, волокноотделительной машине. У нее и название-то было под стать характеру — джин[3]. Серая колючая пыль клубилась над джинами, разъедала глаза и глотку. Длинные серые космы свисали с закопченного потолка, с разбитых окон. Серыми лохмами увешаны были ветви на чахлых деревьях и телеграфные провода даже вдалеке от завода.
Тесное помещение было сплошь занято машинами. Людям места почти не оставалось. Они едва протискивались, между стеной и беснующимися шкивами в кромешной тьме; где-то вверху, подобно оку дьявола желтел единственный фонарь со вставленным в него огарком свечи. Оглушающе хлопали износившиеся, наспех починенные приводные ремни. Они нередко рвалось, и, если рядом, на свою беду, оказывался рабочий, дело кончалось худо.
В пятницу после полудня раздался нечеловеческий вопль, перекрывший шум машин.
Рабочие кинулись на крик.
— Куды? Куды подались, нечистые? Работать! — рявкнул механик.
Не кличка, приклеенная людьми за повадки и впрямь дикие, за свирепое рвение к хозяйскому делу, а доподлинная фамилия ему была Гробовой. На этот раз его не послушались. Все сгрудились в углу, где катался по каменному, залитому мазутом полу сорокалетний джинщик Дусмат. Он закрывал лицо руками. Сквозь заскорузлые пальцы просачивалась кровь. Красным был и клочок хлопка в зубах Дусмата. Он держал его во рту, как все рабочие: ненадежное, но единственное средство хоть как-то спастись от вездесущей пыли. Сейчас Дусмат зажал этот клочок зубами намертво.
Не без труда отняли рабочие ладони Дусмата от лица и увидели, как страшно изуродовано оно: конец лопнувшего ремня стегнул его наискосок, раскроив щеку и выбив глаз.
— На волю его выносите, живей! — командовал Гробовой, для которого (для рабочих, к несчастью, тоже) подобные происшествия были не в редкость.
Он самолично принес ведро воды и несколько раз кряду плеснул ею на несчастного Дусмата.
Не скоро явился фельдшер; рабочие сами, как уж смогли, замотали лицо Дусмата тряпками. Дыша сивухой, брезгливо морщась, фельдшер возился около Дусмата.
— Хозяева благочинные. Пузырек йоду не удосужатся хранить на заводе, — ворчал он не очень громко, потому что поодаль стоял появившийся, правда, по иному поводу управляющий алексеевскими предприятиями Анатолии Николаевич Сытин. Сохраняя, впрочем, достоинство, как человек, в отличие от Сытина разбирающийся в главном — в производстве, Гробовой давал начальству пояснения.
— Сам виноват, — заключил Гробовой. — Они же все такие дикие. Я давно говорил: нельзя их к машинам даже близко подпускать.
— Согласен с вами, Моисеи Антонович, дорогой, вполне согласен. Но вот, кстати, к сведению вашему. — Сытин, не без удовольствия щелкнув застежкой толстого портфеля из желтой кожи, достал хрустящую бумагу с грифом Сырдарьинского военного комитета. — Вот поглядите, — он ткнул пальцем в текст, — вновь нам отказано даже в самой малости — в отсрочке от призыва хотя бы для четверых. О Сараеве, о приемщике хлопка вашем, мы даже в Петербург, в Главный комитет прошение направили.
Гробовой снял картуз, потер широкой пятерней выступающий коленцем затылок.
— Без Аюпа Усмановича нам совсем хоть пропадай, — произнес он печально. — Только один он и может в толк взять, чего они, эти мусульмане, лопочут. Да и в сырце понимает, как никто другой.
Появился и Аюп Сараев, о котором только что шла речь; еще не старый, но с морщинистым красноватым лицом.
— Скажи им, что я жертвую на семью пострадавшего три червонца, — громко сообщил Сытин.
Рабочие все еще не отходили от Дусмата; он теперь сидел, горестно раскачивая из стороны в сторону забинтованную голову, в ожидании брички, которую фельдшер вызвал, чтобы отправить его в больницу. Пожилой рабочий, стоя на широко расставленных коротких ногах, обутых в стоптанные кауши, услышав о милости, явленной начальством, благодарно прижал пальцы к груди. Остальные зашумели, насели на Сараева с вопросами, а он, покраснев, сверкал сердитыми серыми глазами, отбивался от них, зло выбрасывая в такт словам пальцы вперед.
— Кончай митинг! — закричал он задребезжавшим голосом. — Я вам покажу!
Гробовой выхватил из нагрудного кармана карандашик с жестяным наконечником.
— А ну кто здесь есть? Всем до единого запишу нынче прогул. И штраф за простой машины. На место всем! Живо!
Поздно вечером все в том же джугут-сарае, беднейшей из каунчинских чайхан, сидели на вытертых пыльных паласах, вели разговоры все о том же, о Дусмате, о детях его.
Юсупов в разговоры старших не вторгался, знал завещанные прадедами законы, но грудь теснило и голова гудела от тяжкого, словно удушье, сознании: несправедливо устроен мир, что в Каптархоне, что здесь, и нет выхода, нет… Уж лучше бы не жить, не родиться вовсе.
Десятилетия спустя не любящий исповедей Юсупов рассказал все же доктору своему и личному другу профессору Каценовичу:
— Мне семнадцати лет не было, я вот так задыхался. Только не во сне, как теперь (профессор расспрашивал Юсупова о том, не просыпается ли он по ночам от удушья), а на самом деле. Возле машины стою, пыль в нос, в рот лезет — дышать нечем. На улицу выйду, пыли уже нет — то же самое. Зубами прямо скрипел. Мучился. Если бы не революция, наверно, или с ума сошел бы, или в тюрьму попал бы: убил бы кого-то — механика, управляющего, бая Шаякуба. Он, паразит, один раз моему отцу сказал: «Отдай мне девчонку свою. Я за нее дороже дам, чем твой бай в Каптархоне давал…» Отец смолчал, а я потом месяц спать не мог. Как глаза закрою, вижу: Шаякуб на коне, в руке нагайка, смеется, золотые зубы блестят. Довольный. И нет на него управы. Нет. Вот что самое страшное было…
Можно, разумеется, представить, как сложилась бы судьба Усмана Юсупова, не свершись вскоре Октябрьская революция. На ум приходят не столь уж исключительные варианты: бунтарь-одиночка, затем член подпольной большевистской ячейки, арест, ссылка, «Сибирский университет», возвращение на родину зрелым идейным борцом… Но нужно ли опираться на обобщения? Мы ведем речь о живой судьбе. Важно уяснить: Юсупов не примирился бы и не покорился бы. Его счастье, великое счастье его поколения в том, что в 1917 году свершилась социалистическая революция.
Воистину день новый пришел в Россию, и дальней окраины ее — Туркестана достиг не отблеск, а все тот же победный свет, возвещающий о великих переменах. Иное дело, что до окончательного торжества идеалов, провозглашенных революцией, было далеко и вел к ним путь отнюдь не торный. Революция призывала в свои ряды солдат. Одним из миллионов ее рядовых стал каунчинский грузчик Усман Юсупов.
Жаль, что ушли из жизни многие люди, которые были рядом с Юсуповым в 1917 году. И по-житейски жаль, а еще потому, что их воспоминания помогли бы детально восстановить те подробности из биографии Юсупова, которые относятся к поворотному моменту в его судьбе. Но хорошо известна биография незабываемого времени, события, которыми жило вместе с Узбекистаном и селение Каунчи, и хлопкозавод, и глиняный Персидский квартал, где в одной из слипшихся боками мазанок обитала семья Юсуфали. Сюда Усман приносил с завода вести одну необычней другой: в Ташкенте создан Совет. Рабочие лишили генерала Куропаткина власти! Вернулся из России, с тыловых работ, Шамирза Халмухамедов. Говорит, все мобилизованные возвращаются. Царя нет, а значит, указы его никакой силы теперь не имеют.
За жиденьким чаем в «еврейском дворце» чаще других стали повторяться слова: «касаба иттифоки» — профессиональный союз. Прибыл однажды, это случилось уже в августе, когда над Каунчи висела поднятая за день еще не остывшая пыль, странный городской парень, солдат не солдат, в английских ботинках с обмотками, в серой холщовой рубашке без ворота. Сказал, что он из центрального комитета «Хлопмасмола». Никто этого слова повторить за ним не смог, а смысл был понятен — профсоюз, в который входят рабочие, мастеровые и служащие хлопковых, маслобойных и мыловаренных предприятии Туркестана.
Парень говорил горячо и о таких вещах, что это сперва пугало неожиданностью, а потом захватывало дух: «Мы, трудящиеся, сами теперь хозяева заводов, земли, садов, воды…», «Требуйте от администрации тех условии труда, которые вы сами считаете хорошими. Требуйте, и никто не имеет права отказать вам, людям, стоящим у станков».
Все тот же Аюп Сараев, прежде он с рабочими за чаем не сиживал, а теперь появлялся что ни вечер, с вызовом закричал, широко раскрыв шелушащийся рот:
— Мандат покажи. Мандат у тебя имеется или нет? — Морщинистое лицо его с небольшим орлиным носом пылало.
Все притихли. Никто не знал, что это такое — мандат.
— Вот смотрите, — парень высоко поднял бумажку с фиолетовой печатью.
Сараев требовательно взял ее и долго изучал, сопя и хмыкая.
— Дай обратно, — парень отнял мандат и, не по-доброму прищурившись, сказал, в свою очередь: — Вы-то, гражданин, насколько нам известно, сами от эксплуататоров недалеко ушли. Сараев ваша фамилия? Так?
— Ну и что? — глупо возразил Сараев. Глаза его забегали.
— А то, что в Ташкенте жалобы на вас имеются, и не одна. Дехкан обманываете. Платите им за второй сорт, а хозяину сдаете первым. Теперь мы с этим покончим…
— Неправда это! — закричал Сараев, прижав к груди пальцы. — Мусульмане, скажите сами.
Они молчали. Что бы ни говорили о переменах, о том, что царя нет, но вот же: сидит на своем месте, как прежде, управляющий, и Сараев еще в силе…
То было первое выступление Усмана. Юлдаш Бабаджанов, друг его каунчинской юности, а впоследствии товарищ по партийной работе, запомнил этот случай благодаря обстоятельству, смешному на первый взгляд. Усман — он казался совсем невысоким еще из-за того, что был одет в сшитый матерью костюм из мешковины, — вскочил, опрокинув ведро, стоявшее у его ног. Вода подтекла как раз под Сараева, и тот тоже быстро поднялся, свирепо ругаясь.
— Я приведу пять, десять человек приведу. Я знаю. Здесь, в кишлаке Ниязбаш, живут. Жаловались на Сараева, прямо плакали даже, — горячо заговорил Усман, не замечая оживления, вызванного событием.
Сараев отряхивал воду с вельветовых рыжих штанов, заправленных в блестящие сапоги.
— Замолчи! — крикнул он Усману. — Добро бы — бедняк, так еще и бестолковый. Сам себе работы добавляешь, нищий.
Намекал он на то, что Усман по вечерам таскал в чайхану воду из хауза; за это он и отец его Юсуфали могли выпить бесплатно чайник чаю с лепешкой.
Парень, прибывший из Ташкента, поднял руки.
— А ну-ка тише! — велел он Сараеву. — Не смейте закрывать трудящимся рот. — Он обратился к Усману, который от волнения не находил нужных слов, спросил, как его фамилия, записал ее в свою тетрадь и сказал, что вскоре понадобятся его показания для комиссии.
Уже стемнело, когда этот человек, первый из увиденных Усманом товарищей из центра, пошел на станцию к ашхабадскому поезду. Две фигуры двигались вслед за ним; он так и не заметил их. Вскочил на подножку — поезд здесь, вблизи Ташкента, лишь замедлил ход — и уехал.
Усман и Юлдаш вернулись домой.
— Нажил я себе врага, — сказал Усман о Сараеве. — Теперь на мой джин он, собака, будет самый грязный сырец давать. — Подумал, растянул полные губы в улыбке. — А знаешь, как легко стало, когда сказал. Промолчал бы если, сдох бы ночью. Ей-богу…
Зимой объявили об учреждении рабочего контроля над Каунчинским хлопковым заводом. Приехал тот же товарищ из Ташкента. Он сам отыскал среди людей, заполнивших все ту же чайхану, лобастого большеротого юношу.
— Запишем в комиссию и вот этого товарища, Юсупова Усмана, — сказал он. — Возражений нет? Будем считать — принято.
— Воду для чая не забудь натаскать только, уртак Юсупов, — процедил сквозь зубы Сараев. Сидел он позади.
Усман ничего не ответил.
Ночью, когда ворочался на жесткой циновке, ежась от холода и непрошедшей обиды (спал у двери, а под нее поддувало с улицы, где шел надоедливый декабрьский дождь), сообразил: можно было сказать Сараеву, что заодно, мол, я еще и о лопате не забуду, чтоб золото вырыть, награбленное тобой у дехкан.
В ту же комиссию вошел и еще один друг Усмана — Фридрих Ярош, пленный австрийский солдат, худощавый, с чистым задумчивым лицом, окаймленным темной бородкой. На родине у себя Ярош был литейщиком, здесь в его специальности нужды не было, но он быстро освоил немудрую технику и научился быстро ремонтировать джины и линтера, которые то и дело выходили из строя. Механики были призваны в армию, и потому Ярошу на заводе цены не было. Перед ним бывало, даже заискивал тот же Гробовой или Сараев. Прощалось ему скрепя сердце и то, что якшался он с чернорабочими, с самыми что ни на есть темными. Аюп Сараев, поджимая губы, от чего лицо его становилось брезгливо-старческим, диву, бывало, давался, наблюдая, как Ярош, что ни перерыв, сидит за чаем с лепешкой вместе с Усманкой из джинного цеха. Не может австриец найти компанию поблагородней. Европа называется… Несомненно, еще более удивлен был бы уроженец саратовских степей Аюп Сараев, приехавший в Туркестан за длинным рублем и, кстати, не ошибшийся в этом, если бы узнал, что рассказывает Ярош Усману о Карле Марксе, о котором сам Сараев представление имел весьма смутное, числя его в одном ряду с князем-бунтовщиком Кропоткиным и вольнодумцем Габдуллой Тукаем.
Было бы наивно, да и неуважительно по отношению к нашему герою утверждать, что в восемнадцать лет он, едва умевший расписываться, усвоил, да еще со слов не бог весть какого пропагандиста, хотя бы азы из Марксова учения. Но что он понял — это важнейшую для него тогда истину: были и есть на свете очень умные люди, которые учат рабочих, как бороться за свое освобождение. И еще одно, что он усвоил, по его собственному признанию, уже тогда, единожды и на всю жизнь: суть великого лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
— Мне прямо жить захотелось, когда понял: Ярош, австриец, — мой брат. Пашка, который читать учил, — тоже брат; все, у кого только руки есть, а в кармане пусто, — братья. Значит, сила у нас какая во всем мире, подумал тогда. Горы свернем! — Это из неожиданного разговора по пути из Москвы с Пленума ЦК с ближайшим сподвижником и помощником своим Владимиром Ивановичем Поповым.
От Павла и от того же Яроша узнал он впервые и о партия, и о вожде ее.
— Темный был я, темнее, чем ночь, а сообразил, честное слово, сообразил, что Ленин, партия как на командном пункте, а революцию делают простые люди повсюду: у нас, в Каунчи, тоже. Каждый должен воевать как солдат на фронте. Увидел перед собой врага — бей!
Мавлян Гафарович Вахабов, нынешний директор Ташкентской высшей партийной школы, много лет работавший в отделе пропаганды ЦК КП Узбекистана, ученый, отлично знающий теорию, не единожды удивлялся не всегда точным, но удивительно цепко хранившимся в памяти Юсупова мыслям и высказываниям классиков. Нередко просил он, к примеру:
— Найди, где именно у Маркса говорится об ирригации в широком смысле.
Мавлян Гафарович находил:
— «Судьба Востока зависит от искусства орошения».
— Есть еще и конкретное. О плотине что-то.
И в статье Маркса об Индии Вахабов впрямь отыскивал место, где говорилось, что достоинство плотины в том, что ее можно использовать двояко, как мост — тоже.
Юсупову не довелось участвовать в военных сражениях с контрреволюцией. Для него буквально школой коммунизма стали профсоюзы. В то время это был передний край революционного фронта: непосредственное столкновение рабочих с хозяевами, эксплуатируемых — с эксплуататорами.
Чтобы понять это, надо принять во внимание, что в Туркестане 1917–1924 годов обстановка существенно отличалась от петроградской, где утром 26 октября трамваи, как справедливо заметил поэт, «катили уже при социализме». И действительно: там бывшие хозяева едва ли не мгновенно утратили власть и силу, которую давали им деньги и частная собственность, отмененная революцией. Вся власть перешла к Советам. В Туркестане же по понятным причинам — сюда следует отнести и географическую оторванность от центра, а главное — засилье феодально-религиозного влияния — процесс этот совершался гораздо медленной. Не случайно все изложения, касающиеся истории революции в Узбекистане, — и строго научные, и популярные, и художественные, — полны замечании такого рода: «28 ноября взял власть в свои руки Кокандский новогородский Совет, однако на территории старой части города буржуазно-националистические элементы создали так называемую Кокандскую автономию».
«В целом ряде сельских районов Ферганской долины советизация завершилась только в период гражданской войны в упорной борьбе с басмачеством».
Наивно было бы ожидать, что народ, в большинстве неграмотный, приученный с деда, прадеда принимать на веру предписания ислама, мгновенно откажется от них и пойдет за большевиками. Но была среди тех же узбеков часть, сразу же почувствовавшая, что правда на стороне русских большевиков; эти люди решили окончательно и твердо: «Моя революция!»
Что здесь сыграло главную роль? То, что были это преимущественно угнетеннейшие из угнетенных, те, кто давно изверился во всех и вся и с чистой надеждой неофитов принял лозунги, подкрепленные делами и поступками новой власти, свидетельствующие весьма убедительно, что это наконец-то власть подлинно народная.
Через много лет в разговоре с шофером Аркадием Шепиловым, о котором главная речь впереди, он скажет, провожая его на фронт:
— Ты, молодой, значит, само собой — счастливый. Как родился, все тебе ясно: пионерия, комсомол, партия. Строим коммунизм — тоже понятно, пускай пока не очень, подучишься — поймешь на все сто. А как нам было? Только революция случилась, прибегают эсеры, меньшевики, джадиды… Один кричат: «Богатый тоже может быть за рабочих!», другие: «Сперва надо германцев побить, потом революцию делать», третьи: «Наши братья — турки. Только с ними вместе надо идти»… Голова пухнет, честное слово; сам ты вроде бы как тонешь, сил нет, готов за каждую руку ухватиться, только бы вытащили. И вот сколько к тебе сразу протянуто! Но попробуй разберись… Я взял руку большевиков. Почему, спросишь? Не догадываешься, а все очень просто: мозоли на ней, как у меня самого были. Рука трудового товарища. Такая не подведет. Ну а если по-другому говорить — почувствовал я, — хлопал он себя по левому карману френча, где всегда носил партийный билет, — что на их стороне правда. В Ленина поверил сразу, за Лениным пошел…
Удивляла многих, а впоследствии принималась как должное способность Юсупова безбоязненно принимать окончательные решения.
Бывали они, как показала жизнь, иногда не самыми лучшими, но и тут следует правды ради оговориться — может быть, потому, что неизвестно, к чему привел бы отвергнутый Юсуповым путь. То был талант врожденного организатора, умеющего предвидеть будущее. Сразу и бесповоротно пошел он за большевиками. Вслед таким, как восемнадцатилетний Усман Юсупов, кидали камни и посылали пули. Благоразумные соседи уговаривали их отступиться. Муллы грозили адскими муками. Как отвечал на это Юсупов? Сопоставим факты общественные и личные. В этом ответ.
Летом 1918 года председатель СНК Туркестанской республики В. И. Колесов вынужден был послать В. И. Ленину телеграмму следующего содержания: «Туркестанская республика во враждебных тисках. Фронты: Оренбург — Ашхабад — Верный… В момент смертельной опасности жаждем слышать ваш голос. Ждем поддержки деньгами, снарядами, оружием и войсками…» В зале, где заседал осенью того же года VI Чрезвычайный съезд Советов Туркестана, треть делегатских мест была занята левыми эсерами. А в ночь с 18 на 19 января 1919 года в Ташкенте вспыхнул военный мятеж. Возглавил его недавний прапорщик Осипов, назначенный на упомянутом съезде Советов военным комиссаром Туркреспублики. По нынешним меркам — мальчишка, действовал он в своем неблаговидном кровавом деле с присущей возрасту бездумной жестокостью и чудовищным легкомыслием. Последнее, как это случается нередко, и ввело в заблуждение взрослых, серьезных людей. Никто из четырнадцати ташкентских комиссаров не усомнился в том, что в поздний час на территории военной крепости назначено экстренное совещание. Они вошли в сумрачный двор, окруженный унылыми двухэтажными казармами с редкими голыми и мокрыми деревьями у окон, и никто не заподозрил (да и невозможно было!), что пулеметы, стоявшие на пышках, уже повернуты по приказу Осипова внутрь, а в подземных казематах ожидают палачи с раскрасневшимися от спирта бравыми казачьими физиономиями.
Все было задумано наподобие дурных сочиненьиц любимого Осиповым Брешко-Брешковского.
В больной голове бывшего прапорщика витали планы о Туркестанском государстве под эгидой Англии и во главе, разумеется, с ним, Осиповым. Но заговор был обречен исторически. У него не было и не могло быть опоры в крае. Свершив свое черное дело, Осипов с полусотней люто проклинающих его казаков сбежал в горы, а потом — за рубеж, где и окончил бесславно дни свои.
Мятеж был подавлен в течение нескольких суток, и как тут не упомянуть, что против контрреволюции единым фронтом выступили и русский пролетариат, и трудящиеся Старого города. Узбекскими дружинами руководили первые местные большевики: П. Ходжаев, М. Миршарапов, И. Бабаджанов, С. Касымходжаев. Трудовой народ Узбекистана вновь доказал, что идет за большевиками. Б эти ряды встал и один из тысяч, рабочий каунчинского хлопкозавода Усман Юсупов.
В те дни, когда эхо выстрелов, раздававшихся на улицах Ташкента, достигало и селения Каунчи, Юсупов, один из самых первых на заводе, вступил в профсоюз — поступок по тем временам героический. В 1919–1921 годах в Зангиатинском уезде Сырдарьинской области было совершено 426 покушении на жизнь рабочих, «продавшихся неверным» — так назывался на языке врагов любой, вступивший в партию или профсоюз.
Сергей Константинович Емцов, видный партийный работник, большой личный друг Юсупова, вспоминает:
— Первое поручение у меня такое было: следить, чтобы смена была не больше девяти часов. Не восемь, а девять, но и то слава богу! До революции по двенадцать стояли и молчали.
Я, значит, и говорю рабочим: «Уходите», а мастеру: «Вот решение профкома». Ну, он скандалить, конечно; я не отступаю, а рабочие некоторые боятся. Тогда я — за рычаг и останавливаю джины: «Пошли!»
Домой иду, только в тупик свернул, трое стоят. Уже темновато, кто — не пойму. Я тогда молодой был, решительный. Ну, думаю, ждать разговоров не надо. У меня палка была, я в нее нож воткнул, как пика получается. «Подходите по одному», — говорю, они — в сторону. Только я прошел, как засвистят камни. Один в плечо попал. Правда, чуть задел.
Потом еще такие же случал были. Я привык постепенно. Все привыкли.
Что делать оставалось, а?
Сохранился и документ, акт об обследовании хлопкоочистительного завода в селении Каунчи, составленный год спустя комиссией рабоче-крестьянской инспекции за № 12350. Свидетельствует он, впрочем, уже о другом качестве — настойчивости, не менее, чем мужество, необходимой человеку, вступившему на путь революции. В акте этом, копии которого направлены Совнаркому и ВСНХ, отмечаются отступления от норм охраны труда и техники безопасности на Каунчинском заводе и предлагается Турктекстилю принять экстренные меры для устранения недостатков и упущений, в частности, срочно обеспечить завод приводными ремнями и сшивками (вспомните несчастного, искалеченного Дусмата…), а также оборудовать вентиляцию в цехах. Документ подписан заместителем наркома РКИ и заведующим технопромышленным отделом.
Были эти ответственные работники отнюдь не какими-то бюрократами, а попросту были они засыпаны ворохом дел, писем, жалоб, летевших со всех предприятий молодой республики от организаций и от рабочих, впервые осознавших за собой права. Каждый требовал немедленно положительного ответа и точно так же — срочного удовлетворения производственных нужд. А в аппарате РКИ сотрудничало два десятка человек, имелся одни телефон и одна повозка на лопнувших рессорах. Сверхусилия потребовались от девятнадцатилетнего парня из Каунчи, который в каждый свой выходной день упорно отправлялся в Ташкент.
В поезде, признавался позже, умудрялся проехать бесплатно, а в трамвае не удавалось: кондуктора в Ташкенте были бдительны. Шел от вокзала до торгового дома на углу Соборной — там помещался Дворец труда — пешком, хлюпая разбухшими чунями по выбитым тротуарам. Но главное — терпение требовалось, когда сидел часами в узкой приемной, где висели плакаты, из смысла которых улавливал только, где буржуи, где рабочие, да таблички с запрещением курить. Он в ту пору изредка употреблял едкий нюхательный табак, который кладут под язык. Судя по тому, что многие товарищи, как зеницу ока берегущие свою очередь, тоже то и дело закладывали изрядную порцию под язык, чтоб легче переносилось ожидание, на этот самый «нас» запрет не распространялся.
Бывало, он уходил, не дождавшись нужного товарища, потому что заседания все не кончались, а надо было поспеть к последнему поезду: утром в цех, как всем. Тогда особенно проникся Юсупов неприязнью к ожиданию в приемных. В своей он впоследствии не терпел очередей из чинно сидящих, тоскующих, неодобрительно поглядывающих друг на друга людей. Требовал от помощников, чтобы каждому посетителю по записи назначили время с точностью до минуты. Не явился — пеняй на себя.
Юсупов выдержал все тяготы, добился приема и сказал, что рабочие ждут инспекцию.
Наступал декабрь. От товарища, который принял Юсупова, требовали годовую отчетность; голова у него пухла от забот, но он все же улыбнулся, глядя на непреклонного парня из Каунчи.
— Приедем непременно, — сказал он.
— Когда? — спросил тот и объяснил: — Я же должен точно сказать рабочим. — Он сделал упор на последнем слове.
— В начале месяцу, — сказал товарищ.
Он сдержал слово. Юсупов был счастлив, хотя в то время, когда комиссия ходила по заводу, пояснения давали старшие, а он молчал и держался позади, как и положено на Востоке. Но так уж устроена жизнь коллектива: помнится накрепко и хорошее и худое, — вместе складывается то, что называется репутацией. Юсупов не забыл, конечно, о своих хлопотах по поводу комиссии, но числил это поручение в ряду других, похожих и непохожих. Когда же его вместе с сестрой Назирой принимали в кандидаты партии, то больше всего на собрании говорили, что он, Юсупов, за рабочий класс болеет, и приводили этот пример с комиссией: «Не ради себя, ради общества старался». Кто-то вспомнил даже: «Один раз в Ташкент за комиссией ездил, промок, болел даже». — «Наш парень, — сказали, — за трудовой народ душу отдаст».
О себе он не думал, что действительно такой. Решил быть таким. Ильич завещал это. В партию вступали они с Назирой по знаменитому ленинскому призыву, в 1924 году.
В начале 1925 года шесть профсоюзных активистов и среди них Юсупов направились из Каунчи в Ташкент. Выехали ночью, чтоб поспеть раньше других на площадь Иски-Джува, где перед народом должен был выступить Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин. Михаил Иванович Калинин прибыл в Ташкент для участия в работе Учредительного съезда Советов Узбекской ССР и I съезда Компартии Узбекистана. До рассвета сидели в чайхане на Чорсу, около самого старого и обширного ташкентского базара. Чайхана стояла на глинистом, размытом дождями высоком берегу Бозсу. В холодном влажном воздухе были слышны самые отдаленные звуки, и Юсупов тормошил товарищей: кажется, там уже собираются…
На площади, когда они пришли туда, действительно уже был народ. Но они все-таки оказались в первых рядах. Ждать пришлось очень долго. Теперь за ними волновалось и шумело людское море. Все смотрели не отрываясь на небольшое сооружение — дощатую трибуну, обтянутую красным сатином. Над ней висели портреты Ленина и Маркса, а между ними был протянут лозунг, написанный арабской вязью. Он призывал трудящихся мусульман к строительству новой жизни плечом к плечу со всеми народами бывшей царской России.
Сохранились снимки, сделанные на митинге: дотошные исследователи находят на них и Юсупова. Трудно все же сказать определенно, он ли это; их сотни, в одинаковых тюбетейках — внимательных, доверчивых и надеющихся. Эксперт, задавшийся благородной целью, возможно, установил бы неопровержимо, что этот вот, сорок седьмой в пятом ряду, в халате, особенно широко распахнутом на груди, и есть Усман Юсупов в возрасте двадцати пяти лет. Важней иное: любой из тех, кто, подчинившись одному лишь велению сердца, пришел в то еще очень хмурое утро на Иски-Джува, мог оказаться Юсуповым, и он тоже был каждым из них: сын народа, внешне неотделимый от него. Ни тогда, ни позже.
Но все же о том, какое впечатление произвел на него Калинин, вспоминал много лет спустя, уже будучи первым секретарем ЦК Компартии республики, в машине, когда возвращались с закладки памятника М. И. Калинину на Иски-Джува (кто посетует теперь на шофера Шапкина за то, что он, как и Шепилов, внимательно прислушивался к тому, что мог к случаю, по ходу ли разговора обронить Юсупов!):
— Вот честное слово, что Калинин человек такой, как мы все, даже ничуть не верил. Увидел: он на трибуну вышел, маленький, только шапка на голове высокая, бородка. Ну, как наш аксакал прямо! Слышу, разговаривает. Каждое слово — мне, одному. А народу, между прочим, тысяч десять, и все так, как я, думали: Калинин с ним лично разговаривает. Все, про что хотел услышать, услышал: «Каждый народ имеет свободу… Мы сверху ничего не навязываем».
Для многих из нас, кто пришел тогда на площадь, он открыл глаза, что мы, бедняки, участвуем в управлении государством, а это государство — Узбекская республика — входит в состав Союза республик.
Самое простое слово у него золотом стало.
Домой пошли, я все думал: «А если бы самого Ленина услышать!»
Вера уже поселилась в его душе давно, с первого года революции. Сейчас она разгорелась, стала святыней. И люди видели это, избрав Усмана Юсупова председателем своего союза рабочих строителей Пригородного района Ташкента. А вскоре он возглавил окружной комитет Союза строителей и переехал в Ташкент. Об этом периоде его жизни сохранились воспоминания товарищей, работавших имеете с ним. Секретарем окружкома был Георгий Анисифорович Хорст, впрочем, тогда — почти полвека прошло! — просто Гоша Хорст, студент мелиоративного факультета, еще не так давно бегавший на лекции без ботинок за неимением таковых (кстати, и доцент Жарков стоял за кафедрой босой, ничуть не смущаясь). Размещался комитет в одном из многочисленных прилепленных друг к другу сырцовых строений на Ленинградской улице, занимаемых профсоюзами. Под железной лестницей была устроена комната с круто восходящим наверх потолком. Ее разделили надвое. В первой сидел над канцелярскими книгами Хорст. Во второй половине — Юсупов и его заместитель Чимбуров.
Для того чтобы представить, какая честь была оказана Юсупову избранием на эту должность, напомним, что профсоюз строителей явился первой в истории узбекского народа общественной организацией. Людей, которые возглавляли его в 1917 году, — Ачила Бабаджанова и Султанходжу Касымходжаева — с полным основанием называют первыми узбекскими революционерами. Юсупову, который был моложе, суждено было в известном, смысле продолжить деятельность, ведущую к перевороту общества.
В протоколах тех лет, подписанных уже весьма уверенным юсуповским росчерком, сохранился перечень вопросов, которыми занимался профсоюз. В них отразилась эпоха. Тут поднятие трудовой дисциплины, рабочее снабжение, помощь голодающему населению, добровольное отчисление белья для выздоравливающих в больницах; заготовка дров, мобилизация служащих на различные мероприятия; тарифно-нормировочные дела; порядок премирования; составление списков для получения мануфактуры; перепись беспризорных детей — для оказания помощи, работа районных просветительных комиссий; санитарное дело; выборы инспекторов труда; получение пайков, товарищеские и дисциплинарные суды; отпуска; труд несовершеннолетних; вечера вопросов и ответов; шефская помощь Красной Армии, Воздухофлоту; солидарность с мировым пролетариатом; физкультура, жилкооператив, субботники, агитбригады, Автодор, Освод, Осоавиахим…
Уйма дел, забот, попросту неслыханных слов и понятий обрушилась на Усмана Юсупова.
Он обращался к Чимбурову, с которым сидели лицом к лицу, — столы были сдвинуты, — или к тому же Хорсту за разъяснением терминов или аббревиатур, которые были в большой моде, а чаще за советом: «Как, думаешь, сделать надо, чтоб лучше было?» Откровенно, не таясь: «Я в этом тарифно-нормировочном деле не очень понимаю. Давай вечером вместе сядем, разбираться будем, потом на окружном выносить. Так, что ли?»
И не ронял из-за этого авторитета, а рос.
Любому делу отдавал себя целиком. Ранней весной 1927 года на строительстве канала Джун возник производственный конфликт между администрацией и зимогорами-мастеровыми. Было их тысячи три, не меньше, прибывших главным образом с Волги из голодных деревень. По-житейски понять их было нетрудно: ехали за скорыми заработками, а тут работу свернули (возникли неожиданные затруднения с прокладкой трассы по карте) и говорят — ждите. По переписке судя, выходило: правы и руководители стройки, и рабочие. Юсупов решил, надо ехать на место. Отправился сам, верхом в дождь. Промок и продрог до мозга костей. Не спал сутки, разбирался. Разъяснял рабочим: «Профсоюзы не для того, чтобы брать за горло администрацию. Она у нас не чужая — своя, пролетарская. И деньги общенародные, не из хозяйской мошны. Вам нынче дай лишнее, другой без зарплаты останется». Но нашли решение: начать работы хотя бы на одном участке (впервые произнес тогда Юсупов: «Всю ответственность беру на себя») и выдали зимогорам аванс.
Сидя в комнате под лестницей Дворца труда, глотал аспирин — его лихорадило от простуды, — сипел, но был доволен: «Сила мы, профсоюзы. Сила!»
С хозяевами шла борьба насмерть. Был разгар нэпа. В Узбекистане новоявленным предпринимателям было легче найти способ для отмененной революцией эксплуатации труда. У Юлдашбаева в артели штукатуров дюжина рабочих. Все родственники, как ни проверяй: «Первой жены (ее аллах давно взял) пятой сестры племянник. Один остался. Я его в свою семью взял. Зачем ему зарплата? Зачем какой-то отпуск? Он же как сын мне одинаково теперь. Скажи, Рахимджан?» Находили способ, чтоб Рахимджан разговорился откровенно, и призывали к ответу Юлдашбаева за то, что заставляет пария работать по 14 часов в сутки.
Нэп в Юсупове, не очень твердом тогда в теории, будил мучительные сомнения. Правда, в вере своей был незыблем: «Сам товарищ Ленин сказал, так надо. Скоро кончится это. Увидите».
В мае 1928 года поехал впервые в жизни в Москву, на Всесоюзный съезд строителей, как член узбекской делегации. Был поражен огромным, каменным, оглушающим городом и роскошью нуворишей, не скрытой, как в Азии, а демонстративно показной: с полусотенными кредитками, заталкиваемыми официанту за галстук, собольими палантинами на алебастровых женских плечах, с волосатыми пальцами, унизанными перстнями.
Но на съезде во всю ширину зала висели плакаты: «Из России нэповской будет Россия социалистическая!» и «Даешь пятилетку!» Он знал: это не просто лозунги, а программа, и она будет осуществлена как продолжение революции.
Вышел он после заседания в Охотный ряд вместе с Котловым из архангельской делегации, окающим пятидесятилетним плотником; в морщины на лице Котлова навеки въелась соль: двадцать лет ставил опалубку из горбылей на Сольвычегодских копях. Вечер, влажно пахнущий цветущей акацией, был погожим и красивым. Вверх, к «Метрополю», неслись пролетки с фонарями и автомобили. Ярко светились торгующие допоздна лавки и магазины с названиями фирм и фамилиями владельцев. В облаке коньячных паров и духов вышла из вращающейся двери ресторана компания: несколько мужчин в безупречно отглаженных белых костюмах и возбужденные пухлые женщины в бархате.
— Посторонись, пожалуйста, дорогой, — с южным акцептом сказал белоснежный мужчина, провожая под локоть свою даму к экипажу.
Котлов назло встал как столб, загородив дорогу: женщина коснулась его и поморщилась. Ее кавалер хотел сказать что-то резкое, под стать случаю, но увидел глаза Котлова в глубоких, как ямы, впадинах и произнес, хмыкнув все же:
— Очень извиняемся, гражданин пролетарий. Не обижайтесь, пожалуйста, что мы на вас немножечко подышали. Это, клянусь честью, отлично выдержанный коньяк. Компания заржала, Котлов задержал веселого человека за фалду.
— Два слова на прощанье, — сказал он. — Ты не на меня, на ладан ты уже дышишь, нэпманская зараза. Понял?
Уже в гостинице он объяснил Усману, что такое «дышать на ладан».
— Хорошо ты сказал, друг, честное слово! — обрадовался Усман. Ему очень хотелось сказать Котлову, что и у узбеков есть похожее выражение: «Мотылек гордится тем, что он красивый, а жить-то ему только до заката». Но он еще не знал русского слова «мотылек», а «бабочка» казалось неточным и не очень приличным.
Двенадцать лет спустя вспомнил об этом за столом, как о забавном. Говорили о том, как известная артистка, — она с мужем в тот день обедала у Юсуповых — спела в концерте арию Баттерфляй, и кто-то заметил, что «баттерфляй» в переводе «бабочка».
— А мотылек что такое? — спросил Юсупов.
— Тоже бабочка, только небольшая.
— А я думал, наоборот: мотылек и бабочка, как баран и овца, — Юсупов рассмеялся первым и рассказал о том майском вечере в Москве на закате нэпа.
Тогда, едва ли не сразу же после возвращения со съезда, Юсупову предложили первую в его биографии партийную должность: заведующего организационным отделом Ташкентского окружкома большевистской партии. Он отказывался очень искренне, ссылался — и это была правда, — что не очень подготовлен теоретически, вот, спасибо, в Москве, на съезде, многие моменты стали понятны — по поводу политики внешней и внутренней тоже, но все-таки знаний не хватает.
Тут его перебили и сказали, что для этой самой внутренней политики и приглашают на партийную работу его, бывшего батрака и пролетария Усмана Юсупова. Ему и таким, как он, предстоит окончательно победить нэп, завершить революцию на экономическом фронте. Для этого нужны кадры, а уж он-то доказал, что умеет разбираться в людях, с ходу определить, кто наш, кто чужой. Это одно, а второе — необходимо, конечно, создать партийные ячейки в каждом кишлаке, на каждом предприятии. Вот из этих отрядов и составляется армия строителей социализма. И опять же при этом нужно классовое чутье. «То, что у тебя, товарищ Юсупов, имеется, мы убедились. Это — талант! А теорию, время придет, освоишь».
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
НАЧАЛО
НАЧАЛО Я на юге, сижу в беседке. Надо мной кисти винограда. А где-то впереди, рядом с гранатовым деревцем, хрупкая и трепетная ленкоранская акация. Я все жду, что на ней появятся розовые цветы с тонким ароматом, который меня почему-то волнует. Но деревце молодое, цветов пока
— Начало -
— Начало - Сегодня я опять возвращаюсь в те уже далекие, тбилисские дни — они были, они остались во мне навсегда, как бы далеко ни завела меня моя дорога. Это было для меня началом новой жизни, началом пути. Каждый день тогда передо мной все более раскрывался древний
Булочник. Начало конца — или начало
Булочник. Начало конца — или начало И вот, что начертано: «Мене мене, тепел, упарсин», где мене — исчислил Бог царство твоё, и положил ему конец; Тепел — ты взвешен на весах, и найден очень лёгким; перес — разделено царство твое, и дано Мидянам и Персам. (Считать, взвешивать,
НАЧАЛО
НАЧАЛО Погиб Разин. Кончалась великая Крестьянская война в России. Еще держались Самара, Саратов, Царицын, Астрахань, но ползли уже вдоль Волги государевы полки, шел на Астрахань лютый воевода Одоевский: еще отбивались в тамбовских и шацких лесах от Бутурлина местные
Начало
Начало Меня не покидает ощущение, что в памяти запечатлеваются события, происходившие задолго до того момента, когда у человеческого существа пробуждается сознание. Наверное, эти кажущиеся живыми образы сложились позднее из зафиксированных клеточками мозга, но
Начало и конец чтения – начало и конец романа
Начало и конец чтения – начало и конец романа Если я не ошибаюсь, дело было весенним утром 1979 года. Солнце заливало спальню, в которой стояла кровать, покрытая сиреневым бархатным покрывалом. На ней я разложил сорок семь листов бумаги. На каждом было написано одно из
НАЧАЛО
НАЧАЛО Если бы я писал книгу "Кино в моей жизни", то многосерийный фильм о мушкетерах, где я сам сыграл роль графа де ля Фер, в ряду выдающихся изделий искусства назван бы не был. Я бы смаковал впечатления кинолюбителя по другим адресам. Статистика успеха «Мушкетеров»
Начало
Начало Мы, актеры Московского театра имени Революции, были на гастролях в Кисловодске… При встрече с Кавказом я тоже испытал сильнейшее и даже необыкновенное чувство и не могу о нем не рассказать.Театр поехал сначала в Сочи. Было это в конце апреля 1941 года. Душа моя в тот
Начало номенклатурного беспредела — начало конца
Начало номенклатурного беспредела — начало конца «Теперь не каторга и ссылка, Куда раз в год одна посылка, А сохраняемая дача, В энциклопедии — столбцы, И можно, о судьбе судача, Выращивать хоть огурцы». Борис Слуцкий «Раскаявшегося» К. Е. Ворошилова, старейшего члена
Начало
Начало Поискав в наших головах насекомых и поставив диагноз — педикулез, меня и сотоварищей отправили в Гусь-Хрустальный — красивый русский старинный город — город подпольного хрусталя.В каждом новом детском учреждении всех и всегда почему-то интересовала моя фамилия.
3. Начало
3. Начало Почти во всех делах самое трудное — начало. Жан Жак Руссо В 3 часа дня 23 августа 1991 года, в пятницу, я вошел в новое серое здание КГБ на Лубянской площади. В приемной меня уже ожидали члены Коллегии КГБ СССР — заместители Крючкова, руководители основных управлений.
Начало
Начало Погожим октябрьским днем сорок третьего года группа молодых лейтенантов-летчиков прибыла в Москву для получения направления на фронт. За плечами у всех — Грозненское объединенное военное авиационное училище и... никакого боевого опыта. В штабе Военно-воздушных
Начало…
Начало… Как найти начало начал, не обращаясь к сотворению мира? Но если ограничиться более скромной задачей и отправиться на поиски начала нашей эры, нельзя обойти воспоминания Владимира Дмитриевича Набокова. Он начал их писать 21 апреля 1918 г. ровно год спустя после
Начало
Начало «Доманту Россия обязана целостью своих исконных западных границ и сохранением всей северо-западной ее части. Славные его победы и постройка каменной крепости по западным образцам поддерживали внешнюю неприкосновенность Псковского княжества». Василев И.И.
1. Начало
1. Начало Многих неприкаянных, вроде нас, вытесняли и преследовали, доводили до поражения, словно персонажей из древнегреческих трагедий; но, должно быть, удача не покидала нас, ведь как-то нам удалось выжить… Ричард Райт, предисловие к книге «Черная столица» Жизнь