ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Мы ехали в Москву из Тбилиси в начале января 1942 года: Ираклий Абашидзе и Алио Марцхулава — на первое за время войны заседание президиума Союза писателей СССР. Михаил Светлов и я — в распоряжение Главного политического управления Красной Армии для назначения в армейские газеты. Движение через Ростов восстановлено еще не было, и поезд шел на Сталинград, Ворисоглебск и Михайлов. Вагон скрипел от морозов и старости, в дальнем купе кто-то уныло тянул на баяне: «Любимый город может спать спокойно…» Пассажиры занимались игрой в домино или спали. Наконец, приближаясь к Москве, мы вошли в зону, недавно освобожденную, и, не отрываясь от окон, глядели на следы поспешного пожарища. К станции поезд подошел медленно, и так же медленно в белом полусвете зимнего дня скользнуло кирпичное здание станции без крыши, с черными проемами окон и закопченными буквами на фасаде — «Серебряные пруды».
Абашидзе вздохнул:
— Какое название прекрасное. Как поэтичен этот народ. И что они сделали!..
Миновав платформу, вагон наш остановился на пустыре: невдалеке торчали остатки сожженной деревни, прямо перед окном валялся искореженный бомбардировщик со свастикой. Рядом дети катались на санках с крохотной ледяной горки. Какой-то маленький, закутанный в мамкин платок, ударял железным предметом по самолету.
— Ты погляди на него! — восхитился Ираклий. — Хочет разобрать все — до последнего винтика!
Поезд тронулся. Сбитый самолет, снежная горка, дети сдвинулись влево и в прошлое.
Абашидзе ушел к себе. Через два часа снова появился в дверях:
— Хочешь, прочту?
Не буду цитировать первый вариант этих двенадцати строк. В них были и сожженная деревня, и стервятник со свастикой, а в конце — неожиданный поворот, переосмысливший всю картину: «И ребенок, у которого они отняли детство, со слезами ударял по холодному железу самолета крошечным кулаком, словно хотел отомстить».
Умение увидеть в движении жизни сложный «сюжет», при этом увидеть то, что прошло мимо внимания других, способность сочетать емкость и краткость, поразить неожиданным ходом — это свойственно Ираклию Абашидзе смолоду.
И еще помню: лето 1942 года, когда черная краска, заливая карту нашей страны, текла на Кавказ и наши войска встали насмерть в ущельях. Ираклий, находившийся тогда в Нальчике, написал стихотворение — всего двадцать строк: «Капитан Бухаидзе», в котором голос убитого обращался из могилы к живым со словами, что если бы он, Бухаидзе, мог воскреснуть из мертвых, то снова умер бы, защищая родную землю. И он, павший грузин, завещал спасенье отчизны живым. Мне потом пришлось слышать это стихотворное завещание — под бренчание пандури какая-то женщина пела песню на эти слова в поезде, шедшем из Тбилиси в Батуми. А в другой раз, уже на другой мотив, эти стихи «сказывал» дряхлый старик. Стихотворение стало не песней народной, а народными песнями — так естественно отвечали его обороты, его содержание состоянию душ целой нации, так легко ложились они на мотив. Не поэт говорил с народом — говорил убитый солдат. И эта способность к перевоплощению, способность стать другим — еще одно органическое свойство таланта Ираклия Абашидзе. Он как-то признался в стихах: он анает, о чем рыдает пожелтевшая листва на деревьях, что растревожило летящую птицу. Даже горы думают в его стихах. И разговаривают реки. Две реки, две Алазании рождаются на высотах горного Кавказского хребта. Одна орошает долину Кахетии — пашни и виноградники, другая, повернутая к востоку мощным водоразделом, бесплодно низвергается с аварских нагорий. Если объединить воды этих двух Алазаней, умножатся урожаи кахетинской долины. И в одном из стихотворений — это было в 50-х годах Абашидзе поведал, что в сновидениях своих эти реки видят, как соединялись Волга и Дон. И, сострадая им, разделяя их вековую тоску, поэт рассказал нам, что
Две Алазани мечтают о чуде,
Радостном дне достижения цели…
Чудо вершится…
Работают люди.
Новое русло пройдет по ущелью.
Свойственны рекам мечты человечьи.
Скоро уже на просторе широком
Встретятся сестры — и станет их встреча
Морем, зерном, электрическим током.
Очень хорошо перевел Наум Гребнев!
Сказочная образность и гражданская тема так же легко и свободно сливаются в поэзии Абашидзе, как мысли о современности и об истории, всемирно значимое и сугубо интимное. На полноту характеристики не претендую, — это не монография. Я только хотел отметить некоторые существенные черты дарования замечательного поэта — искусство перевоплощения, любовь к неожиданным осмыслениям, умение построить в стихе напряженный сюжет. Все это вспомнилось мне, когда я прочел, а потом много раз перечитывал новое создание Ираклия Абашидзе «По следам Руставели».
Шота Руставели — великое начало грузинской поэзии, каким могла бы гордиться любая из прославленных литератур мира; поэт, даже и теперь, спустя восемь веков, сохранивший животрепещущую прелесть новизны, самим фактом своего существован ия раз навсегда обязал своих поэтических потомков не ронять достоинство грузинского слова, беречь его как зеницу, видеть в жизни возвышенное, смелое, благородное, воспевать доблесть и красоту. Именно от него пошел в грузинской поэзии пафос утверждения и воспевания, преобладающий над отрицанием и критикой. И кажется, не было на грузинской земле поэта — от безвестных слагателей народных песен о великом Шота до нынешних корифеев грузинской литературы, — не было песнопевца, который не посвящал бы ему своих вдохновений, не обращался бы к героям его поэмы, не клялся бы стихом Руставели. Перечитайте строфы Давида Гурамишвили и Григола Орбелиани, Акакия Церетели и Тициана Табидзе, обращение Георгия Леонидзе к «Книге „Витязь в тигровой шкуре“» и Симона Чиковани «Мастера-переписчики „Вепхис ткаосани“» — и вы убедитесь, как прочна золотая нить, связывающая начало грузинской поэзии с ее нынешним днем, как многозначительна «руставелевская» тема для современных поэтов! Тема неисчерпаема — бессмертная книга, предвосхитившая идеи европейского Возрождения, и загадочная судьба самого поэта. Читатели знают о Руставели немногим больше того, о чем можно догадываться, вчитываясь в строки поэмы. В этом смысле его судьба подобна шекспировской тайне, тайне создателя «Слова о полку Игореве».

Руставели состоял при дворе царицы Тамары, вдохновенно любил ее. Обучался в Икалтойской академии — это в Кахетии. Великолепно знал литературы Востока, философию греков. Но откуда он? Из каких мест? Какого он рода? Где провел молодость? Где умер? Где похоронен? Никому не известно… Тариэла — героя его поэмы — встречает царь аравийский. Тариэл идет в поход на хатавов — монгольское племя, обитавшее у северных китайских границ. Тариэл прибывает в Индию. Тариэл убивает царевича хорезмийского… Аравия. Палестина. Хорезмийское царство. Индия. Сказочная роскошь в описаниях восточных стран! Неужели Руставели воспел все это с чужих слов?
Эта тайна давно уже занимает воображение читателей, поэтов, ученых. И вот, наконец, к ней обращается один из крупнейших поэтов Грузии.
Ираклий Абашидзе хорошо понимает: ему надлежит сказать новое слово, найти неожиданный ракурс, пролить сильный свет на эту великую и загадочную судьбу. Я у него не спрашивал, но думаю, он и сам не сможет точно определить, когда впервые возник у него этот замысел. Может быть, еще в детстве, когда он впервые прочел гениального «Витязя» и задумался над силой слова и силой любви. Или в дни, когда юношей обходил земли Грузии, мечтал «открыть» могилу поэта, угадать, какие песни слыхал Руставели из тех, что дошли до нашего времени.
В 1956 году Ираклий Абашидзе в составе делегации прибыл в Дели на Конференцию писателей стран Азии. Индию он видел впервые. Но казалось, что он уже видел ее. Он узнал ее по описаниям Шота Руставели. И, стараясь представить себе поэта живого и словно надеясь услышать его ответ, Абашидзе обращался к нему:
Возможно,
что твоя
фантазия
смогла бы
домыслить Тегеран,
вообразить Кабул,
но выдумать нельзя
Лахора и Пенджаба,
пока на них в упор
однажды не взглянул.
Спустя семь веков после того, как Руставели ушел из жизни, Ираклий Абашидзе искал в Индии его след, угадывал впечатления, его поразившие, и обращался к нему с вопросами. И Руставели ответил ему… в стихах Абашидзе, «Кто отторг тебя от отчизны?»— спрашивает поэта его далекий потомок. И голос Руставели отвечает: «Никто». — «Не послужила ли причиною зависть?» — «Нет. Не зависть». — «Ненависть?» — «Не она». Не измена. Не лесть. «Что же?»— «Любовь…»
«Голос Руставели в глухой пустыне» — называется это стихотворение — одно из семи, составляющих тетрадь «В знойной Индии».
Насколько беднее была бы эта тетрадь, если бы в ней шла речь об одном Руставели. Но стих Абашидзе передает кипение современной жизни, ощущения поэта, пролетающего над колыбелью человеческой цивилизации — долинами Евфрата и Тигра, его восторг от сверкающих красок Индии. Тут и слово Ираклия Абашидзе, обращенное к индийским поэтам, которые только теперь узнают, что один из величайших поэтов земли семь столетий назад славил их страну по-грузински. По форме стихи Абашидзе — дневник. По существу — диалог поэтов, разделенных веками. И оттого, что Руставели соотнесен в них с современностью и с историей, мы как бы дважды верим в него и начинаем ощущать его как реальность.
О том, как шел Абашидзе к осуществлению этого замысла, можно судить, сопоставляя его стихи с его дорожными очерками, написанными деловой прозой. О творческой истории в стихах его, разумеется, нет ни одного слова. В них отразилось то, что он видел. Но, сравнивая стихи с дневниками, мы понимаем, чтб увидел и чтб отобрал этот острый и очень смелый поэт, не боящийся ни песенной простоты, ни философской сложности.
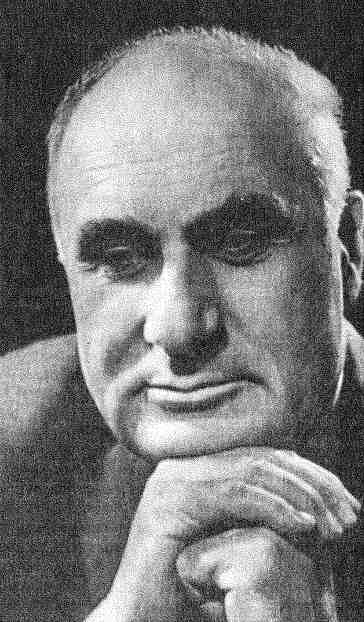
Кончилось путешествие, Абашидзе вернулся домой. Наверное, уже возникали в сознании фрагменты будущей книги. Но объединить их между собой, создать новый образ Шота Руставели было труднее. Наш век — век познания. Мы не верим в поэтический вымысел, если он вступает в противоречие с исторической истиной. Читатель готов следить за свободной и остроумной трактовкой события. Но не поверит поэту, который скажет, что в феврале 1837 года не Дантес убил Пушкина, а Пушкин — Дантеса; что Бараташвили скончался в преклонных годах и не писал «Синий цвет». Если историческую концепцию должен иметь ученый, то в не меньшей мере нужна она и поэту. Раз Абашидзе хотел, чтобы читатель не сомневался в истине его слов, надо было сделать открытие и, соединив науку с поэзией, выступить в роли и ученого и поэта. А для этого следовало проверить возникшую еще в XVIII веке версию, будто бы последние годы жизни Руставели провел в Иерусалиме, в грузинском Крестовом монастыре, там умер и там похоронен. И будто бы на одной из монастырских колонн сохранился его портрет. В 1845 году в Палестине побывал профессор Петербургского университета Николай Чубинов (Чубинашвили) и видел этот портрет. Однако в конце прошлого века ученые его не нашли, и попытки обнаружить его не привели ни к чему.
Ж вот в 1960 году Академия наук Грузии решает исследовать этот вопрос и командирует в Иерусалим трех филологов — академиков И. Абашидзе, А. Шанидзе и Г. Церетели.
Портрет Руставели оказался закрашенным. После долгих стараний краску удалось снять. И глазам ученых предстало изображение седобородого старца в багряной ризе, коленопреклоненного в молитвенной позе, с надписью «Руставели». Кроме того, возле фрески читаются и другие слова: «Расписавшему это Шоте да простит бог. Аминь».
Что это? Подлинное изображение XIII столетия? Или оно относится к более поздней поре? В свое время стены монастыря были покрыты изображениями грузинских царей, грузинских писателей и художников, помогавших строить и содержать грузинский храм в Палестине. Но в XVII веке монастырь реставрировался.
Теперь, когда уже изучены все материалы, некоторые из грузинских ученых склоняются к тому, что фреска, изображающая Руставели, относится к XIII столетию. И. Абашидзе, А. Шанидзе и Г. Церетели датируют ее более поздним временем, считая, что фреска и надпись либо восстановлены в XVII веке, либо тогда же и созданы, но на основании сведений достоверных. И ни у кого не возникает сомнения, что в надписи идет речь о Шота Руставели, что фреска изображает его, — следовательно, иерусалимским монахом он был.
Лично мне кажется, что фреска восходит к прижизненному изображению. Меня на эту мысль наводят размеры изображения Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, фигура Руставели помещена на уровне их сандалий и намеренно унижена этими малыми размерами и положением возле их ног. Трудно допустить, что художник-грузин в XVII веке решился бы так демонстративно умалить величайшего поэта отчизны. Вернее всего, это сделано по собственной воле того, кто славе поэта и одного из виднейших мужей грузинского государства предпочел участь схимника в палестинском монастыре, — другими словами, по воле самого Руставели. А быть может, даже его рукой?
Фреска в Крестовом монастыре послужила Абашидзе ключом к постижению образа Руставели. Вместо апокрифического рисунка, изготовленного в прошлом веке тифлисским фотографом Райнишвили, который представил поэта с черной бородкой, в барашковой шапке с пером, Абашидзе увидел скорбный лик иссохшего старца. И, оживляя воображением это лицо, эту фигуру, стараясь постигнуть трагические события, сокрушившие жизнь Руставели, он создал вторую тетрадь стихов — «Палестина, Палестина». В нее входят семь монологов, произнесенных голосом Руставели, который в разное время — утром, днем, вечером — Абашидзе слышал у стен монастыря и в оливковом саду, у колокольни и в белой келье, у подножия холма Катамона и под сводами храма в сумерках. Ничтожной была бы попытка пересказать прозой стихи. Замечу только, что, решившись говорить от лица гения, Абашидзе с таким вдохновением передал его спор с богом, его внутреннюю борьбу — смирения со страстью, аскетического ограничения с любовью к жизни, к творчеству, к грузинской земле, к бессмертной грузинской речи, что эту новую книгу о Руставели нужно считать замечательным открытием не только в грузинской поэзии. Это — открытие, принципиально важное для всей советской литературы. Абашидзе удалось то, что получается крайне редко, еще реже в стихах, — образ поэта, и притом поэта великого. Ибо когда Лермонтов или Пушкин начинают говорить стихами своих биографов, тут нас обычно оставляет доверие к их речам и поступкам (не касаюсь произведений, в которых наши современники передают свое отношение к поэтам прошлых времен, к их страданиям и великим победам!). Каким же даром перевоплощения обладает этот Ираклий, если решается говорить уже не от лица павшего воина, а устами величайшего из грузинских поэтов! Разумеется, он не подражает стиху Руставели. Зачем? Его голос Абашидзе слышал внутри себя и передает именно так, как услышал. Это вживание в руставелевский образ не предполагает использования шаири — формы стиха, которой написан «Витязь в тигровой шкуре». Руставели преломлен тут чрез сознание поэта нашего времени, и в этом как бы еще одно доказательство его сопричастности нашей эпохе. И новое проявление таланта Ираклия Абашидзе, которому удалось найти новую форму — достоверную и условную, точную и свободную. Это большая победа!
Высокое искусство не в подделке, не в подражании неразличимом. Оно в умении стать похожим, не будучи похожим, не обмануть, но вовлечь в процесс узнавания. У стиха. Абашидзе — современные фактура и форма. И нас радует, что голос Руставели облечен в этот стих, ибо сегодня Руставели писал бы иначе, чем прежде, и был бы современным не только по сути, но и по форме. Я верю, что Абашидзе прочел его мысль, когда слышу голос, доходящий до нас из глуби веков:
О язык мой!
Ты — дар.
Ты стремленье и взлет.
Ты — сцепленье наших скал,
наших глыб и камней.
Исцеленье наших дней
от недугов…
Дыхание наших знамен,
ты — родной,
нестареющий наш и старинный,
наш единый.
Ничем
ты не можешь быть здесь заменен,
ты остался один у меня
в час кончины.
Мы слышим скорбный голос поэта, мудреца, человека, опередившего свое время, обращенного в будущее, отдавшего жар своей мысли и сердца родине, человечеству и умирающего вдали от грузинской земли в величайшем трагическом одиночестве. И слышим взволнованный голос Ираклия, который, обращаясь к тени поэта, признается, что прибыл в Палестину, чтобы отыскать его след и весть о нем — о Шота — понести в Грузию. Ибо ждет Вардзия, томятся в неизвестности Самцхе и Тмогви, веси и грады Месхети; вести этой ждут ласточки над Курой!
Посланник многих поколений грузин, он пришел в Иерусалим, чтобы принять последний вздох Руставели. И как же ему повезло, Ираклию Абашидзе! Он нашел неизвестную надпись на грузинском пергаменте Палестины, надпись, поведавшую ему о последних минутах Шота. Эти мгновенья сохранил для истории безвестный монах. И теперь мы читаем о том, как собратья Шота в его смертный час обращались к нему, умоляли:
Пускай твое последнее реченье не просто канет
в пустоту и тьму,
А принесет
благое облегченье истерзанному сердцу
твоему,
Которое безбожно и жестоко
гонимо по земле издалека.
Не пожелал…
И лишь прищурил око, слезами
увлажненное слегка.
Они — собратья — принесли ему синюю ветвь оливы из Грузии:
Пусть эта ветвь, как весть
долины отчей целебная,
падет тебе на грудь.
Не пожелал…
И лишь прищурил очи, слезами
увлажненные чуть-чуть.
Они раскрыли перед ним Иоанна Дамаскина — страницу, которую он сам заложил когда-то:
О загляни в нее — и нестерпимо
растравленные
раны отболят.
Не соизволил…
и куда-то мимо метнул
слезами увлажненный взгляд.
Признаемся сразу! Не было такой рукописи! Она порождена вдохновением Ираклия Абашидзе. Но в том-то и секрет настоящей поэзии, что ты пропускаешь мгновенье, когда ее крылья оторвали тебя от представлений обыденных, когда тебя оставляют сомнения и становятся ненужными строгие доказательства, ибо начинаешь верить поэту безоговорочно, вместе с его стихом подымаясь все выше и выше и допуская, что так и было и что он знает это лучше тебя. Ибо хотя и существует граница между познанием и поэтической интуицией, но не успеваешь подметить ее, как в полете, когда земля начинает уходить вниз, а ты даже и не почувствовал, как от нее оторвался. Стих Абашидзе кажется достовернее документа. Я верю в совершившееся перевоплощение поэта в образ другого поэта, верю в эту способность полностью стать другим и при этом до конца оставаться самим собою. Верю и повинуюсь! Однако великолепное это создание так и осталось бы достоянием по преимуществу только грузинских читателей, а перед другими предстало бы отражение в строчках более или менее точных, когда за дело первоклассного мастера не взялся бы другой замечательный мастер. «По следам Руставели» перевел Александр Межиров — прекрасный русский поэт, поэт мысли и чувства, современный, глубокий, смелый, обладающий высоким даром перевоплощаться в творчество поэтов, близких ему по духу, и совершать во имя творческой дружбы настоящие подвиги. Трагическая судьба и бессмертие, безвестность и слава в веках, поэзия, ставшая частью народа, влиявшая на его язык и характер, история и современность в их сложных взаимопроникновениях — у Абашидзе эти темы не ограничены образом Руставели, а только выражены через него. Эта тема поэзии и поэта увлекла Межирова. И он кинулся в новое испытание своего поэтического таланта. И снова вышел прекрасным. Оттого и явилась на свет книга, напечатанная по-русски, поражающая двойным совершенством — и оригинала и перевода. И перевоплощением двойным — Ираклия Абашидзе в характер и дух Руставели и Межирова сквозь поэзию Абашидзе в этот новый образ Шота. Вот почему и по-русски так великолепны поэтические находки, поражающие точностью, смелостью; песенная простота, облекающая глубокую мысль; вот почему так потрясает эта трагедия, разрешающаяся в эпическом движении сюжета, в умиротворяющей концовке, где Руставели уходит из мира, верный себе самому, верный своему будущему:
Когда-то здесь
за истиной по следу он шел,
предвестьем истины томим.
С кем спорил он?
С кем затевал беседу?!
Не сомневался.
Веровал.
Аминь.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Тайна третья ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Тайна третья ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ Итак, Брежнев прогнал Семичастного, главного ниспровергателя Хрущева, и тем самим оставил «безоружным» своего основного соперника – Шелепина, «Железного Шурика». Но торжествовать рано! Надо подумать о новом хозяине Лубянского ведомства, и
Тайна пятая ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Тайна пятая ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ Андропов всегда был снедаем острым честолюбием. С годами оно только усиливалось, ибо правящая верхушка Советского Союза все более физически дряхлела, а главное – стала состоять из совершенно уже полнейших ничтожеств. Недаром они
5 Перевоплощение человека с оружием
5 Перевоплощение человека с оружием Местом действия драматического крушения брака Агаты и Арчи в 1926 году был Стайлес, большой, построенный в карикатурно-тюдоровском стиле дом, стоявший в десяти минутах ходьбы от саннингдейлского вокзала. Дом имел плохую репутацию,
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ Итак, Брежнев прогнал Семичастного, главного ниспровергателя Хрущева, и тем самим оставил "безоружным" своего основного соперника — Шелепина, "Железного Шурика". Но торжествовать рано! Надо подумать о новом хозяине Лубянского ведомства, и подумать крепко.
ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ Андропов всегда был снедаем острым честолюбием. С годами оно только усиливалось, ибо правящая верхушка Советского Союза все более физически дряхлела, а главное — стала состоять из совершенно уже полнейших ничтожеств. Недаром они всеми теперь
Перевоплощение
Перевоплощение Мы снимали фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова» в селе Самбек под Таганрогом. Борислав Брондуков играл ветеринара Дежкина. Он абсолютно серьезно расхаживал среди коров и заглядывал им под хвосты, а я, как режиссер, нахваливал его:— Ты талантливый