Отель “Челси”
СЕГОДНЯ Я – МАЙК ХАММЕР[48]: СМОЛЮ СИГАРЕТЫ “КУЛ”, читаю грошовые детективы, сижу в холле и дожидаюсь Уильяма Берроуза. А вот и он, чертовски элегантный: темное габардиновое пальто, серый костюм, галстук. Несколько часов я дежурю на посту, кропаю стихи. И вот Берроуз выкатывается из “Эль-Кихоте”: подвыпивший, слегка растрепанный. Поправляю ему галстук, ловлю для него такси. Так уж у нас с ним заведено, по молчаливой договоренности.
В промежутках между выполнением этих обязанностей изучаю местные нравы. Глазею, как тусовщики слоняются по холлу. Стены завешаны всяческой мазней – гигантскими, режущими глаз картинами, которые их авторы втюхали Стэнли Барду вместо арендной платы. Энергия и отчаяние оборотистых юных дарований бьют в отеле через край. Тут выходцы из всех социальных слоев. Бродяги с гитарами и удолбанные красавицы в викторианских платьях. Поэты-торчки, драматурги-торчки, кинорежиссеры-банкроты, французские актеры. Всякий, сюда входящий, – уже кто-то, даже если во внешнем мире он – никто.
Лифт поднимается медленно. Доезжаю до восьмого – может, Гарри Смит[49] у себя? Берусь за дверную ручку, но за дверью – мертвая тишина. Стены желтые, казенные, как в школе. По сути, как в тюрьме. Иду в наш номер по лестнице. Захожу пописать в общий туалет на этаже, объединяющий нас с неведомыми нам жильцами. Отпираю нашу дверь. Роберта нет – только на зеркале записка. “Пошел на большую 42-ю. Я тебя люблю. Синь”. Подмечаю: он разложил свои вещи по местам. Мужские журналы сложены в аккуратный штабель. Проволочная сетка скатана в рулон и обвязана, баллончики с краской выстроились в ряд под раковиной.
Включаю электроплитку. Наливаю воды из-под крана. Сначала льется какая-то бурая жижа. Пусть стечет. Ничего страшного, это только ржавчина и минералы – так говорит Гарри.
Мои вещи в нижнем ящике. Карты таро, шелковые ленты, банка “Нескафе” и моя личная чашка – реликвия детства с портретом Дядюшки Уиггили, кролика-джентльмена[50]. Вытаскиваю из-под кровати свой ремингтон, поправляю ленту, вставляю свежий лист бумаги ин-октаво. У меня уйма материала.
* * *
Роберт сел в кресло под монохромной работой Ларри Риверса[51]. Он был очень бледный. Я встала на колени, взяла его за руку. Ангел-морфинист сказал, что иногда в “Челси” дают номер взамен на произведения искусства. Я решила предложить наши. Свои парижские рисунки я считала сильными. А работы Роберта несомненно превосходили все, что висело в холле. Но первой помехой на моем пути стал управляющий Стэнли Бард.
Гордой походкой я вошла в его кабинет и уже готовилась воспеть нам хвалу. Но он тут же показал мне жестами, чтобы я удалилась, а сам продолжал телефонный разговор, казавшийся бесконечным. Я присела на пол рядом с Робертом и задумалась о нашем положении.
Гарри Смит материализовался внезапно – словно бы вышел из стены. Растрепанные серебряные волосы, нечесаная борода. На меня уставились горящие любопытством глаза, увеличенные линзами очков а-ля Бадди Холли. Гарри взбудораженно сыпал вопросами, в которых тонули мои ответы:
– Кто вы как у вас с деньгами вы близнецы почему у тебя на запястье лента?
Он дожидался свою приятельницу Пегги Байдермен – надеялся позавтракать за ее счет. Удрученный собственными неурядицами, он все же посмотрел на нас сочувственно и принялся хлопотать вокруг Роберта, который от слабости даже голову не мог приподнять.
Гарри стоял перед нами, слегка сгорбленный, в потрепанном твидовом пиджаке, льняных брюках и замшевых сапогах, склонив голову набок, точно смышленая охотничья собака. Тогда ему едва перевалило за сорок пять, но на вид он был совсем старик – правда, с нескончаемым запасом ребяческого энтузиазма. Перед Гарри благоговели: он составил “Антологию американской народной музыки”[52], которая на кого только не повлияла – от совершенно безвестных гитаристов до Боба Дилана.
Роберт говорить не мог – сил не было, а я, пока дожидалась своей аудиенции у Барда, побеседовала с Гарри о музыке Аппалачских гор. Гарри упомянул, что снимает фильм по мотивам пьес Брехта, и я продекламировала кусок из “Пиратки Дженни”. Так между нами завязалась дружба, хотя Гарри был слегка обескуражен нашей бедностью. Он бродил за мной по холлу, повторяя:
– Неужели вы не богачи? Ты точно уверена?
– Нам, Смитам, разбогатеть не суждено, – сказала я. Он остолбенел.
– Твоя фамилия на самом деле Смит? Ты точно уверена?
– Да, – ответила я, – и тем более уверена, что мы с вами родня.
Мне разрешили вновь войти в кабинет Барда. Я постаралась представить все в наилучшем свете. Сказала, что прямо сейчас еду на работу за авансом, но у меня есть интересное предложение – он может получить произведения искусства, которые намного дороже гостиничного номера. Расхвалила Роберта, вызвалась оставить наши папки в залог. Бард окинул меня скептическим взглядом, но поверил на слово. Не знаю уж, ждал ли он хоть чего-то хорошего от наших творений, но мое обещание выйти на работу, пожалуй, произвело на него большое впечатление.
Мы ударили по рукам, и я получила ключ. Номер 1017. Пятьдесят пять долларов в неделю за право жить в отеле “Челси”.
Тем временем пришла Пегги, и они с Гарри помогли отвести Роберта наверх. Я отперла дверь. 1017-й славился как самый маленький номер в “Челси”: голубая комната с белой железной койкой, накрытой кремовым синельным покрывалом. Раковина, зеркало, небольшой комод. На поблекшей кружевной скатерти – портативный черно-белый телевизор. Телевизора у нас с Робертом еще никогда не было. А этот так и простоял – футуристический, но уже старомодный талисман – выключенным, пока мы там жили.
В отеле был свой врач; Пегги дала мне его телефон. У нас появилась чистая комната и друзья, готовые помочь. Теперь было где выздоравливать. У нас появился дом.
Пришел врач. Я подождала за дверью: для троих номер был тесноват, да и не хотелось смотреть, как Роберту делают уколы. Доктор дал Роберту большую дозу тетрациклина, выписал несколько рецептов, а мне горячо порекомендовал сдать анализы. У Роберта обнаружилось недоедание, жар, язвенный гингивит, ретенированный зуб мудрости и гонорея. Нам обоим следовало сделать курс инъекций и зарегистрироваться как носителям инфекции. Врач сказал мне:
– Ничего, попозже заплатите.
Мне стало противно, что я заразилась “социальной болезнью”, вероятно, из-за какого-то случайного незнакомца. Это была не ревность – скорее омерзение от соприкосновения с грязью. Между прочим, в книгах Жене, всех, какие я прочла, царила сакральная атмосфера, никаким образом не предполагавшая существования триппера. Вдобавок у меня разыгрался панический страх перед шприцами: ведь врач упомянул о курсе инъекций. Но я заставила себя подавить панику. Здоровье Роберта было для меня важнее всего, а он слишком плохо себя чувствовал, чтобы выслушивать мои эмоциональные тирады.
В тишине я сидела у кровати Роберта. Свет отеля “Челси”, озарявший наши скудные пожитки, казался каким-то особенным. Освещение было искусственное – от настольной лампы и от плафона на потолке, – яркое, беспощадное, но в лучах словно бы бурлила ни на что не похожая энергия. Роберт улегся поудобнее, и я сказала ему:
– Не волнуйся, я скоро вернусь.
Не покидать его – таков был мой долг. Мы дали клятву.
Это значило, что мы не одиноки.
Я вышла на улицу, постояла перед мемориальной доской в честь поэта Дилана Томаса. Только сегодня утром мы сбежали из удручаюшего “Оллертона”, а теперь у нас есть маленький, но чистый номер в чуть ли не самом легендарном отеле Нью-Йорка. Я огляделась по сторонам. В 1969-м Двадцать третья улица между Седьмой и Восьмой авеню оставалась совершенно такой же, как сразу после войны. По пути мне попались магазин рыболовных снастей, лавка подержанных пластинок, где в пыльной витрине смутно виднелись диски парижских джазистов, просторное кафе-автомат и бар “Оазис” с неоновой вывеской в виде пальмы. На той стороне улицы находились филиал Публичной библиотеки и длинное здание ИМКА.
Я направилась к Пятой авеню, свернула на нее и дошла пешком до “Скрибнерз” на Сорок восьмой. Я не сомневалась: несмотря на длительный отпуск за свой счет, меня возьмут обратно. Возвращаться на работу не очень-то хотелось, но в нашем положении “Скрибнерз” был для нас настоящим спасательным кругом. Начальство встретило меня тепло. Я спустилась в полуподвал, выпила за компанию кофе с булочками, развлекла общество байками из жизни парижских улиц, выпячивая смешные стороны наших злоключений. В итоге меня восстановили на работе, да еще и бонус выдали – аванс на неотложные расходы; я смогла оплатить номер за неделю вперед, и Бард сразу меня зауважал. В наши папки он пока не заглянул, но сказал, что подержит их пока у себя и ознакомится на досуге: надежда на бартерную сделку сохранялась.
Я принесла Роберту немного еды. Он впервые с утра что-то съел. Я рассказала, как сговорилась со “Скрибнерз” и Бардом. Мы подивились, сколько всего произошло в нашей жизни, составили хронику нашей одиссеи от бедствий до благополучия. Роберт умолк. Я знала, о чем он думает. Он не попросил у меня прощения, но я понимала: мысленно просит. Положив голову ко мне на плечо, он размышлял: а может, зря я к нему вернулась? Но я вернулась. В конце концов, нам обоим лучше жилось, когда мы были вместе.
Я ухаживала за ним умело: научилась у мамы сбивать температуру, управляться с больными. Мало-помалу Роберт задремал. Усталая, я сидела у его кровати. Возвращение на родину прошло для меня негладко, но жизнь понемногу налаживалась, и я абсолютно ни о чем не сожалела. Наоборот, даже воодушевилась. Сидела, слушала, как он дышит. Ночник подсвечивал подушку. В спящем отеле я ощутила: здесь мы среди сплоченной общины. Два года назад Роберт спас меня в Томкинс-сквер-парке – как с неба на парашюте спустился. А теперь я спасла его. Мы сравняли счет.
Через несколько дней я поехала на Клинтон-стрит разбираться с Джимми Вашингтоном, управляющим домом, где мы раньше снимали квартиру. В последний раз поднялась по массивным каменным ступеням. Чувствовала: в Бруклин больше никогда не вернусь. Прежде чем постучать, немного помешкала перед дверью. Слышалась песня “Devil in a Blue Dress” и голоса Джимми Вашингтона и его жены. Дверь он открыл неспешно, а увидев меня, удивился. Вещи Роберта он упаковал, но к большей части моих явно прикипел душой. Войдя в его гостиную, я не удержалась от смеха. На каминной доске у Джимми были любовно расставлены моя инкрустированная шкатулка с покерными фишками, мой клипер с парусами ручной работы, моя гипсовая инфанта в крикливом наряде. Моя мексиканская шаль свисала с огромного деревянного шезлонга, который я прилежно отшкурила и покрасила белой эмалью. Я его называла “Поллоков шезлонг” – похожую садовую мебель я видела на фотографиях фермы Поллока и Краснер в Спрингсе.
– Я для вас все это берег, – проговорил он, слегка зардевшись. – Откуда мне было знать, вернетесь вы или нет.
Я улыбнулась, не говоря ни слова. Он сварил кофе, и мы заключили пакт. Я задолжала ему арендную плату за три месяца – сто восемьдесят долларов. Пусть оставит за собой залоговый платеж – шестьдесят долларов – и мои вещи, и будем квиты. Книги и пластинки он упаковал. Я увидела, что наверху стопки дисков лежит “Nashville Skyline”. Роберт подарил мне этот альбом перед моим отъездом в Париж, и я бесконечно крутила “Lay Lady Lay”. Я собрала свои записные книжки и обнаружила среди них “Ариэля” Сильвии Плат – эту книгу Роберт мне купил, когда мы познакомились. На миг у меня защемило сердце: я поняла, что та эра невинности в наших отношениях больше не вернется. Сунула в карман пакет с черно-белыми снимками “Женщины I”, которые нащелкала в МоМА, но не стала забирать мои неудачные попытки написать ее портрет: свернутые холсты, забрызганные умброй, розовыми и зелеными пигментами, память былых увлечений. На прошлое я не оглядывалась – зачем? Смотреть вперед, в будущее гораздо интереснее. Направляясь к двери, я заметила, что на стене висит один из моих рисунков. Если Бард не оценит мое творчество, что ж – Джимми Вашингтон оценил, и на том спасибо. Я попрощалась со своими вещами: Джимми и Бруклину они подходили лучше. Вещи – дело наживное, это уж не сомневайтесь.
* * *
Я благодарила судьбу за то, что у меня есть работа, но в “Скрибнерз” вернулась скрепя сердце. В Париже я была сама себе хозяйка и распробовала смак странствий. Нелегко было вновь привыкнуть к оседлости. И моей наперсницы-поэтессы со мной больше не было: Дженет переехала в Сан-Франциско.
Но со временем все наладилось: у меня появилась новая подруга, Энн Пауэлл. У нее были длинные каштановые волосы, печальные карие глаза и меланхоличная улыбка. Энни, как я ее называла, тоже сочиняла стихи, но в духе американской школы: обожала Фрэнка О’Хару и гангстерские боевики, таскала меня в Бруклин на фильмы с Полом Муни и Джоном Гарфилдом. Мы сочиняли залихватские сценарии фильмов категории “Б”, и в обеденный перерыв я развлекала Энни, разыгрывая их в лицах – одна во всех ролях. В свободное время мы перерывали секонд-хенды в поисках идеальных черных водолазок и безупречных белых лайковых перчаток.
Энни окончила монастырский пансион в Бруклине, но при этом любила Маяковского и Джорджа Рафта. Я была рада, что мне есть с кем поговорить о стихах и преступлениях, а заодно поспорить, кто лучше – Робер Брессон или Пол Шредер.
В “Скрибнерз” я получала приблизительно семьдесят долларов в неделю. После оплаты жилья оставались деньги только на еду, без подработки не обойдешься. Я стала выискивать в секонд-хендах книги для перепродажи. Нюх у меня был неплохой: я откапывала редкие детские книги и первые издания с автографами, стоившие в этих лавочках по два-три доллара. Перепродавала с большим барышом. За роман Уэллса “Любовь и мистер Льюишем” (в идеальном состоянии, с автографом автора) выручила столько, что оплатила жилье и проездной на метро на неделю.
Из одной экспедиции я принесла Роберту чуть потрепанную “Index Book” Энди Уорхола. Она ему понравилась, но одновременно выбила из колеи: в этот самый момент Роберт сам задумал записную книжку с раскладными и трехмерными элементами. В “Index Book” были включены фотографии Билли Нейма – автора классической фотохроники “Фабрики” Уорхола, а также раскладной за?мок, попискивающий при нажатии красный аккордеон, раскладной аэроплан и двенадцатигранник с волосатым торсом.
Роберт рассудил, что они с Энди движутся параллельными курсами.
– Хорошо сделано, – сказал он. – Но я сделаю лучше.
Ему не терпелось встать и взяться за работу.
– Мне нельзя просто так валяться, – говорил он. – Я от всего мира отстану.
Роберта снедало нетерпение, но ему приходилось соблюдать постельный режим: пока не спадет жар, не пройдет инфекция, нельзя было удалить зуб мудрости. Он ненавидел болеть. Вскакивал, недолечившись, и болезнь возвращалась. Я же, наоборот, считала, что выздоравливать надо так, как понимали этот процесс в девятнадцатом веке: упивалась возможностью лежать в постели, читать книжки, сочинять длинные горячечные стихи.
Когда мы въехали в “Челси”, я совершенно не представляла себе, как там живется, но вскоре поняла: нам колоссально повезло. За те же деньги мы могли бы снимать в Ист-Виллидж немаленькую квартиру, но проживание в этом отеле чудаков и пропащих стало для нас прекрасным университетом и лучшей защитой. Нас окружала атмосфера дружелюбия: как тут не поверить, что мойры сговорились помогать своим пылким детям!
Роберт выздоравливал медленно, но стоило ему окрепнуть, как на Манхэттене он расцвел – точно так же, как я закалилась в Париже. Вскоре он вышел на поиски работы. Мы оба знали, что к постоянной работе он не приспособлен, но за любой временный приработок он жадно хватался. Противнее всего было доставлять произведения искусства – от авторов в галереи и обратно. Роберта бесило, что он гнет спину на художников, которые ему в подметки не годятся. Но зато ему платили деньги. Каждый лишний цент мы засовывали в укромный уголок ящика комода. Откладывали на осуществление самой безотлагательной мечты – аренду номера побольше. Ради этой же мечты пунктуально платили за аренду.
Если вам удавалось заселиться в “Челси”, с оплатой можно было не торопиться – из этого отеля не выселяли за просроченные платежи. Правда, должники оказывались в многочисленной категории тех, кто прятался от Барда. Мы же встали в очередь на большой номер на третьем этаже и старались зарекомендовать себя с лучшей стороны. В детстве я часто видела, как мама в солнечные дни опускала жалюзи на всех окнах – скрывалась от ростовщиков и сборщиков долгов. И теперь мне совершенно не хотелось испуганно дрожать перед Стэнли Бардом. Почти все жильцы хоть немножко да задолжали Барду. Но мы – ни единого цента.
В нашей каморке мы жили-поживали, точно заключенные гостеприимной тюрьмы. На узкой кровати было хорошо спать, тесно прижавшись друг к дружке, но работать нам было негде – ни мне, ни Роберту.
Первым другом Роберта в “Челси” стал независимый модельер Брюс Рудоу. Он снимался в фильме Уорхола “Тринадцать красивейших юношей”, а также в эпизоде “Полуночного ковбоя”. Он был малорослый, проворный и поразительно походил на Брайана Джонса. Под светлыми глазами – круги, лицо затеняли широкие поля черной испанской шляпы (такую же носил Хендрикс). Шелковистые светло-рыжие локоны спадали на улыбчивое лицо с высокими скулами.
Я полюбила бы Брюса за одно только сходство с Джонсом, но он и человек был милейший, щедрая душа. Брюс слегка флиртовал с Робертом, но между ними ничего не было. Им руководило всего лишь врожденное дружелюбие.
Брюс зашел в гости, но в нашем номере было негде присесть, и он пригласил нас к себе. Он устроил себе просторную мастерскую, заваленную шкурами, кожами змей, каракулем, лоскутами красной кожи. На длинных столах были разложены бумажные выкройки, на стенах висели готовые вещи. У него была собственная маленькая фабрика. Брюс делал черные кожаные куртки с серебристой бахромой. Сшиты они были прекрасно. Попали на страницы “Вог”.
Брюс взял Роберта под свое крыло, помог ему обрести долгожданное признание. Их роднила смекалка, они вдохновлялись идеями друг друга. Роберту было интересно объединить искусство с высокой модой, и Брюс советовал ему, как пробиться в мир моды. Он предложил ему угол в своей мастерской. Роберт был признателен Брюсу, но его не устраивала работа в чужом помещении.
Пожалуй, из всех наших знакомых по “Челси” самую большую роль сыграла художница Сэнди Дейли. В некотором роде отшельница, но очень радушная. Она жила рядом с нами в 1019-м, в комнате, где все было белым, даже пол. У порога полагалось снимать обувь. Над нашими головами висели или порхали наполненные гелием серебристые подушки – сувениры с ранней “Фабрики”. Таких комнат я никогда еще не видывала. Мы сидели босые на белом полу, пили кофе и смотрели альбомы фотохудожников. Иногда Сэнди казалась черной узницей своей белой комнаты. Она любила длинные черные платья, и мне нравилось следовать за ней по пятам – смотреть, как подол ползет по коридорам, по лестницам со ступеньки на ступеньку.
Сэнди много работала в Англии – в Лондоне Мэри Куант, пластиковых дождевиков и Сида Барретта. У нее были длинные ногти, и я дивилась, каким ловким движением она приподнимает звукосниматель с пластинки, умудряясь не испортить маникюр. Сэнди фотографировала в простой и изящной манере, не расставалась со своим “Полароидом”. Этот фотоаппарат она потом одолжила Роберту – первый “Полароид” в его карьере. Ранние фотографии Роберта Сэнди анализировала, как верный друг и авторитетный критик. Сэнди поддерживала нас обоих и спокойно сносила, не осуждая, все метаморфозы Роберта – как художника и человека.
Интерьер в номере Сэнди был не совсем в моем вкусе – скорее во вкусе Роберта, но там привольно дышалось после нашей захламленной каморки. Если мне требовалось принять душ или просто хотелось помечтать там, где светло и просторно, двери Сэнди всегда были передо мной открыты. Часто я устраивалась на полу рядом со своей любимой вещицей: большой серебряной чашей, похожей на блестящий колесный колпак. Посреди чаши плавал цветок гардении. Я слушала на проигрывателе “Beggars Banquet”[53], снова и снова, и аромат гардении разливался по пустынной комнате.
Подружилась я и с музыкантом Мэтью Рейчем. Его жилище было сугубо функциональным: все личное имущество Мэтью составляли акустическая гитара и тетрадка в черно-белой обложке. В тетрадку он с нечеловеческой скоростью заносил тексты песен и обрывочные мысли. Мэтью был невысокий и жилистый; с первого взгляда было ясно, что он помешан на Дилане. Прическа, одежда, манеры – Мэтью все взял из “Bringing It All Back Home”. Он женился на актрисе Женевьев Вейт – кажется, после молниеносного романа. Женевьев быстро смекнула, что Мэтью, конечно, неглуп при всем своем сумасбродстве, но до Дилана ему далеко. В итоге она сбежала с “Папой Джоном” из Mamas & Papas, а Мэтью остался бродить по коридорам отеля в элегантной рубашке с воротником на петельках и высоко завернутых брюках.
Мэтью был совершенно уникальная личность, хотя и строил из себя двойника Боба Дилана. Мы с Робертом его любили, но Роберт долго в его обществе не выдерживал. Мэтью оказался первым музыкантом, с которым я познакомилась в Нью-Йорке. Его одержимость Диланом была мне близка и понятна. Когда же Мэтью складывал свои песни, я понимала, что в песни можно превратить и мои стихи.
Я так и не выяснила, отчего он говорил скороговоркой – то ли сидел на амфетаминах, то ли его мозг от природы работал с амфетаминовой быстротой. Своими идеями Мэтью часто заводил меня в тупик или заставлял кружить по бесконечным лабиринтам непостижимых логических цепочек. Я чувствовала себя Алисой в гостях у Безумного Шляпника – отгадывала загадки без разгадок и несолоно хлебавши возвращалась вспять по шахматным клеткам, назад в мою собственную вселенную – тоже причудливую, но по-своему логичную.
Чтобы отработать аванс в “Скрибнерз”, мне приходилось трудиться сверхурочно. Затем меня повысили в должности, и теперь приходилось являться на работу еще раньше: в шесть я вставала, шла на Шестую авеню, садилась на поезд “Эф” до Рокфеллер-центра. Билет на метро стоил двадцать центов. В семь я начинала готовиться к рабочему дню, деля обязанности со старшим кассиром: открывала сейф, выдавала деньги для касс. Зарплату мне повысили, но я предпочла бы другие обязанности – заведовать собственным отделом магазина, заказывать книги. В семь вечера я заканчивала работу и обычно возвращалась домой пешком.
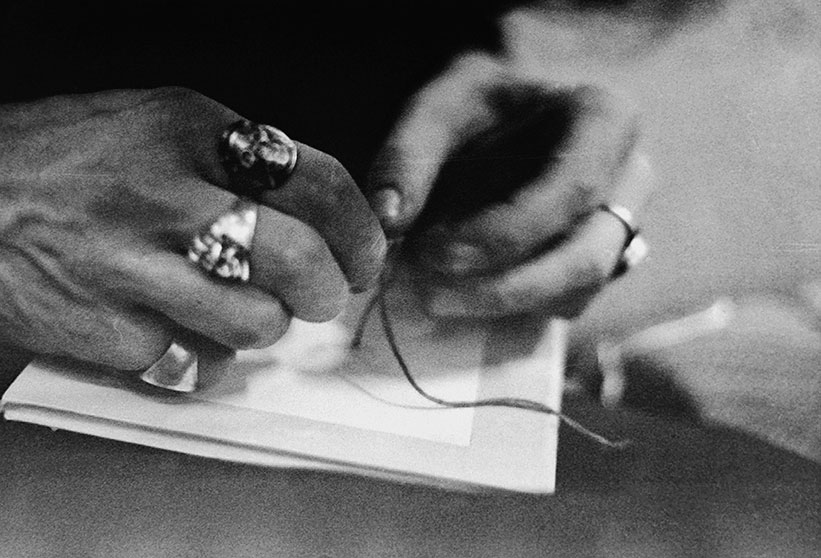
Роберт встречал меня радостно, торопился показать сделанное за день. Как-то, почитав мой дневник, он придумал тотем для Брайана Джонса. Тотем был в форме стрелы с кроличьей шерстью в честь Белого Кролика, строчкой из “Винни-Пуха” и медальоном с портретом Брайана. Мы вместе доделали тотем и повесили над нашей кроватью.
– Патти, никто не видит мир так, как видим его мы, – снова сказал Роберт.
Когда он говорил такие вещи, все вокруг наполнялось волшебством, чудилось, что, кроме нас двоих, никого на свете нет.
Врачи наконец-то разрешили Роберту удалить ретинированный зуб мудрости. После операции он несколько дней чувствовал себя неважно, но зато камень с души свалился. Здоровье у Роберта было отменное, но иммунитет подкачал, так что я ходила за ним с бутылкой теплой соленой воды и заставляла промывать десны. Он полоскал рот, но притворно сердился:
– Ах ты, Бен Кейси[54] несчастный! Кейси-русалка, морской водой лечишь.
Гарри, который часто за нами увязывался, одобрил мой метод лечения. Возвестил, что в алхимических экспериментах соль играет первостепенную роль, и тут же заподозрил, что я преследую какие-то оккультные цели.
– Точно, – сказала я, – хочу превратить его коронки в золотые.
Смех. Без смеха не выжить. Сколько же мы смеялись.
* * *
И все же в воздухе ощущалась какая-то вибрация – маховик событий раскручивался все сильнее. Началось с Луны: по недостижимому светилу поэтов теперь разгуливали люди. На божественной жемчужине – следы колес. Пожалуй, это ощущался бег времени: наступило последнее лето десятилетия. Иногда мне так хотелось вскинуть руки и остановить… остановить что? Возможно, всего лишь процесс взросления.
На обложке журнала “Лайф” тоже красовалась Луна, но первые полосы всех газет заполонило жестокое убийство Шэрон Тейт и ее гостей. Убийства, совершенные семьей Мэнсона, никак не вязались с моими представлениями о преступлениях, почерпнутыми из фильмов жанра нуар. Зато подобные новости будоражили фантазию жильцов “Челси”. Почти все зациклились на Чарльзе Мэнсоне. Роберт первое время обсуждал подробности с Гарри и Пегги, но я затыкала себе уши. Все время думала, каково было Шэрон Тейт в последние минуты: представляла себе ее ужас, когда она поняла, что сейчас убьют ее нерожденного ребенка. Я ушла в стихи – писала от руки в оранжевой школьной тетрадке. Брайан Джонс лицом вниз в бассейне – ничего более трагичного я бы не вынесла.
А Роберта занимало поведение людей: что заставляет вроде бы вменяемого человека сеять разрушение в мире? Он следил за новостями о Мэнсоне, но когда тот стал выкидывать какие-то странные фортели, утратил интерес. Мэтью показал Роберту фотографию Мэнсона из газеты – с вырезанной на лбу буквой “икс”. Этот знак Роберт позаимствовал для своих рисунков.
– Икс мне интересен, а Мэнсон – ничуть, – сказал он Мэтью. – Мэнсон сумасшедший. Сумасшествием я не интересуюсь.
Через неделю-две я, пританцовывая на ходу, зашла в “Эль-Кихоте” – искала Гарри и Пегги. Бар-ресторан “Эль-Кихоте” находился по соседству с отелем: из вестибюля туда вела специальная дверь, и нам казалось, что бар принадлежит нам – собственно, десятки лет он вправду был нашим. Дилан Томас, Терри Саутерн[55], Юджин О’Нил, Томас Вулф – все они выпили в “Эль-Кихоте” больше, чем следовало бы.
Я была в своем наряде из фильма “Восточнее рая”: соломенная шляпка и длинное платье из вискозы, темно-синее в белый горошек. За столиком слева заседала со своими музыкантами Дженис Джоплин. Справа, в дальнем углу, сидели Грейс Слик и весь состав Jefferson Airplane, а также ребята из Country Joe and the Fish. За крайним столиком, лицом к двери, – Джими Хендрикс с какой-то блондинкой. Хендрикс сидел за столом в шляпе, ел, низко опустив голову. Куда ни глянь – музыканты, столы ломятся от гор креветок с зеленым соусом, паэльи, кувшинов с сангрией и бутылок текилы. Я изумленно застыла, но не почувствовала себя чужой. “Челси” был моим домом, а “Эль-Кихоте” – моим баром. Никаких телохранителей, совершенно не чувствовалось, что тут собралась элита. Музыканты приехали на Вудсток, но я так погрузилась в свойственную “Челси” атмосферу амнезии, что даже не слыхала о фестивале, не знала, что он значил для всех остальных.
Грейс Слик встала и направилась к выходу. Разминулась со мной. На ней было расписное платье в пол, глаза у нее оказались темно-лиловые, точно у Лиз Тейлор.
– Привет, – сказала я, подметив, что я выше ростом.
– Привет-привет, – откликнулась она.
Вернувшись к себе наверх, я ощутила необъяснимое чувство родства с этими людьми, какое-то предчувствие – но не знала, как его истолковать. Я не могла и помыслить, что однажды пойду по их стопам. Тогда я все еще была угловатой двадцатидвухлетней продавщицей из книжного магазина и тщетно билась над несколькими неоконченными стихотворениями. Но в ту ночь мне не спалось от радостного волнения: казалось, надо мной кружатся бескрайние возможности. Совсем как в детстве, я смотрела на оштукатуренный потолок. И чудилось, что вибрирующие узоры у меня над головой выстраиваются в правильном порядке.
Это была мандала моей жизни.
* * *
Мистер Бард вернул залог. Отперев дверь номера, я увидела, что к стене прислонены наши папки – черная с черными завязками и красная с серыми. Развязала тесемки на обеих и внимательно рассмотрела рисунки, один за другим. Так и не смогла определить, заглядывал ли Бард вообще в папки. Но если и заглянул, то явно увидел наши работы совсем другими глазами, чем я. Каждый рисунок, каждый коллаж укреплял во мне веру в нашу одаренность. Работы были хорошие. Мы заслужили номер в “Челси”.
Роберт расстроился, что Бард не взял наши произведения в счет уплаты. Переживал, как мы будем сводить концы с концами: в тот день его звали подработать грузчиком в два места, но обе подработки отменились. Роберт лежал на кровати в белой футболке, джинсах и индейских сандалиях – совсем как в нашу первую встречу. Но на сей раз, открыв глаза, он посмотрел на меня без улыбки. Мы жили точно рыбаки – закидывали сети. Сети были добротные, но из рейса мы часто возвращались с пустыми руками. Я рассудила: нам надо действовать активнее и найти кого-то, кто согласится инвестировать в искусство Роберта. Просто Роберту нужен свой папа римский – как Микеланджело. В “Челси” бывает масса влиятельных людей. Рано или поздно мы непременно найдем Роберту мецената. “Челси” был свободным рынком: каждый жилец что-нибудь да предлагал на продажу, что-то свое превращал в товар.
Мы договорились забыть о заботах до завтрашнего утра. Взяли из своих сбережений немножко денег и прошлись пешком до Сорок второй улицы. По дороге зашли в “Плейленд” сняться в фотоавтомате: полоска из четырех кадров за четвертак. У “Бенедикта” взяли один хот-дог и порцию сока папайи на двоих, а потом смешались с толпой. Проститутки, отпущенные на берег матросы, сбежавшие из дома подростки, околпаченные мошенниками туристы, а также бедолаги, которые всем жаловались, что были похищены инопланетянами. Сорок вторая была настоящей курортной набережной, хоть и пролегала посреди мегаполиса: игорные дома, сувенирные лотки, кубинские закусочные, стрип-клубы, работающие почти круглосуточно ломбарды. За пятьдесят центов можно было сходить в кинотеатр, обитый засаленным бархатом, где показывали иностранные фильмы вперемежку с мягким порно.
Мы порылись на букинистических развалах, где торговали затрепанными бульварными романами и мужскими журналами. Роберт неустанно разыскивал материалы для коллажей, а я – трактаты безвестных авторов об НЛО и детективы с кровавыми лужами на обложках. Из груды я выудила первое издание “Джанки” Уильяма Берроуза – тот самый томик “два в одном” издательства “Эйс”, который Берроуз выпустил под псевдонимом Уильям Ли. Эту книгу я так и не перепродала – храню до сих пор. Роберту попалось несколько разрозненных листов с зарисовками арийских юношей в мотоциклетных кепи – работы Тома оф Финленд[56]. Всего пара долларов – а сколько радости для нас обоих. Домой мы вернулись, держась за руки. Потом я ненадолго отстала, чтобы посмотреть со стороны, как вышагивает Роберт. Его матросская походка всегда меня умиляла. И внезапно мне открылось: однажды я замешкаюсь, а он пойдет дальше. Но это случится в далеком будущем, а пока ничто не сможет нас разлучить.
В последние выходные лета я поехала навестить родителей. На автобус шла в приподнятом настроении – предвкушала встречу с семьей и поход по букинистическим магазинам в Мьюллика-Хилл. В нашей семье все были книгочеями, а я обычно находила у букинистов еще и что-нибудь на перепродажу в городе. На сей раз подвернулось первое издание “Доктора Мартино” Фолкнера с автографом автора.
Настроение в родительском доме, против обыкновения, было подавленное. Мой брат собирался завербоваться на военный флот, и мама, несмотря на свой горячий патриотизм, боялась, что его пошлют во Вьетнам. Моего отца глубоко потрясла бойня в Сонгми. “Бесчеловечен с человеком человек”, – повторял он цитату из Бернса. В тот день я смотрела, как отец сажает во дворе дерево – плакучую иву. Казалось, это символ его недовольства тем, куда катится страна. Позднее люди говорили, что черту под идеализмом 60-х подвело убийство, совершенное на концерте “Роллингов” в Альтамонте в декабре того года. Но для меня это убийство лишь подтвердило двойственность лета 69-го: Вудсток и культ Мэнсона, наш бал-маскарад с полной кашей в головах.
* * *
Мы с Робертом встали рано. Специально копили деньги, чтобы в этот день отпраздновать вторую годовщину знакомства. Наряды я приготовила с вечера – постирала все вещи в раковине, а Роберт их отжал (у него руки были сильнее) и развесил сушиться на чугунной спинке кровати. Ради праздника он разрушил собственную инсталляцию, которая представляла собой пару черных футболок, растянутых на продолговатом подрамнике. Снял одну футболку с подрамника, надел на себя. Я продала книгу Фолкнера и на вырученные деньги оплатила номер за неделю, а также купила Роберту шляпу “Борсалино” в “Джей-Джей хэт сентер” на Пятой авеню. Шляпа была фасона “федора” – с мягкими полями. Я смотрела, как Роберт причесывается и по-всякому примеряет шляпу перед зеркалом. Он явно обрадовался. Дурачился, горделиво расхаживая по комнате, коронованный шляпой имени нашей годовщины.
Роберт положил в белый мешок книгу, которую я тогда читала, мой свитер, свои сигареты и бутылку крем-соды. Он не стеснялся ходить с мешком – наоборот, считал, что так больше похож на матроса. Мы сели на поезд линии “Эф” и доехали до конечной.
Мне всегда нравилась дорога до Кони-Айленда. Подумать только, к океану везет обычный поезд метро – волшебство! Я погрузилась в чтение биографии Неистового Коня[57], а затем вдруг вернулась в день сегодняшний и взглянула на Роберта. Он был точно персонаж “Брайтонского леденца”[58] – шляпа 40-х годов, черная сетчатая футболка, мексиканские крестьянские сандалии.
Поезд подъехал к перрону. Я с детским нетерпением вскочила, сунула книгу в мешок. Роберт взял меня за руку.
Я не знала ничего чудеснее, чем Кони-Айленд, чумазый и невинный. Местечко нам под стать: ветхие пассажи, облупленные вывески из былых времен, сахарная вата, куклы-пупсики “Кьюпи” в боа и цилиндрах с блестками. Мы прошлись по балаганам: тогда они находились при последнем издыхании. Шик балаганов поистерся, но они упрямо зазывали посмотреть невиданных уродов: мальчика с ослиной головой, человека-аллигатора и девушку о трех ногах. Роберта завораживал мир цирковых уродов, хотя в последнее время он предпочитал изображать молодых парней в кожаных штанах.
Мы прогулялись по променаду и сфотографировались у старика с древней фотокамерой, снимавшей на фотопластинки. Старик обещал, что карточки будут готовы через час. Мы пошли на дальний конец почти бесконечного пирса, в дощатое кафе, где подавали горячий шоколад и кофе. Стена за спиной кассира была оклеена изображениями Христа, президента Кеннеди и астронавтов. Это было одно из моих самых любимых мест, я часто мечтала устроиться туда работать и поселиться в каком-нибудь из старых доходных домов напротив ресторана “Нэйтанз”.
На всем протяжении пирса маленькие мальчики с дедушками ловили крабов. Клали наживку – сырую курятину – в маленькую клетку, опускали клетку на веревке в воду. В 80-х этот пирс был разрушен сильным штормом, но “Нэйтанз” – любимый ресторан Роберта – уцелел. Обычно у нас хватало денег только на один хот-дог и одну порцию кока-колы. Роберт съедал почти всю сосиску, а я – почти всю капусту. Но в тот день у нас хватило денег на две порции всего, чего мы пожелали. Мы пошли поздороваться с океаном, и я спела Роберту “Coney Island Baby” – песню The Excellents. Роберт написал на песке наши имена.
В тот день мы никем не притворялись и не знали никаких забот. Нам повезло, что этот момент запечатлен на фото. Это наш первый настоящий портрет в Нью-Йорке. Мы такие, какими были на самом деле. Всего несколько недель назад мы были на самом дне, но теперь наша синяя звезда, как выражался Роберт, поднималась к зениту. Поезд “Эф” повез нас в долгий обратный путь. Мы вернулись в свою каморку и разобрали постель, радуясь, что мы вместе.
Мы с Гарри и Робертом сидели в “Эль-Кихоте” – ели креветок с зеленым соусом и рассуждали о слове “магия”. Роберт часто употреблял это слово, говоря о наших отношениях, удачном стихотворении или рисунке, а позднее – при отборе фотографий или контрольных отпечатков.
– Вот в этом есть магия, – говорил он.
Гарри, подыгрывая увлечению Роберта Алистейром Кроули, стал уверять, что этот черный маг ему отец родной.
– Сможешь вызвать своего папу, если мы начертим на столе пентаграмму? – спросила я. Тут к нам присоединилась Пегги и вернула всех с небес на землю:
– Ну что, волшебники-недоучки, кто наколдует презренный металл на оплату обеда?
Чем занималась Пегги? Толком не знаю. Знаю лишь, что она работала в МоМА. Мы часто шутили, что во всем отеле только я и Пегги трудоустроены официально. Пегги – темноглазая, загорелая, с волосами, собранными в тугой “конский хвост”, – была добра и жизнерадостна и, казалось, всех на свете знала. Ее легко было представить в роли второго плана в каком-нибудь фильме про битников. Между бровей у Пегги была родинка, которую Аллен Гинзберг прозвал ее третьим глазом. Мы были занятной компанией. Все разом галдели, любя препирались, затевали словесный спарринг – это была настоящая какофония дружеского спора.
Мы с Робертом ссорились нечасто. Он редко повышал голос, но если уж сердился, это было заметно по глазам, по лбу. Иногда Роберт сердито выставлял челюсть. Улаживать свои конфликты мы ходили в “нехорошую пончиковую” на углу Восьмой авеню и Двадцать третьей улицы. Это было вылитое кафе с картин Эдварда Хоппера – точнее, было бы, если бы он решил нарисовать заведение сети “Данкин донатс”. Кофе был из пережаренных зерен, пончики – черствые, зато тут можно было сидеть до утра. В пончиковой мы не страдали от тесноты – не то что в номере. Нас никто не тревожил. В любой час дня и ночи там толкалась чрезвычайно пестрая публика: наркоманы под кайфом, “ночная смена” проституток, люди, поменявшие страну или пол. В этом мирке легко было оставаться незамеченным – разве что скользнут по тебе взглядом и отвернутся.
Роберт всегда брал пончик с желе, обсыпанный сахарной пудрой, а я – французский круллер. Круллеры почему-то были на пять центов дороже обычных пончиков. Всякий раз, когда я делала заказ, Роберт говорил:
– Патти! На самом деле ты эти круллеры вовсе не любишь. Просто выпендриваешься. Берешь их только потому, что они французские.
Роберт прозвал их “круллеры поэтов”.
Этимологию слова “круллер” нам растолковал Гарри. Оказалось, они родом не из Франции, а из Голландии. Эти легкие воздушные крученые кольца из заварного теста едят в Жирный вторник – накануне Пепельной среды, начала Великого поста. В тесто для крулллеров кладут яйца, сливочное масло, сахар – все, что в пост запрещено. Я провозгласила круллеры святыми пончиками:
– Посередине дырка, чтобы на нимб было похоже.
Гарри всерьез призадумался над моей версией, а затем отчитал меня с притворным раздражением:
– Нет, “круллер” на голландском значит другое. Не “нимб”.
В общем, до сих пор не знаю, много ли в круллерах святости, но с Францией они у меня больше не ассоциировались.
Однажды Гарри и Пегги позвали нас в гости к композитору Джорджу Клейнсингеру[59], который занимал в “Челси” номер из нескольких комнат. Я обычно чуралась походов в гости, особенно к взрослым. Но Гарри соблазнил меня вестью, что Джордж написал музыку к “Арчи и Мехитабель” – серии комиксов о дружбе таракана с уличной кошкой[60]. Комнаты Клейнсингера были скорее тропическими джунглями, чем гостиничным номером: самый подходящий антураж для Анны Каван. Главным сокровищем считалась коллекция экзотических змей, в том числе двенадцатифутовый питон. Роберт зачарованно уставился на змей, но я сильно перетрусила.
Пока все по очереди гладили питона, я невозбранно рылась в музыкальных произведениях Джорджа: ноты были свалены там и сям среди папоротников, пальм и клеток с соловьями. Я возликовала, обнаружив на каталожном шкафу стопку оригинальной партитуры “Аллеи Шинбон” – мюзикла об Арчи и Мехитабель. Но главным открытием для меня стало наглядное подтверждение того, что этот скромный и добродушный джентльмен-змеевод сочинил музыку “Тубы Тубби”. Он сам сказал мне об этом, и я чуть не прослезилась, когда он показал мне оригинальные ноты любимой музыки моего детства.
Отель “Челси” был точно кукольный домик из “Сумеречной зоны”[61]: каждый из ста номеров – отдельная маленькая вселенная. Я бродила по коридорам, высматривая духов отеля – и живых, и мертвых. Немножко озорничала: толкнув приоткрытую дверь, увидела в щелочку рояль Вирджила Томсона[62], или слонялась у двери с табличкой “Артур К. Кларк”, надеясь его подстеречь. Иногда мне встречались немецкий ученый Герт Шифф, не расстававшийся с книгами о Пикассо, или Вива[63], всегда благоухавшая одеколоном “О соваж”. У всех можно было научиться чему-то важному, но никто, похоже, не купался в роскоши. Казалось, даже успешные люди живут как эксцентричные бродяги – на большее средств не хватает.
Я обожала “Челси”, его поблекшую элегантность, его бережно хранимую историю. По слухам, где-то в недрах подвала, который часто заливало, таились чемоданы Оскара Уайльда. Это в “Челси” провел последние часы жизни Дилан Томас, погрузившись в пучины поэзии и алкоголя. Томас Вулф корпел над толстенной рукописью, из которой получился роман “Домой возврата нет”. На нашем этаже Боб Дилан сочинил “Sad-Eyed Lady of the Lowlands”. А еще рассказывали, что Эди Седжвик как-то под кайфом устроила в своем номере пожар – взялась при свете свечки наклеивать себе густые накладные ресницы.
Сколько же людей творило, беседовало и бесновалось в этих комнатах викторианского кукольного домика! Сколько юбок прошуршало по истертому мрамору лестниц! Сколько скитальческих душ заключало здесь союз, оставляло свой след и гибло! Я задувала свечи в руках их призраков, молча переходя с этажа на этаж, мечтая вступить в телепатическую связь с предыдущим поколением гусениц-что-курили-кальян.
Гарри уставился на меня с притворной укоризной. Я расхохоталась.
– Чего смеешься?
– Щекотно.
– Ты что же, чувствуешь щекотку?
– Да, самая настоящая щекотка.
– Феноменально!
Иногда к игре присоединялся Роберт. Гарри затевал с ним игру в гляделки и пытался взять верх, роняя замечания типа: “У тебя немыслимо зеленые глаза!” Партия затягивалась на несколько минут, но стоицизм Роберта всегда побеждал. Гарри никогда не признавал, что Роберт выиграл. Просто отворачивался и возвращался к прерванному разговору, словно и не играл. Роберт многозначительно улыбался, не скрывая удовлетворения.
Гарри увлекся Робертом, но в итоге с ним сдружилась я. Часто я заходила к Гарри одна. По комнате была разложена его огромная коллекция юбок с изящной лоскутной аппликацией – национальная одежда индейцев-семинолов. Этими юбками он очень дорожил и, по-видимому, радовался, когда я их примеряла. А вот к украинским пасхальным яйцам, раскрашенным от руки, он не разрешал мне прикасаться. С этими яйцами он нянчился, точно с малюсенькими младенцами. Яйца, как и юбки, были расцвечены замысловатыми узорами. Как бы то ни было, Гарри позволял мне забавляться своим собранием магических жезлов, которые хранил завернутыми в газеты. Это были шаманские жезлы с тончайшей резьбой, почти все – дюймов восемнадцать длиной. Но мне больше всего нравился самый маленький, не больше дирижерской палочки, покрытый патиной, точно старинные четки, отшлифованные неустанными молитвами.
Мы с Гарри гнали пургу об алхимии и Чарли Пэттоне[64] разом. Гарри мало-помалу монтировал из многочасового отснятого материала свою таинственную экранизацию “Возвышения и падения города Махагонни” Брехта. Что собой представляет этот фильм, никто из нас толком не знал, но каждого из нас Гарри рано или поздно приглашал принять участие в этой неспешной работе. Гарри ставил мне записи ритуалов племени киова с использованием пейота и народные песни Западной Вирджинии. В голосах вирджинских певцов я почувствовала что-то родное. Вдохновилась, сочинила песню, спела ее Гарри. Но моя песня рассеялась в затхлом воздухе его комнаты, заваленной всякой всячиной.
Что мы только не обсуждали – от мифов о Древе Жизни до функций гипофиза. Мои знания были по большей части интуитивными. Воображение у меня было богатое, и я всегда охотно играла в нашу любимую игру: Гарри, точно экзаменатор, задавал вопросы, а в ответе следовало выказать познания и сплести байку на фактической основе.
– Что ты ешь?
– Горох.
– А зачем ты его ешь?
– Хочу уесть Пифагора.
– Под звездами?
– Вне круга.
Начинали мы с простых вопросов и продолжали игру, пока не добивались красивой концовки, ударной фразы, как в лимерике. Обычно у нас это получалось, если только я не спотыкалась, выбрав неточную аллюзию. Гарри не сбивался никогда: казалось, он во всем на свете хоть немного да разбирается. Фактами умел манипулировать, как никто.
А еще Гарри виртуозно плел веревочные узоры[65]. Когда у него было хорошее настроение, он доставал из кармана веревочное колечко длиной несколько футов и сплетал звезду, индейскую богиню или “колыбельку для кошки” (в варианте для одной пары рук). Мы все сидели у его ног в вестибюле и с детским упоением смотрели, как его ловкие пальцы, перекручивая и завязывая узлами кольцо, плетут четкие силуэты. Гарри исписывал сотни страниц научными описаниями веревочных фигур и их символического смысла. И делился с нами этой ценной информацией, которая, увы, не удерживалась в нашей памяти: ведь мы, словно загипнотизированные, глазели, как чародействуют его пальцы.
Однажды я сидела в вестибюле и читала “Золотую ветвь”. Подошел Гарри и заявил: “А, у тебя первое издание, двухтомник! И совсем затрепанный!” И стал настойчиво зазывать меня в магазин Сэмюэля Вайзера – посмотреть хоть одним глазком на сильно дополненное третье издание, предпочитаемое знатоками. У Вайзера был самый широкий в городе ассортимент эзотерической литературы. Я согласилась пойти, если они с Робертом не обкурятся. Собственно, нас троих вместе было опасно выпускать из отеля, даже в здравом уме и трезвой памяти. А наша троица в лавочке оккультных книг – это точно чересчур…
Гарри был близко знаком с братьями Вайзерами, и мне выдали ключ от застекленного шкафа, чтобы я ознакомилась со знаменитым изданием “Золотой ветви” 1955 года: тринадцать тяжелых томов в зеленых обложках с многозначительными заглавиями: “Дух кукурузы”, “Козел отпущения”… Гарри и Вайзер скрылись где-то в подсобных помещениях – скорее всего, сели расшифровывать какой-нибудь рукописный мистический трактат. Роберт раскрыл “Дневник наркомана – злого духа”.
Казалось, мы зависли в магазине на много часов. Гарри долго не появлялся. Потом мы увидели, что он застыл, словно бы в трансе, посреди главного зала. Сколько мы ни наблюдали за ним, он даже не шевелился. Наконец озадаченный Роберт подошел к нему и спросил:
– Что ты делаешь?
Гарри вытаращился на него. Глаза у него были словно у заколдованного козла.
– Читаю.
В “Челси” мы перезнакомились с уймой занятных людей, но когда, прикрыв глаза, я вызываю из памяти их лица, прежде всего почему-то является Гарри. Может, потому, что он первый нам повстречался, когда мы переступили порог отеля. Но скорее всего, причина другая: времена были волшебные, а Гарри верил в волшебство.
* * *
Больше всего Роберт мечтал попасть в круг Энди Уорхола. Подчеркну: он категорично не хотел сделаться протеже Уорхола, сниматься в его фильмах. Роберт часто повторял: “Я знаю секрет фокусов Энди”. Надеялся: стоит им разговориться, и Энди опознает в нем равного. Я не сомневалась, что Роберт заслуживает аудиенции у Энди, но не верила в возможность серьезного разговора между ними: Энди ловко, как угорь, ускользал от бесед по существу.
Мечта Роберта привела нас в “Бермудский треугольник” Нью-Йорка: район “Брауниз”, “Канзас-Сити Макса” и “Фабрики”. Все эти точки находились в двух шагах одна от другой. К тому времени “Фабрика” уже переехала с Сорок седьмой улицы в дом 33 на Юнион-сквер. Уорхоловская тусовка ходила на ланч в “Брауниз” – ресторан здорового питания по соседству с “Фабрикой”, а на ночь закатывалась к “Максу”.
В первый раз мы отправились к “Максу” в сопровождении Сэнди Дейли: побоялись идти одни. Местных правил игры мы не знали, а Сэнди выполняла роль бесстрастного опытного гида. У “Макса” существовала жесткая социальная иерархия: прямо как в школе, вот только высшей кастой считались не здоровяки футболисты или красотки болельщицы. Местная “королева выпускного бала” родилась мужчиной (зато ходила в женском платье и по женственности могла дать сто очков вперед едва ли не любой даме).
“Канзас-Сити Макса” находился на углу Восемнадцатой улицы и Южной Парк-авеню. Теоретически это был ресторан, хотя почти никто из нас по бедности не мог заказывать там съестное. Хозяин, Микки Раскин, слыл покровителем творческих людей: в “час коктейлей” посетители, у которых хватало денег на одну порцию напитка, могли пройти к бесплатному шведскому столу. Поговаривали: если бы не этот шведский стол, в меню которого входили, например, “крылышки Баффало”, сотни нищих художников и трансвеститов умерли бы с голоду. Я за шведским столом у “Макса” никогда не бывала, поскольку днем работала. И Роберт не бывал – гордость не позволяла, да и не пил он спиртного.
Над входом висел громадный черно-белый тент, над окнами – вывески: “Вы входите в “Канзас-Сити Макса”. Обстановка была аскетичная, без претензий на роскошь, единственным украшением служили большие абстрактные полотна – подарки художников, задолжавших заведению астрономические суммы за выпивку. Стены были белые, все остальное – диваны, скатерти, салфетки – красного цвета. Даже коронное блюдо – турецкий горох – подавали в красных мисочках. Главным соблазном было мясо морских и земных тварей: омары и стейки. Роберт стремился попасть в озаренный красными светильниками зал избранных, упорно пробивался к легендарному круглому столу, где все еще витала нежно-розовая аура отсутствующего “серебряного короля”.
Впервые переступив порог “Макса”, мы дальше первого зала не углубились. Уселись за столик, взяли на всех один салат, съели турецкий горох – совершенно несъедобный. Роберт и Сэнди заказали кока-колу, я – чашку кофе. Вокруг все было мертво, как в пустыне. Сэнди помнила времена, когда “Макс” был средоточием светской жизни во вселенной “подземных”[66]: когда за круглым столом, сохраняя безразличный вид, царил Энди Уорхол, сопровождаемый королевой в горностаях – харизматичной Эди Седжвик. Фрейлины были одна красивее другой, а в роли странствующих рыцарей выступали Ундина[67], Дональд Лайонс[68], Раушенберг, Дали, Билли Нейм[69], Лихтенштейн, Джерард Маланга[70] и Джон Чемберлен[71]. В недавнем прошлом за круглым столом сиживали другие короли и королевы – Боб Дилан, Боб Ньювирт[72], Нико, Тим Бакли, Дженис Джоплин, Вива, группа The Velvet Underground. Все сливки антивысшего общества, кого ни назови. Но по их общей кровеносной системе текли амфетамины: разгоняли их жизнь до бешеной скорости и губили на лету. “Колеса” раздували в королях и рыцарях паранойю, постепенно отнимали у них врожденные таланты, внушали сомнения в себе, иссушали красоту.
Ни Энди Уорхол, ни его придворные вельможи больше не появлялись у “Макса”. Энди после выстрела Валери Соланас вообще мало бывал в обществе, но, вероятно, была и другая причина: он просто, по своему обыкновению, заскучал. И все же осенью 1969-го “Макс” оставался культовым рестораном. В дальнем зале собирались те, кто мечтал получить ключик ко второму “серебряному королевству” Энди – новой “Фабрике”, которая, по распространенному мнению, принадлежала скорее коммерции, чем искусству.
Наш дебют у “Макса” прошел тихо. Домой мы вернулись на такси – расщедрились ради Сэнди: шел дождь, нам не хотелось, чтобы подол ее длинного черного платья волочился по грязи.
Первое время мы так и ходили к “Максу” втроем. Сэнди относилась к этим вылазкам абсолютно спокойно и служила буфером между Робертом и мной: мне в этом заведении совсем не нравилось, я злилась и шипела. Но мало-помалу я взяла себя в руки и смирилась с посиделками у “Макса” как с рутинной обязанностью, выполняемой ради Роберта. В восьмом часу вечера я возвращалась с работы, мы с Робертом шли в закусочную и ужинали горячими сырными бутербродами. Рассказывали друг другу, как прошел день, показывали новые творения. А потом долго судили и рядили, в чем пойти к “Максу”.
Гардероб Сэнди не отличался разнообразием, но она тщательно продумывала свои наряды. У нее было несколько одинаковых черных платьев от Осси Кларка, короля Кингз-роуд. Они походили на черные футболки с круглым вырезом – только изящные, с длинными рукавами и подолом в пол. Эти слегка приталенные платья незамысловатого покроя абсолютно соответствовали индивидуальности Сэнди: я мечтала, что разбогатею и накуплю ей целый шкаф таких платьев.
Я же придумывала себе наряды а-ля статистка из французского кино “новой волны”. Составила несколько ансамблей: например, полосатая блузка с широким воротом “Кармен” и красный шарф, точно у Ива Монтана в “Плате за страх”, или зеленые легинсы с красными балетками, как у битниц с левого берега Сены, или аналог костюма Одри Хепберн в “Забавной мордашке”: длинный черный свитер, черные легинсы, белые носки и черные балетки “Капезио”. Каков бы ни был сценарий, на сборы я тратила минут десять, не больше.
Роберт выбирал одежду так, словно превращал себя в живое произведение искусства. Забивал небольшой косяк, выкуривал и анализировал свой скудный гардероб, одновременно рассматривая аксессуары. Марихуану он приберегал для выходов в свет: она успокаивала его нервы, зато подавляла чувство времени. Было очень смешно, но утомительно дожидаться, пока Роберт решит, сколько именно ключей подвесить на пояс.
Сэнди и Роберта роднило внимание к деталям. Идеальный аксессуар они разыскивали с пылом кладоискателей-эстетов, вдохновлялись творчеством Марселя Дюшана, фотографиями Сесиля Битона, Надара или Хельмута Ньютона. Иногда Сэнди в аналитических целях несколько раз щелкала “Полароидом”, и немедленно начинался диспут “Можно ли считать полароидные снимки искусством?”. Наконец, наступал час шекспировского вопроса: надеть Роберту три ожерелья или не надеть? В итоге оказывалось, что одно ожерелье – это слишком неброско, а два создают ложное впечатление. И вновь разгорался спор: три ожерелья или ни одного? Сэнди понимала, что Роберт решает эстетическое уравнение. Да и я тоже понимала, но для меня главным вопросом было – идти к “Максу” или не идти; когда начинались замысловатые обсуждения всяких тонкостей, я отвлекалась – просто теряла нить, точно обкуренный подросток.
* * *
В вечер Хеллоуина, когда дети в пестрых бумажных костюмах, предвкушая удовольствие, перебегали Двадцать третью улицу, я вышла из нашей каморки, одетая в темно-синее платье из “Восточнее рая”, зашагала по белым клеточкам шахматного пола, сбежала вприпрыжку по нескольким маршам лестницы и остановилась у двери нашего нового номера. Бард сдержал обещание – ласково кивнув, положил мне на ладонь ключ от 204-го. Прямо за стеной написал свои последние строки Дилан Томас.
В День Всех Святых мы с Робертом собрали наши скудные пожитки, отнесли в лифт и вышли на третьем. Наш новый номер находился в задней части отеля. Туалет размещался на этаже и давно не ремонтировался. Но в самом номере было очень мило, за окнами виднелись старые кирпичные дома и высокие деревья, растерявшие почти все листья. Двуспальная кровать, раковина с зеркалом, встроенный шкаф без дверцы. Переезд окрылил нас.
Роберт выстроил в ряд под раковиной свои баллончики с краской, а я, порывшись в своей коллекции тканей, завесила шкаф отрезом марокканского шелка. В номере был большой деревянный письменный стол – Роберту для работы. Хорошо, что номер на третьем: я мигом взбегала домой по лестнице вместо того, чтобы ехать на ненавистном лифте. Теперь мне казалось, что холл отеля, где я чувствовала себя как рыба в воде, – продолжение нашей комнаты. Если Роберта не было дома, я усаживалась в холле и преспокойно писала стихи, с удовольствием вслушиваясь в шум вокруг. По холлу сновали другие жильцы, часто говорили мне мимоходом что-нибудь поощрительное. После переезда Роберт почти всю ночь просидел за большим столом, работая над первыми страницами новой книги-раскладушки. Он использовал три мои фотографии из фотоавтомата – я на них в кепке а-ля Маяковский – и окружил марлевыми бабочками и ангелами. Увидев это, я вся разомлела от счастья: как приятно, что мой образ пригодился Роберту для творчества. Я думала, что только благодаря Роберту войду в историю.
Мне наш новый номер подходил больше, чем Роберту. Он отвечал всем моим потребностям, но даже в этом номере мы не могли работать одновременно – тесновато. Поскольку Роберт занял стол, я прикрепила к своей части стены лист атласной бумаги “Арш” и взялась рисовать наш двойной портрет на Кони-Айленде.
Роберт делал эскизы инсталляций, которые не мог воплотить в жизнь, и я чувствовала его досаду. Он переключился на изготовление ожерелий. Его поощрял Брюс Рудоу, считавший, что ожерелья имеют коммерческий потенциал. Роберту всегда нравилось делать ожерелья – сначала для матери, потом для себя. В Бруклине мы с Робертом делали друг дружке особые, все более замысловатые амулеты. В 1017-м номере верхний ящик нашего комода был доверху набит лентами, веревочками, крохотными черепами слоновой кости, бусинами из серебра и цветного стекла, купленными задешево на блошиных рынках и в мексиканских церковных лавках.
Сидя на кровати, мы низали жемчуг, бисер, на который в старые времена выменивали африканских рабов, и лакированные косточки от старых четок. У меня ожерелья получались грубоватые, у Роберта – тонкой работы. Я плела косички из кожи, а он добавлял бусины, перья, узлы и кроличьи лапки. Правда, на кровати работать было неудобно: бусинки терялись в складках одеяла или закатывались между половицами.
Несколько готовых вещей Роберт развесил на стене, остальные – на вешалке с внутренней стороны двери. Брюса ожерелья восхитили, и Роберт стал экспериментировать с новыми замыслами. Подумывал использовать самоцветные бусины, оправлять кроличьи лапки в платину, отливать черепа из серебра и золота. Но пока это было невозможно, мы обходились подручными материалами. Голь на выдумки хитра, а мы были самой настоящей голью перекатной. Роберт виртуозно превращал банальное в божественное. Составные части своих творений он находил в окрестностях – в дешевой галантерее “Лэмстон” напротив отеля и магазине для рыболовов “Кэпитол фишинг” несколькими домами дальше.
В “Кэпитол” стоило покупать плащи-дождевики, бамбуковые удилища или спиннинги “Амбассадер”, но нас интересовали всяческие мелочи. Мы покупали нахлыстовые мушки, блесны с перышками и крохотные свинцовые грузила.
Лучше всего для ожерелий подходили искусственные мухи фирмы “Маски” – всех цветов радуги, пятнистые, белоснежные. Хозяин только вздыхал и вручал нам покупку в бумажном пакетике вроде тех, куда кладут дешевые леденцы. Сразу было видно, что рыбаки из нас никакие, но хозяин нас запомнил и часто продавал со скидкой сломанные блесны с цельными перьями. Однажды он предложил нам подержанную коробку для рыболовных снастей с раскладными полочками: в ней было очень удобно хранить художественные материалы.
В “Эль-Кихоте” мы всегда примечали, кто заказал омаров. Как только посетитель расплачивался и уходил, я ссыпала клешни омаров в салфетку. Дома Роберт мыл клешни, отшкуривал и красил аэрозольной краской. Я произносила молитву, благодаря омара за пожертвованные клешни, а Роберт нанизывал их на веревочку, перемежая узелками и медными бусинами. Я делала браслеты: сплетала кожаные обувные шнурки и дополняла мелкими бусинами. Всю нашу продукцию Роберт преспокойно навешивал на себя: надеялся найти покупателей. Во всяком случае, смотрели на него с любопытством.
Сами мы любили обедать в кафе-автомате, хотя там омаров не подавали. В автоматах обслуживали быстро, а блюда, несмотря на дешевизну, были по-домашнему вкусные. Роберт, Гарри и я часто ходили туда втроем, причем у ребят сборы в дорогу часто длились намного дольше, чем сам обед.
Обычно получалось так. Иду звать Гарри. Он куда-то задевал ключи. Шарю по полу, нахожу ключи под каким-нибудь эзотерическим трактатом. Гарри садится читать этот трактат и по ассоциации вспоминает, что ему нужно найти другую книгу. Пока я ищу второй трактат, Гарри забивает косяк. Приходит Роберт, и они с Гарри курят. Я понимаю: мне тут делать нечего – по обкурке у них уйдет целый час на любое минутное дело. Потом Роберт решает надеть джинсовый жилет, который сделал, отрезав рукава от своей куртки, и возвращается к нам. Гарри изрекает, что мое черное бархатное платье слишком мрачно выглядит, чтобы носить его днем. Пока мы спускаемся по лестнице, Роберт навстречу нам взмывает на лифте: бестолковая суета, точно в стишке про валлийца Теффи[73].
“Хорн и Хардарт” – король всех кафе-автоматов – находился прямо за рыболовным магазином. Занимаешь место за столиком, берешь поднос, идешь к рядам окошек в дальней стене. Опускаешь в прорезь монетки, открываешь стеклянную дверцу, достаешь сэндвич или свежий яблочный пирог. Казалось, эта система навеяна мультиками про Багза Банни и Даффи-Дака. Больше всего я любила тушеную курицу с овощами или особый сэндвич: булка с маком, сверху сыр, горчица и листья салата. Роберту нравились оба их фирменных блюда – запеканка из макарон с сыром и шоколадное молоко. Роберт с Гарри дивились, что я равнодушна к легендарному шоколадному молоку от “Хорн и Хардарт”, но мне оно казалось слишком густым: я выросла на шоколадном сиропе “Боско” и порошковом молоке. В общем, я предпочитала кофе.
Я постоянно чувствовала голод: обмен веществ у меня был быстрый. Роберт мог обходиться без еды намного дольше, чем я. Если у нас кончались деньги, мы вообще ничего не ели. Роберт еще кое-как держался на ногах, хотя его шатало, но я едва не падала в обморок. Однажды, когда на улице моросил дождь, я почувствовала: меня зовет сэндвич с сыром и салатом. Я перерыла все наши вещи, набрала ровно пятьдесят пять центов, облачилась в серое пальто-бушлат и “маяковскую” кепку и отправилась в автомат.
Взяла поднос, опустила монеты, потянула за ручку: окошко не открывалось. Дернула еще раз – не поддается. И тут я разглядела, что сэндвич подорожал – теперь он стоил шестьдесят пять центов. Я расстроилась – это еще мягко сказано. И вдруг у меня над ухом прозвучало:
– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?
Я обернулась. Передо мной стоял Аллен Гинзберг. Мы не были знакомы, но я сразу узнала одного из наших великих поэтов и политических активистов: внешность приметная. Я взглянула в его серьезные темные глаза, под масть его темной кудрявой бороде, и молча кивнула. Аллен добавил недостающий десятицентовик и угостил меня чашкой кофе. Я молча последовала за ним к его столику и вгрызлась в сэндвич.
Аллен представился. Он заговорил об Уолте Уитмене, а я упомянула, что провела детство близ Кэмдена, где Уитмен похоронен. Тут Аллен наклонился вперед и пристально посмотрел на меня:
– Вы женщина?
– Да, – сказала я. – Что-то не так?
Он засмеялся:
– Извините меня. Я принял вас за очень красивого юношу.
Я тут же смекнула что к чему:
– Значит, я должна вернуть сэндвич?
– Нет-нет, ешьте на здоровье. Это я обознался.
Он сказал мне, что пишет большую элегию в память о Джеке Керуаке, который недавно скончался.
– Через три дня после дня рождения Рембо, – сказала я. Я пожала ему руку, и мы разошлись своими дорогами.
Прошло время, и Аллен стал моим добрым приятелем и наставником. Мы часто вместе вспоминали нашу первую встречу, и он однажды спросил, как я рассказала бы о ней другим.
– Я сказала бы, что я была голодна и ты дал мне поесть[74], – сказала я. Собственно, так ведь и случилось.
Наша комната заполнялась всякой всячиной: к папкам с работами, одежде и книгам прибавились материалы, которые Роберт раньше хранил в мастерской Брюса Рудоу: проволочная сетка, марля, канаты на бобинах, баллончики с краской, клей, фанера, рулоны обоев, кафель, линолеум, стопки старинных мужских журналов. Роберт никогда ничего не выбрасывал. Он стал использовать в своем творчестве изображения мужчин так, как еще ни один художник на моей памяти: вырезки из журналов с Сорок второй включал в коллажи, где пересечения линий вели взгляд зрителя за собой. Я говорила:
– А почему ты не хочешь сам фотографировать?
– Да ну, слишком много возни, – отвечал он. – Мне самому лень печатать, а печать в лаборатории нам не по карману.
В Прэтте он занимался фотографией, но по своей нетерпеливости не выносил долгого процесса лабораторной обработки.
Однако поиски мужских журналов тоже были нелегким испытанием. Я оставалась в первом зале и высматривала книги Колина Уилсона, а Роберт шел в заднюю комнату. Мне становилось немного жутковато, точно мы занимались нехорошими делами. Хозяева лавок были несговорчивы: если ты вскрывал целлофановую обертку журнала, чтобы заглянуть внутрь, тебя заставляли его купить. Роберта раздражало это правило: журналы стоили дорого, пять долларов штука, но за эти деньги он получал кота в мешке, о содержании мог лишь догадываться. Когда он наконец-то выбирал себе журнал, мы возвращались в отель бегом. Роберт рвал целлофан, совсем как Чарли – фольгу с шоколадки в надежде на золотой билет. Говорил, что чувствует себя как в детстве, когда, пленившись рекламой в детских журналах, без спроса заказывал наборы-сюрпризы. Потом перехватывал почтальона, хватал бандероль и бежал с ней в туалет: там запирался, вскрывал упаковку и выкладывал на пол комплекты “Юный фокусник”, рентгеновские очки и миниатюрных морских коньков.
Иногда Роберту везло: попадалось несколько картинок, подходящих для начатого коллажа, или что-нибудь яркое, закваска оригинального замысла. Но часто журналы не оправдывали ожиданий, и он швырял их на пол, сокрушаясь, что растранжирил наши деньги.
Порой, как и раньше, в Бруклине, меня озадачивали образы, которые ему приглянулись. Зато методы Роберта были мне близки: я сама когда-то вырезала из модных журналов изысканные платья и наряжала своих бумажных кукол.
– Ты должен фотографировать сам, – говорила я.
Повторяла неустанно.
Я и сама иногда фотографировала, но печатать отдавала в ателье. В лабораторной обработке я ничего не понимала – разве что мельком видела, как печатает свои снимки Джуди Линн. После окончания Прэтта Джуди посвятила себя фотографии. Когда я приезжала к ней в Бруклин, мы иногда целый день занимались съемкой: она фотографировала, я позировала. Мы хорошо спелись: у нас было общее поле визуальных ассоциаций. Спектр источников вдохновения был широчайший – от “Баттерфилд 8”[75] до французской “новой волны”. Джуди снимала кадры из фильмов, которые мы вместе выдумывали. Я не курила, но на фотосессии приносила “Кулс”, которые воровала у Роберта: для цикла по мотивам Блеза Сандрара нам требовался густой дым, для образа а-ля Жанны Моро – черная кружевная комбинация и сигарета.
Когда я показала Роберту снимки Джуди, его позабавили личины, которые я на себя надевала.
– Патти, да ты же некурящая, – говорил он и щекотал меня. – Сигареты у меня воруешь?
Я думала, что он рассердится: сигареты стоили дорого, но когда я в следующий раз поехала к Джуди, он сделал мне сюрприз – вытащил последние две сигареты из помятой пачки.
– Я знаю, что курю понарошку, – говорила я, – но кому от этого плохо? И образ должен быть цельным.
Все это я проделывала исключительно ради Жанны Моро.
Мы с Робертом продолжали поздно вечером ходить к “Максу” – уже вдвоем, без Сэнди. Со временем нас сочли созревшими для дальнего зала; там мы усаживались в углу под флуоресцентной скульптурой Дэна Флэвина, подсвеченной красным. Привратница Дороти Дин прониклась симпатией к Роберту и стала нас впускать.
Дороти была миниатюрная, чернокожая и гениальная. Она была блестяще образованна. Носила очки в оправе “арлекин” и классические трикотажные костюмы-двойки. У “Макса” Дороти охраняла дверь в дальний зал, точно жрец-абиссинец – Священный Ковчег. Без одобрения Дороти никто не смел и на порог ступить. Роберт соответствовал ее кислотно-едкому языку, ее язвительному юмору. Меня Дороти остерегалась, а я – ее: мы старались не переходить друг дружке дорогу.
Я знала, что Роберту важно бывать у “Макса”. Я не могла отказать ему в этом ежевечернем ритуале – ведь Роберт, со своей стороны, очень поддерживал меня в моей творческой работе. Микки Раскин разрешал нам часами сидеть за столиком, почти ничего не заказывая: мы только потягивали кофе и кока-колу. Иногда за весь вечер зал так и не оживал, люди не появлялись. Измотанные, мы брели домой пешком, и Роберт заявлял:
– Больше никогда не пойдем.
В другие вечера царила лихорадочная живость, точно в нехорошем берлинском кабаре 30-х годов, пульсирующем маниакальной энергией. Раздражительные актрисы затевали визгливые перепалки с оскорбленными трансвеститами. Казалось, все тут проходят кастинг у призрака – призрака Энди Уорхола. “Интересно, он ими хоть немножко интересуется?” – размышляла я.
В один из таких вечеров к нам подошел Дэнни Филдс[76] и пригласил за круглый стол. Этот незамысловатый жест означал, что нас берут на испытательный срок. Для Роберта это была знаменательная перемена. Роберт повел себя красиво – спокойно кивнул и повел меня к круглому столу. Ничем не выдал, что мечтал об этом моменте. Я всегда была признательна Дэнни за его участие в нашей судьбе.
За круглым столом Роберт почувствовал себя раскованно: наконец-то он оказался там, где хотел. А мне стало не очень-то уютно – какое там. Девушки были красивые, но недобрые – наверно, потому, что ими интересовалось лишь меньшинство присутствующих мужчин. Я чувствовала: меня здесь просто терпят, зато Роберта находят привлекательным. Он был объектом их страсти, а их круг избранных – его кругом. Казалось, тут Роберта хотели все: и женщины и мужчины. Но в те времена Робертом двигали амбиции, а не половое влечение.
Роберт ликовал, что преодолел мелкое и одновременно колоссальное препятствие – попал за круглый стол. Но я предчувствовала, что круглый стол даже в его звездный час обречен на гибель. Так уж заведено: Энди разогнал своих рыцарей круглого стола, их место заняли мы, а затем, несомненно, и нас вытеснит следующее поколение тусовщиков. Свое предчувствие я держала при себе.
Я обвела взглядом всех, омытых кровавым светом дальнего зала. Дэн Флэвин посвятил свою инсталляцию памяти жертв вьетнамской войны. Никому из завсегдатаев не было суждено погибнуть во Вьетнаме, но почти всех сразили беспощадные болезни поколения.
* * *
Возвращаясь из прачечной с чистым бельем, я услышала за дверью голос: Тим Хардин? Песня “Black Sheep Boy”? Откуда? Оказалось, Роберт принес старый проигрыватель – получил его вместо денег за работу грузчиком – и поставил нашу любимую пластинку. Сделал мне сюрприз. Проигрывателя у нас не было со времен Холл-стрит.
Дело было в воскресенье накануне Дня благодарения. Поздняя осень, но день выдался солнечный – прямо-таки бабье лето. Утром я собрала наше грязное белье, надела старое хлопчатобумажное платье, шерстяные чулки и теплый свитер и отправилась на Восьмую авеню. Спросила Гарри, не надо ли чего постирать, но он театрально содрогнулся при мысли, что я притронусь к его подштанникам, и спровадил меня. Я загрузила белье в машину, бухнула туда же несколько горстей питьевой соды и прогулялась за пару кварталов в “Азия де Куба” – выпить чашку кафе кон лече.
И вот теперь я складывала наши выстиранные вещи. Зазвучала песня, которую мы называли нашей: “How Can You Hang On to a Dream?”[77] Мы оба были мечтатели, но только Роберт осуществлял свои мечты на практике. Я умела зарабатывать на жизнь, а Роберт был целеустремлен и сосредоточен на своем деле. Планировал свое будущее, но и мое тоже. Ему хотелось, чтобы мы творчески росли, но была одна помеха – теснота. Все стены в номере были завешаны нашими произведениями. Роберту было негде воплощать задуманные инсталляции. Когда он распылял краску из баллончиков, я кашляла все надсаднее – кашель у меня никогда не проходил. Иногда Роберт пристраивался поработать на крыше отеля, но климат ему не благоволил: становилось все холоднее, дул ветер. Наконец Роберт решил найти для нас какой-нибудь лофт без отделки. Стал просматривать “Виллидж войс”, расспрашивать людей.
Наконец Роберту повезло. По соседству с нами жил печальный толстяк в мятом плаще. Он выгуливал своего французского бульдога взад-вперед по Двадцать третьей. У них с собакой были одинаковые физиономии – каскад отвисших складок. Хозяина мы прозвали Человек-Свинья. Роберт приметил, что он живет неподалеку от “Челси” над баром “Оазис”. Однажды вечером Роберт остановился, погладил бульдога. Завязался разговор. Роберт спросил, нет ли в его доме свободных квартир, а Человек-Свинья сообщил ему, что занимает весь третий этаж, но комната окнами на улицу служит ему просто кладовкой. Роберт спросил, не сдаст ли он ее нам. Сначала Человек-Свинья не соглашался. Но Роберт понравился бульдогу, и в итоге сговорились, что с первого января мы арендуем комнату за сто долларов в месяц. Человек-Свинья предложил: если Роберт внесет залог, пусть въезжает прямо сейчас и приступает к ремонту. Роберт плохо представлял себе, откуда взять такие деньги, но они ударили по рукам.
Роберт повел меня смотреть помещение. Окна во всю стену выходили на Двадцать третью улицу, на здание ИМКА, над подоконником торчала верхушка вывески “Оазиса”. Все мечты Роберта сбылись: комната как минимум втрое больше нашего номера, очень светлая, из стены торчит штук сто гвоздей.
– А тут мы развесим ожерелья, – сказал он.
– Мы?
– Естественно. Ты тоже можешь тут работать. Это будет наша общая мастерская. Ты снова сможешь рисовать.
– Первым делом нарисую Человека-Свинью, – сказала я. – Мы ему стольким обязаны! А о деньгах не беспокойся. Достанем.
Вскоре мне подвернулось полное собрание Генри Джеймса в двадцати шести томах практически задаром. Оно было в идеальном состоянии. Я знала, что один клиент “Скрибнерз” охотно купит эти книги. Гравюры даже не выцвели, прикрывавшие их листки папиросной бумаги были совершенно целыми, ни на одной странице уголок не загнут. На перепродаже я заработала сто долларов. Сложила пять двадцатидолларовых купюр в носок, обвязала ленточкой и вручила Роберту.
– Не знаю, как тебе это удается! – воскликнул он, заглянув в носок.
Роберт вручил деньги Человеку-Свинье и занялся уборкой на нашей части этажа. Работы было невпроворот. Возвращаясь вечером, я заглядывала туда и обнаруживала Роберта по колено в хаосе, среди невообразимых залежей “свинского” мусора: пыльных ламп дневного света, рулонов утеплителя, коробок с просроченными консервами, полупустых флаконов без этикеток с моющими средствами, мешков для мусора, штабелей помятых жалюзи, заплесневелых ящиков с многолетними наслоениями налоговых деклараций и стопок пожелтевших журналов “Нэшнл джиогрэфик”, перевязанных красно-белыми веревочками (веревочки я приберегла – на браслеты).
Роберт вынес мусор, все отмыл, покрасил стены. Ведра мы одалживали в отеле, там же наливали воды и возили в мастерскую на тележке. А когда все было готово, молча застыли вдвоем посреди зала, воображая, сколько всего теперь сможем сделать.
Такой светлой комнаты у нас еще никогда не было. Даже после того, как Роберт до половины закрасил огромные окна черной краской, свет лился водопадом. Мы разыскали на помойке матрас, столы и стулья. Я сварила на электроплитке эвкалиптовый отвар и протерла им пол.
Первое, что принес Роберт из “Челси”, – папки с нашими работами.
У “Макса” дело пошло лучше. Я перестала смотреть вокруг судейским взглядом и научилась ловить кайф от происходящего. Завсегдатаи круглого стола приняли меня в компанию – до сих пор удивляюсь почему, ведь моя натура, по сути, не вписывалась в их тусовку.
Приближалось Рождество, и повсюду сквозила печаль, словно все разом спохватились, что им не с кем провести праздник.
Их называли “травести” или “трансвеститами”, но Уэйн Каунти, Холли Вудлаун, Кэнди Дарлинг и Джеки Кертис[78] не вмещались в столь узкую категорию. Они были настоящие актрисы, перформансисты, эстрадные клоунессы. Уэйн был остроумен, Кэнди – миловидна, Холли – эмоциональна, но я ставила на успех Джеки Кертис. На мой взгляд, у нее были самые большие перспективы. Она успешно манипулировала разговором с начала до конца только для того, чтобы процитировать какую-нибудь меткую фразу Бетт Дэвис. А еще она умела носить халат. В гриме она была вылитая старлетка 30-х годов с поправкой на моды 70-х. На веках – тени с блестками. В волосах – блестки. Пудра с блестками.
Я блестки не переваривала, а сидеть рядом с Джеки значило возвращаться домой, сверкая блестками от головы до пят.
Накануне праздников Джеки загрустила. Чтобы утешить, я угостила ее “Снежком” – немыслимо дорогим лакомством, о котором все мечтали. Это была огромная порция шоколадного торта: сверху – кокосовая стружка, внутри – ванильное мороженое. Джеки сидела, ела и роняла в лужицу мороженого огромные слезы с блестками. Рядом с ней присела Кэнди Дарлинг, опустила в тарелку свой палец с длинным накрашенным ногтем, начала утешать, нежно приговаривая.
В Джеки и Кэнди было что-то щемящее. Они срежиссировали свою жизнь по образцу голливудских киноактрис – только не реальных, а мифических. У обеих было что-то общее с Милдред Роджерс – неотесанной неграмотной официанткой из “Бремени страстей человеческих”. Кэнди походила на Ким Новак[79] внешне, а Джеки изъяснялась в ее стиле. И Джеки и Кэнди опередили свое время, но так и не дожили до эпохи, которую предвосхитили, – умерли слишком рано. “Первопроходцы без фронтира”, говоря словами Уорхола.
В рождественский вечер пошел снег. Мы прогулялись пешком на Таймс-сквер – посмотреть на белый рекламный щит: “война окончена! Если вы этого хотите. Счастливого Рождества! Джон и Йоко”. Щит висел над лотком, где Роберт обычно покупал мужские журналы, между “Чайлдз” и “Бенедиктс” – двумя ночными закусочными.
Мы подняли глаза и изумились: этот кадр из нью-йоркской жизни был таким бесхитростно-человечным! В снежной круговерти Роберт взял меня за руку, я заглянула ему в лицо. Он сощурился, кивнул: то, как Джон и Йоко преобразили Сорок вторую, произвело на него большое впечатление. Для меня главным было содержание, для него – форма.
Получив новый заряд вдохновения, мы вернулись пешком на Двадцать третью взглянуть, как там наша мастерская. Ожерелья висели на гвоздях. Роберт прикрепил к стене несколько наших рисунков. Мы стояли у окна и смотрели, как на заднем плане, позади светящейся вывески “Оазиса” – изогнутой пальмы – падает снег.
– Гляди, снегопад в пустыне, – сказал Роберт.
Мне вспомнилось, как в фильме Говарда Хоукса “Лицо со шрамом” Пол Муни и его подруга смотрят в окно на неоновую вывеску “Мир принадлежит вам”. Роберт стиснул мою руку.
Шестидесятые приближались к концу. Мы с Робертом отпраздновали дни рождения. Сначала Роберту исполнилось двадцать три года. Потом мне. Двадцать три – идеальное простое число. Роберт сделал мне в подарок вешалку для галстуков с изображением Пресвятой Девы. Я подарила ему семь серебряных черепов, нанизанные на кожаный шнурок.
Он надел на шею шнурок с черепами. Я надела галстук. Мы почувствовали, что полностью готовы к семидесятым.
– Это будет наше десятилетие, – сказал Роберт.
* * *
Вива ворвалась в вестибюль, неприступная, как Грета Гарбо: надеялась отпугнуть мистера Барда, чтобы не смел расспрашивать о накопившихся долгах. Кинорежиссер Шерли Кларк и фотограф Дайана Арбус вошли по отдельности, но с одинаковой целеустремленностью, сознавая свою великую миссию на этом свете. Джонас Микас – непременный фотоаппарат на шее, непременная таинственная улыбка на губах – запечатлевал быт и нравы в закоулках около “Челси”. А я стояла и держала в руках чучело черного ворона, купленное за бесценок в Музее американских индейцев. Насколько я поняла, музейщики обрадовались случаю от него отделаться. Я решила назвать ворона Реймоном в честь Реймона Русселя, автора “Locus Solus”. Не успела я подумать, что наш холл – настоящие волшебные врата миров, как тяжелая стеклянная дверь распахнулась, точно от порыва ветра, и на пороге появилась какая-то знакомая фигура в черно-красном плаще. Сальвадор Дали. Он нервно оглядел вестибюль, потом заметил моего ворона и улыбнулся. Положил мне на макушку свою изящную костлявую руку, проговорил:
– Вы – словно ворон, готический ворон.
– Вот так-то, – сказала я Реймону, – самый обычный день в “Челси”.
В середине января мы познакомились со Стивом Полом, менеджером Джонни Винтера. Стив, харизматичный импресарио, подарил шестидесятым годам один из лучших рок-клубов Нью-Йорка – “Сцену”. Клуб находился на боковой улице неподалеку от Таймс-сквер. Там собирались заезжие музыканты, по ночам устраивались джем-сейшены. Стив походил на Оскара Уайльда и Чеширского Кота сразу: одевался в синий бархат и взирал на окружающий мир с непреходящим изумлением. В то время он вел переговоры о записи диска Джонни Винтера. Поселил своего клиента в одном из люксов “Челси”.
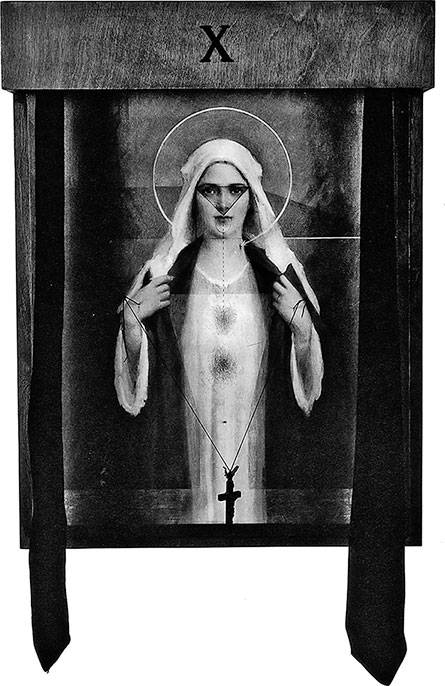
Вешалка для галстуков. 30 декабря 1969
Как-то вечером мы все повстречались в “Эль-Кихоте”. С Джонни поговорили совсем недолго, но я поразилась его уму и инстинктивному нюху на подлинное искусство. Это был открытый и добродушно-чудаковатый собеседник. Нас пригласили на концерт Винтера в “Филмор-Ист”. Я еще никогда не видела, чтобы артист так уверенно общался с аудиторией. Джонни, бесстрашный, светло-воинственный, то кружился на манер дервиша, то расхаживал по сцене крадучись, и его совершенно белые волосы струились вуалью. На гитаре он играл быстро и плавно, зрителей обвораживал своими глазами разного цвета и шутливо-демоническим оскалом.
На День сурка мы пришли на небольшую вечеринку в отеле в честь Джонни – праздновали его контракт с “Коламбиа рекордз”. Почти весь вечер трепались с Джонни и Стивом Полом. Джонни понравились ожерелья Роберта, и он пожелал приобрести одно из них; зашла речь и о том, чтобы Роберт сшил ему плащ из черной сетчатой ткани.
Сидя рядом с ними, я подметила, что теряю материальную прочность, размякаю: как будто тело стало пластилиновым. Казалось, никто даже не замечает во мне ни малейших изменений. Но волосы Джонни спадали, как два длинных белых уха. Стив Пол, в синем бархатном костюме, опираясь на гору подушек, неестественно медленно курил косяки, зато Мэтью то возникал рядом, то улетучивался. Я же ощутила в себе такие перемены, что сбежала на одиннадцатый этаж и заперлась в туалете, которым мы пользовались раньше.
Я не могла толком понять, что со мной стряслось. Больше всего мои ощущения походили на сцену со “съешь меня” и “выпей меня” из “Алисы в стране чудес”. Я попыталась взять пример с Алисы – взглянуть со спокойным любопытством на эти психоделические злоключения. И рассудила: кто-то мне подсунул галлюциноген. Я никогда раньше не употребяла никаких наркотиков и знала о них лишь из наблюдений за Робертом и описаний наркотических видений у Готье, Мишо и Томаса де Куинси. Я забилась в угол туалета, не зная, что теперь делать. Понимала лишь: мне не хочется, чтобы люди видели, как я раздвигаюсь и складываюсь на манер подзорной трубы – даже если это мерещится мне одной.
Роберт – а ведь он, наверно, и сам был под кайфом – обшарил весь отель, пока меня не отыскал. Уселся под дверью туалета и разговаривал со мной, помогал найти дорогу обратно.
Наконец, я отодвинула задвижку. Мы вышли прогуляться, а затем вернулись в наш безопасный номер. Следующий день провели в постели. Когда я встала, то с драматичным видом надела темные очки и плащ. Роберт вошел в мое положение и ничуточки меня не дразнил, даже насчет плаща.
Мы провели прекрасный день, который перерос в редкостную страстную ночь. Я восторженно описала эту ночь в дневнике и даже, точно школьница, пририсовала на полях маленькое сердечко.
В последующие несколько месяцев наша жизнь изменилась – как стремительно, даже передать трудно. Казалось, мы близки, как никогда, но Роберт изводился из-за того, что мы не могли свести концы с концами – и это вскоре омрачило наше счастье.
Ему никак не удавалось найти работу. Он боялся, что нам будет не по карману арендовать сразу мастерскую и номер в “Челси”. Роберт вечно обивал пороги галерей, а возвращался обычно поникший и обескураженный.
– На работы они толком и не смотрят, – жаловался он. – Просто пробуют меня закадрить. Я раньше пойду канавы копать, чем соглашусь спать с этими людьми.
Роберт сходил в бюро по трудоустройству насчет работы на неполный день, но ничего так и не подвернулось. Иногда у него покупали ожерелья, но в мир моды не получалось пробиться быстро. Роберт все больше переживал из-за денег и из-за того, что добывать их приходилось мне. Эти заботы вновь заставили его задуматься о заработках на панели.
Первые попытки Роберта выйти на панель были продиктованы любопытством и навеяны романтикой “Полуночного ковбоя”. Но он обнаружил, что на Сорок второй работать тяжело. Решил перебраться в более безопасный район Джо Даллесандро[80] – на Ист-Сайд около “Блумингдейлз”.
Я умоляла его не ходить, но он твердо решил попробовать. Мои слезы его не остановили. Я сидела и смотрела, как он собирается для работы в “ночную смену”. Вообразила, как он стоит на углу, румяный от волнения, и предлагает себя какому-то незнакомцу, чтобы заработать деньги для нас обоих.
– Пожалуйста, будь осторожен, – только и сказала я, что тут еще скажешь.
– Не волнуйся. Я тебя люблю. Пожелай мне удачи.
Кто поймет душу молодых? Только те, кто молод.
* * *
Я проснулась. Роберта рядом не было. На столе лежала записка. “Не спится. Подожди меня”. Я привела себя в порядок и взялась писать письмо сестре. Тут вошел Роберт, очень взбудораженный:
– Мне надо кое-что тебе показать.
Я быстро оделась и пошла с ним в мастерскую. По лестнице мы уже не шли, а бежали.
Я вошла в нашу комнату, быстро огляделась. От энергии Роберта, казалось, вибрировал воздух. На длинной черной клеенке были разложены зеркала, электролампочки и цепи: он начал работу над новой инсталляцией. Но Роберт привлек мое внимание к другой работе, которая была прислонена к “стене ожерелий”. Утратив интерес к живописи, Роберт перестал натягивать холсты на подрамники, но один подрамник приберег. Теперь рама была целиком облеплена вырезками из мужских журналов – лицами и торсами молодых парней. Роберт чуть ли не трясся.
– Получилось, правда ведь?
– Да, – сказала я. – Это гениально.
Работа была относительно незамысловатая, но от нее словно бы исходила некая стихийная мощь. Ничего лишнего – идеальное произведение.
На полу валялись бумажные обрезки. Воняло клеем и лаком. Роберт повесил раму на стену, закурил, и мы без слов уставились на нее вместе.
Говорят, дети не видят разницы между одушевленным и неодушевленным. Я другого мнения. Ребенок по волшебству вдыхает жизнь в куклу или оловянного солдатика. Так и художник вдыхает жизнь в свои произведения – точно ребенок – в игрушки. Роберт наполнял неодушевленные предметы – и в искусстве и в жизни – своими творческими импульсами, своей священной сексуальной силой. Превращал в произведения искусства все, что угодно, – связку ключей, кухонный нож, обычную деревянную раму. Одинаково любил свое творчество и свое имущество. Однажды выменял на свой рисунок пару кавалерийских сапог – безумно непрактичный поступок, зато красивый на грани сакральности. Сапоги он начистил до зеркального блеска: старательно, как грум, прихорашивающий борзую собаку.
Роман Роберта с щегольской обувью достиг кульминации однажды вечером, когда мы возвращались из “Макса”. Шли по Седьмой авеню, завернули за угол и набрели на пару туфель из крокодиловой кожи: они стояли на тротуаре и просто-таки сияли. Роберт подхватил туфли, прижал к груди, заявил, что нашел клад. Туфли были темно-коричневые, с шелковыми шнурками, на вид совершенно не ношенные. Они на цыпочках вошли в инсталляцию, из которой Роберт их часто изымал, чтобы надеть. Туфли были ему великоваты, но если засунуть в их острые носки бумагу, с ног не сваливались, хотя, пожалуй, плохо сочетались с джинсами и водолазкой. Осознав это, Роберт сменил водолазку на черную сетчатую футболку, дополнил ансамбль огромной коллекцией ключей на поясе и снял носки. Теперь он был готов к ночи у “Макса”: на такси денег нет, зато обувь элегантная. Ночь туфель, как мы ее прозвали, стала для Роберта знамением, что мы на верном пути, хотя путей было множество, и все они пересекались…
Грегори Корсо мог, едва переступив порог, мгновенно устроить кавардак, но его легко прощали: он столь же виртуозно умел распространять вокруг несказанную красоту.
Вероятно, это Пегги познакомила меня с Грегори: они дружили. Мне он очень полюбился вдобавок к тому, что я считала его одним из наших величайших поэтов. На моей тумбочке прочно поселилась потрепанная книжка Грегори “С днем рождения, Смерть”. Среди поэтов-битников Грегори был самым молодым. Он был красив, как руины, и ходил горделиво, как Джон Гарфилд[81]. К самому себе Грегори не всегда относился серьезно, но к своим стихам – с максимальной серьезностью.
Грегори любил Китса и Шелли. Бывало, входил в холл “Челси” пошатываясь, в сползающих брюках и фонтанировал стихами своих любимых поэтов. Когда я пожаловалась, что не способна закончить ни одного стихотворения, он процитировал мне Малларме: “Поэты не заканчивают стихов – они стихи бросают”. И добавил:
– Не волнуйся, девочка, все у тебя получится.
Я спрашивала:
– Откуда ты знаешь?
А он отвечал:
– Уж я-то знаю.
Грегори водил меня в “Проект Поэзия” – коллектив поэтов, который обосновался в старинной церкви Святого Марка на Восточной Десятой улице. На поэтических вечерах Грегори донимал выступающих, прерывая банальности криками: “Говно! Говно! Где кровь? Найди себе донора!” Наблюдая за его реакцией, я сказала себе: “Если когда-нибудь будешь читать свои стихи вслух, постарайся вести себя поживее”.
Грегори составлял мне списки книг для обязательного прочтения, порекомендовал самый лучший словарь, поощрял меня, давал мне задания. Грегори Корсо, Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз – все они были моими учителями, все они поодиночке пересекали холл отеля “Челси” – моего нового университета.
* * *
– Мне надоело, что я похож на маленького пастушка, – сказал Роберт, изучая в зеркале свою прическу. – Сможешь меня подстричь под рок-звезду пятидесятых?
Я нежно любила его непокорные кудри, но все же достала ножницы и взялась за работу, настроившись на стиль рокабилли. Потом скорбно подобрала с пола один локон и положила в книгу. Роберт, очарованный своим новым обликом, долго вертелся перед зеркалом.
В феврале он повел меня на “Фабрику” смотреть рабочие материалы фильма “Мусор”. На “Фабрику” нас пригласили впервые, и Роберт ждал просмотра точно праздника. Меня фильм оставил равнодушной – наверно, я нашла его недостаточно французским. Роберт непринужденно общался с приближенными Уорхола. Правда, его обескуражила холодно-больничная атмосфера новой “Фабрики” и разочаровало, что сам Уорхол так и не появился. А у меня от сердца отлегло, когда я увидела среди присутствующих Брюса Рудоу. Он познакомил меня со своей приятельницей Дайаной Подлевски, которая в фильме играла сестру Холли Вудлаун. Дайана была добрейшей души южанка с огромной шапкой африканских кудряшек. Одевалась она в марокканском стиле. Я вспомнила, что видела ее на фотографии Дайаны Арбус, сделанной в “Челси”, – девушка с внешностью мальчика.

В отеле “Челси”, номер 204. 1970
Когда мы спускались на лифте к выходу, менеджер “Фабрики” Фред Хьюз заговорил со мной свысока:
– О-о-о, волосы как у Джоан Баэз. Народные песни поете?
Мне нравилась Джоан Баэз, но эта фраза меня почему-то уязвила. Роберт взял меня за руку.
– Просто не обращай на него внимания, – сказал он.
У меня испортилось настроение. Бывают ночи, когда в голове бесконечно вертится то, что нас раздражает. Слова Хьюза гудели у меня в ушах. “Ну и хрен с ним”, – сказала я себе, но меня бесило, что он не воспринял меня всерьез. Я посмотрелась в зеркало над раковиной. И сообразила, что не меняла прическу со школьных лет. Уселась на пол, разложила вокруг себя музыкальные журналы – у меня их было немного, но кое-что имелось. Обычно я покупала журналы ради новых фото Боба Дилана, но сегодня разыскивала другого. Я вырезала все снимки с Китом Ричардсом, какие попались. Рассмотрела. Взяла в руки ножницы. Так я прорубила сквозь джунгли путь из эпохи фолк-рока в новые времена: ножницами вместо мачете. Потом вымыла голову в туалете на этаже, высушила. Почувствовала какое-то освобождение.
Вернувшись домой, Роберт удивился, но остался доволен моей стрижкой.
– Что за дух в тебя вселился? – спросил он. Я молча пожала плечами. Когда же мы пошли к “Максу”, моя стрижка произвела фурор. Я ушам своим не верила: из-за такой мелочи столько разговоров? Я была все та же, но мой социальный статус внезапно вырос. Стрижка под Кита Ричардса притягивала ко мне собеседников, как магнит. Мне вспомнились мои одноклассницы. Мечтали стать певицами, а сделались парикмахершами. Я ни к той, ни к другой профессии не стремилась, но в последующие несколько недель много кого постригла, да еще и спела на сцене “Ля МаМы”.
У “Макса” кто-то спросил, не андрогин ли я. Я спросила, что это такое.
– Ну, знаешь, как Мик Джаггер.
Я рассудила, что андрогин – это круто. Предположила, что андрогин – значит одновременно урод и красавец. Всего лишь стрижка – а я чудесным образом проснулась андрогином.
Внезапно передо мной открылись широкие перспективы. Джеки Кертис попросила меня сыграть в ее пьесе “Роковая женщина”. Я без проблем заменила мальчика, который играл партнера Пенни Аркад – с пулеметной скоростью выпаливала реплики типа “Она была оторви да брось, и он ее оторвал, а потом бросил”.
“Ля МаМа” была одним из первых экспериментальных театров – разряда не просто “офф-Бродвей”, а “офф-офф-офф” и еще несколько “оффов”. В педагогическом колледже я играла в любительских постановках – Федру в “Ипполите” Еврипида, мадам Дюбонне в “Поклоннике”[82]. Играть на сцене мне нравилось, но зубрить текст и штукатурить лицо толстым слоем театрального грима я ненавидела. Авангардный театр оставался мне почти непонятен, но я решила, что поработать с Джеки и ее труппой будет занятно. Джеки взяла меня в спектакль без проб, и я сама не понимала, во что вляпалась.
* * *
Я сидела в вестибюле и старательно притворялась, что вовсе не дожидаюсь Роберта. Когда он исчезал в лабиринте своего мира жиголо, у меня душа была не на месте. В голову ничего не шло. Я сидела в своем обычном кресле, уткнувшись в свою оранжевую тетрадку с циклом стихов памяти Брайана Джонса. Я была одета в стиле фильма “Песня юга”[83]: соломенная шляпа, куртка “с плеча Братца Кролика”, рабочие ботинки и высоко подвернутые брюки. Билась над несколькими строчками – все теми же, пока меня не отвлек странно знакомый голос:
– Чем занимаемся, милочка?
Я подняла глаза: незнакомое лицо, идеальные темные очки.
– Пишу.
– Вы поэт?
– Может быть.
Я заерзала в кресле, напуская на себя безразличный вид, словно и не узнала этого человека. Но его ни с кем нельзя было перепутать: манера растягивать слова, нахальная улыбка… Я прекрасно понимала, кто передо мной, – человек из “Не оглядывайся”[84]. Второй герой. Бобби Ньювирт, миротворец-подстрекатель, альтер-эго Боба Дилана. Он был художник, автор-исполнитель песен и рисковый человек. Ему доверяли свои секреты многие из великих умов и музыкантов его поколения – поколения, которое опережало мое всего на один такт.
Я тщательно постаралась скрыть благоговейный трепет. Настолько тщательно, что встала, молча кивнула и, не прощаясь, направилась к двери. Он окликнул меня:
– Эй, а где это вы обучились такой походке?
Я обернулась:
– По “Не оглядывайся”.
Он рассмеялся и пригласил меня в “Эль-Кихоте” выпить текилы. Я вообще-то не пила, но постеснялась ударить в грязь лицом и одну рюмку осушила – правда, без соли и лимона. Общаться с Ньювиртом было легко: мы поболтали обо всем на свете, от Хэнка Уильямса до абстрактного экспрессионизма. Похоже, я вызвала у него симпатию. Он взял у меня из рук тетрадку, полистал. И видимо, счел, что я не безнадежна. Спросил:
– А песни писать не думали?
Я не знала, что ответить.
– Чтобы к нашей следующей встрече песня была, – сказал он, когда мы выходили из бара. И на этом простился.
Когда он ушел, я поклялась себе, что напишу для него песню. Ради смеха я придумывала тексты для Мэтью, и для Гарри сочинила несколько песенок в аппалачском стиле, но не принимала эти опыты всерьез. Зато теперь я получила настоящее задание от человека, ради которого стоит поработать.
Роберт вернулся поздно. Он обиделся и слегка рассердился оттого, что я выпивала с каким-то посторонним мужчиной. Но на следующее утро я ему заявила: если моим творчеством заинтересовался человек уровня Боба Ньювирта, это обнадеживает. Роберт согласился со мной.
– А вдруг именно он уговорит тебя петь? Но никогда не забывай, кто первый сказал, что ты должна петь.
Роберту всегда нравился мой голос. Когда мы жили в Бруклине, он просил спеть ему колыбельную для успокоения нервов, и я пела ему песни из репертуара Пиаф и баллады из сборника Чайлда[85].
– Да не хочу я петь. Я хочу просто писать для него песни. Я хочу быть поэтом, а не певицей.
– Ты можешь быть и поэтом и певицей сразу, – сказал он.
Почти весь день в Роберте чувствовалась внутренняя борьба, он впадал то в нежность, то в уныние. Я видела: в нем что-то вызревает, но Роберт не желал обсуждать эту тему.
А потом между нами повисла зловещая тишина, которая не рассеивалась несколько дней. Роберт много спал; проснувшись, просил, чтобы я почитала ему мои стихи, особенно посвященные ему. Сначала я заподозрила, что его обидели. Но затем, вслушиваясь в его долгое молчание, задумалась над другой гипотезой: уж не появился ли в его жизни кто-то еще?
Его безмолвие я восприняла как знамение. Что ж, такое происходило с нами не впервые. Мы ничего не обсуждали, но я понемногу внутренне готовилась к неизбежным переменам. Мы все еще оставались любовниками, и нам обоим, думаю, было нелегко обсудить все открытым текстом. Роберт, как это ни парадоксально, словно бы хотел притянуть меня еще ближе к себе. Наверно, это было сближение перед разрывом: так настоящий джентльмен дарит своей любовнице драгоценности, прежде чем объявить, что между ними все кончено.
В воскресенье было полнолуние. Роберт, весь взвинченный, внезапно заявил, что ему нужно кое-куда сходить. Он долго и пристально смотрел на меня.
– У тебя все нормально? – спросила я.
– Не знаю, – ответил он.
Я проводила его до перекрестка. Постояла на улице, глядя на луну. Позднее, разволновавшись, сбегала выпить кофе. Луна сделалась кроваво-красной.
Он наконец-то вернулся, уткнулся головой в мое плечо и заснул. Я не требовала от него объяснений. Позднее он признался мне, что перешел Рубикон. Переспал с мужчиной не ради денег. Я смогла понять его шаг. Понять, но только отчасти. Мои доспехи пока не сделались непробиваемыми, и Роберт, мой рыцарь, проделал в них несколько брешей – пусть даже не нарочно.
Мы с ним стали дарить друг другу еще больше подарков. Мелочи, которые делали сами или отыскивали в пыльном углу ломбарда. Вещи, которые никому больше не приглянулись. Сплетенные из волос кресты, потемневшие брошки, валентинки-хайку из обрывков лент и ремешков. Мы оставляли друг другу записки, сладости. Вещи. Как будто вещами можно было заткнуть дыру, заново отстроить стену, которая вот-вот рухнет. Заткнуть рану, которую мы сами и прорубили, чтобы впустить новый для себя опыт.
Несколько дней мы не видели Человека-Свинью, но слышали вой его собаки. Роберт вызвал полицию, и дверь взломали. Оказалось, Человек-Свинья умер. Роберт зашел в его квартиру: пригласили для опознания. Человека-Свинью увезли, собаку тоже забрали. Часть лофта, которую занимал Человек-Свинья, была вдвое больше нашей. Роберт инстинктивно начал о ней мечтать, хотя и был крайне подавлен кончиной Человека-Свиньи.

В отеле “Челси”, номер 204. 1970
Мы были уверены, что из мастерской нас выгонят – ведь официального договора аренды мы не заключали. Роберт пошел к домовладельцу и честно признался, что мы снимали помещение у Человека-Свиньи. Домовладелец рассудил: из-за стойкого запаха смерти и собачьей мочи будет непросто найти арендатора. Он предложил нам снять весь этаж. Просил он на тридцать долларов меньше, чем мы платили за номер в “Челси”, предложил два месяца отсрочки – на уборку и ремонт. Чтобы упокоить духов Человека-Свиньи, я нарисовала рисунок с подписью “Я видела человека, он гулял с собакой”. Когда рисунок был закончен, Роберт, похоже, успокоился и больше не переживал из-за печальной смерти Человека-Свиньи.
Само собой, мы ни за что не наскребли бы денег сразу на номер в “Челси” и целый этаж над “Оазисом”. Мне очень не хотелось покидать “Челси”, расставаться с призраками писателей и поэтов, с Гарри, с туалетом. Мы долго обсуждали наши планы. Я займу переднюю часть лофта, поменьше, а Роберт – дальнюю. На сэкономленные деньги будем оплачивать электричество и прочие счета. Я понимала, что решение практичное и открывает большие перспективы. У нас обоих будет место для работы, жить станем рядом. Но все равно мы очень печалились, особенно я. В отеле мне очень нравилось, и я сознавала: после переезда все будет уже не то.
– Что с нами станется? – спросила я.
– Мы навсегда останемся “мы”, – ответил он.
Ни я, ни Роберт не забыли клятвы, которую дали друг другу в такси, когда ехали из “Оллертона” в “Челси”. Очевидно, мы были еще не готовы разойтись своими дорогами.
– Подумаешь, большое дело! Я буду жить прямо за стеной, – сказал он.
Нам пришлось вытрясать из карманов мелочь. Требовалось четыреста пятьдесят долларов – арендная плата за месяц и залоговый платеж. Роберт стал исчезать чаще, чем обычно, приносил по двадцать долларов. Я написала несколько рецензий на диски, и теперь мне штабелями присылали пластинки бесплатно. Те, которые мне нравились, я рецензировала, а потом несла всю стопку в магазинчик “Свобода бытия” в Ист-Виллидж, где их покупали по доллару штука. Десять пластинок – уже деньги. Собственно, пластинки приносили мне больше денег, чем рецензии: я была далеко не плодовитым автором, да и писала обычно о малоизвестных музыкантах – Патти Уотерс, Клифтоне Ченьере, Альберте Эйлере. Мне было интереснее не критиковать, а знакомить людей с артистами, которые, возможно, пока не замечены. Общими усилиями мы с Робертом накопили нужную сумму.
Я терпеть не могла упаковывать вещи и делать уборку. Роберт охотно взял на себя это бремя: выбрасывал лишнее, орудовал шваброй и кистью, совсем как раньше в Бруклине. Я же все время проводила в “Скрибнерз” и в “Ля МаМе”. Вечером после репетиций мы встречались у “Макса”. Теперь мы были достаточно высокого мнения о себе, чтобы спокойно, с хозяйским видом восседать за круглым столом.
Генеральная репетиция “Роковой женщины” состоялась 4 мая, в день, когда расстреляли демонстрацию студентов Кентского университета[86]. У “Макса” о политике, в сущности, никогда не разговаривали, если не считать “политических игрищ” на “Фабрике” – разнообразных интриг. Как правило, все разделяли мнение, что правительство коррумпировано, а воевать во Вьетнаме нехорошо, – вот и весь интерес к политике. И все же ужас Кентского расстрела витал над сценой, и спектакль прошел без особого блеска.
Но позднее, после официальной премьеры, дело пошло на лад. Роберт ходил на все спектакли, часто приводил новых друзей. Среди них была Динь-Динь, одна из “фабричных девушек”. Жила она на Двадцать третьей в комплексе “Лондон-террас”. Роберту импонировало ее живое остроумие. У нее было личико задорного ангелочка, но язык – острый как бритва. Я добродушно сносила ее насмешки, рассудив, что для Роберта Динь-Динь – все равно что для меня Мэтью.
Это Динь-Динь познакомила нас с Дэвидом Кролендом. Внешне Дэвид был просто близнец Роберта: высокий, стройный, с темными кудрями, бледной кожей и темно-карими глазами. Он был из хорошей семьи, учился в Прэтте на отделении дизайна. В 1965 году Энди Уорхол и Сьюзен Боттомли приметили его на улице и уговорили сниматься в кино. Сьюзен по кличке Международный Бархат готовили в качестве следующей суперзвезды, наследницы Эди Седжвик. У Дэвида был бурный роман со Сьюзен, а когда в 1969-м она его бросила, он сбежал в Лондон, где, как в теплице, цвели пышным цветом кино, дизайн одежды и рок-н-ролл.
Его взял под свое крыло шотландский кинорежиссер Дональд Кеммел. Кеммел находился в самом центре этого созвездия лондонской богемы: он и Николас Роуг только что сняли фильм “Представление”, где сыграл Мик Джаггер. Дэвид, топ-модель из “Бойз инкорпорейтед”, был абсолютно уверен в себе и никому не давал спуску. Когда его упрекали – мол, он наживается на своей красоте, Дэвид парировал: “Я лично – нет. А вот другие на моей красоте наживаются”.

Дэвид делил свое время между Лондоном и Парижем, а в начале мая вернулся в Нью-Йорк. Остановился у Динь-Динь в “Лондон-террас”, и она охотно всех нас перезнакомила. Дэвид был обаятельный человек. Он уважительно отнесся к тому, что Роберт и я – пара. Он обожал бывать у нас в мастерской. Называл ее “ваша фабрика искусства”. Смотрел на наши работы с искренним восторгом.
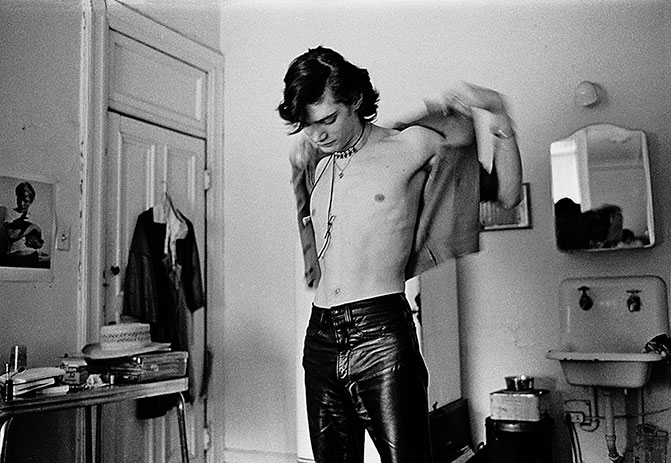
С появлением Дэвида рассеялись тучи, тяготевшие над нашей жизнью. Роберту было приятно общаться с Дэвидом, он радовался, что Дэвид высоко ценит его работы. Именно Дэвид раздобыл для Роберта один из первых заказов. Нужно было сделать разворот для “Эсквайра” – портреты Зельды и Скотта Фитцджеральд. Роберт изобразил их с глазами, замазанными краской. Гонорар составил триста долларов; Роберт еще ни разу не получал столько денег зараз.
У Дэвида была машина, белый “корвер” с красной обивкой. Как-то он повез нас кататься вокруг Центрального парка. Мы с Робертом впервые вместе ехали на автомобиле, если не считать такси или машины моего папы, который подвозил нас в Нью-Джерси от автовокзала. Дэвид был не то чтобы богач, но уж зажиточнее Роберта. Он помогал нам тактично и великодушно: если вел Роберта в ресторан, сам оплачивал счет, а Роберт дарил ему ожерелья и маленькие рисунки. Совершенно естественно, что Дэвида и Роберта потянуло друг к другу. Дэвид ввел Роберта в свой мир, в общество, где Роберт вскоре стал своим.

Они проводили вместе все больше времени. Я наблюдала, как Роберт собирался – точно джентльмен на охоту. Продумывал все детали. Цветной носовой платок: сложить и засунуть в задний карман. Браслет. Жилет. Причесаться – это вообще длительная процедура, медлительная, методичная. Он знал, что мне нравится, когда его волосы слегка растрепаны, а я знала, что не ради меня он укрощает свои кудри.
Роберт начал вести светскую жизнь и просто-таки расцвел. Он знакомился с людьми, вхожими на “Фабрику”, подружился с поэтом Джерардом Малангой. Джерард выходил на сцену с The Velvet Underground: танцевал и орудовал хлыстом. Роберта он водил по местам вроде секс-шопа “Сундук наслаждений”. Приглашал в один из самых изысканных литературных салонов города. Роберт настоял, чтобы я сходила на одно из собраний – оно проводилось в жилом комплексе “Дакота” в квартире Чарльза Генри Форда, редактора журнала “Вью”, который впервые познакомил Америку с сюрреализмом.
В салоне мне показалось, будто я на воскресном обеде в гостях у родственников. Поэты по очереди читали бесконечные стихотворения, а я спрашивала себя: “Неужели Форд в глубине души не жаждет вернуться в салоны своей молодости, где царила Гертруда Стайн, где бывали Бретон, Мэн Рей и Джуна Барнс?” Однажды Форд пододвинулся к Роберту и сказал:
– У вас немыслимо синие глаза.
Меня это страшно развеселило: глаза у Роберта были зеленые, это все отмечали.
Я не переставала дивиться, как успешно Роберт адаптировался в обществе. Когда мы познакомились, он был ужасно застенчив, а теперь он лавировал среди рифов “Макса”, “Челси”, “Фабрики” и прямо на моих глазах завоевывал успех.
* * *
Наша жизнь в “Челси” подходила к концу. Да, мы собирались переехать всего лишь в дом по соседству, но я знала: перемена колоссальная. Сознавала: мы станем больше работать, но в каком-то смысле отдалимся и друг от друга, и от номера Дилана Томаса. Мой пост в вестибюле “Челси” займет кто-то другой.
Чуть ли не последнее, что я сделала в “Челси”, – закончила работу над подарком ко дню рождения Гарри. Это была “Алхимическая перекличка” – стихотворение с моими иллюстрациями, где были зашифрованы наши с Гарри беседы об алхимии. Лифт ремонтировали, и я поднялась в 705-й номер по лестнице. Собиралась постучаться – но Гарри сам открыл дверь. Он был в лыжном свитере – это в мае-то. В руках держал пакет молока. Показалось, он собирается налить молоко в огромные блюдца своих удивленных глаз.
Мой подарок он рассмотрел с большим интересом и тут же засунул в какую-то папку. Это была большая честь и огромное несчастье: несомненно, мое стихотворение навеки затерялось в бесконечном лабиринте его архива.
Гарри решил дать мне послушать нечто особенное – запись редкого обряда с пейотом, сделанную много лет назад. Попытался вставить пленку в головку магнитофона – бобинного “Уолленсека”, но что-то забарахлило.
– Эта пленка вся спуталась – еще хуже твоих волос, – пробормотал он с досадой. Уставился на меня, принялся рыться в своих ящиках и коробках, пока не отыскал серебряную щетку для волос с ручкой слоновой кости и длинной светлой щетиной. Я потянулась к ней.
– Не прикасайся! – шикнул он на меня. Молча уселся в свое кресло, а я – у его ног. В полном молчании Гарри вычесал из моих волос все колтуны. Я предположила, что щетка принадлежала его покойной матери.
Потом он спросил, есть ли у меня деньги.
– Нету, – сказала я, и он театрально рассердился. Но я знала Гарри: ему просто захотелось спугнуть мимолетное ощущение близости. Всякий раз, когда Гарри совершал красивый жест, ему казалось, что нужно немедленно поставить все с ног на голову.
В последний день мая Роберт собрал своих новых друзей у себя в лофте. Он крутил на нашем проигрывателе песни артистов, которых издавала фирма “Мотаун”. Вид у него был совершенно счастливый. В лофте нашлось место для танцев – не то что в номере в “Челси”.
Я немного побыла на вечеринке и вернулась в нашу комнату в “Челси”. Села на кровать и разревелась. Потом умылась над нашей маленькой раковиной. В тот момент – в первый и в последний раз в жизни – мне показалось, будто ради Роберта я поступилась чем-то своим.
Вскоре мы вошли в колею новой жизни. В нашем коридоре я, совсем как в “Челси”, ступала по клеткам шахматного пола. Первое время мы оба спали в малом лофте, пока Роберт прибирался в большом. Когда я впервые легла спать одна, поначалу все было хорошо. Роберт оставил мне проигрыватель, и я слушала Пиаф и писала, но потом обнаружила, что не могу сомкнуть глаз. Мы привыкли спать в обнимку, что бы в нашей жизни ни случалось. В четвертом часу утра я завернулась в муслиновую простыню и поскреблась в дверь Роберта. Он моментально открыл.
– Патти, – сказал он, – что же ты так долго?
Я вошла, пытаясь скрыть смятение. Очевидно, он всю ночь проработал. Я заметила новый рисунок, компоненты новой инсталляции. А у его кровати – мой портрет.
– Я знал, что ты придешь, – сказал он.
– Мне приснился кошмар, и я не смогла заснуть снова. В туалет захотелось.
– И куда ты пошла, в “Челси”?
– Да нет, пописала в пустой стакан.
– О нет, Патти, нет!
Если требовалось сходить по-большому, приходилось отправляться в “Челси”: долгий путь в ночи.
– Ну ладно, китаянка, залезай, – сказал он.
От работы меня отвлекало все, но больше всего – я сама. Роберт приходил в мой лофт и читал мне нотации. Без его направляющей руки я погрузилась в безумный хаос. Пишущую машинку пристроила на ящик из-под апельсинов. Пол был завален листками лощеной бумаги с недописанными песнями, размышлениями о смерти Маяковского, размышлениями о Бобе Дилане. Всюду лежали пластинки, которые требовалось отрецензировать. Стены были увешаны портретами моих героев, но мои свершения выглядели далеко не героическими. Я садилась на пол, пробовала писать, но вместо этого хватала ножницы и принималась состригать себе волосы.
События, которых я ожидала, не происходили. События, которых я совершенно не предвидела, случались.
Я поехала навестить родных. Мне нужно было как следует подумать о выборе своего пути. Я спрашивала себя, правильным ли делом занимаюсь. Или все мои затеи – ерунда? Меня мучила совесть, совсем как в тот вечер, когда я играла в спектакле, а в Огайо стреляли по студентам. Я хотела творить, но так, чтобы мое творчество на что-то влияло.
Мои родные сидели за столом. Отец читал нам вслух Платона. Мама готовила сэндвичи с фрикадельками. Как всегда, за нашим семейным столом царила атмосфера товарищества. Внезапно меня позвали к телефону. Это была Динь-Динь. Без проволочек она сообщила мне, что у Роберта роман с Дэвидом.
– В эту минуту они вместе, – произнесла она не без торжества. Я спокойно ответила, что звонить было необязательно – я уже в курсе.
И повесила трубку, чувствуя, как обращаюсь в камень. Тем не менее у меня проскочила мысль: неужели она просто выразила словами мою собственную интуитивную догадку? Я не могла взять в толк, зачем Динь-Динь позвонила. По доброте душевной? Непохоже – не такие уж мы близкие подруги. Интересно, она позвонила из вредности или просто любит посплетничать? – гадала я.
Был и еще один вариант: она солгала. Возвращаясь домой на автобусе, я решила: ничего говорить не буду, дам Роберту шанс рассказать все мне самому в той форме, в какой он захочет.
Роберт был весь красный, совсем как в тот раз, когда в “Брентано” спустил в унитаз гравюру Блейка. Оказалось, на Сорок второй он увидел один мужской журнал. Многообещающий, но дорогой – за пятнадцать долларов. Деньги у Роберта были, но он хотел удостовериться, что журнал заслуживает такой суммы. Роберт сорвал с журнала целлофан, но тут вернулся хозяин магазина и его застукал. Начал орать, требовать, чтобы Роберт заплатил. Роберт разнервничался, швырнул журналом в хозяина, тот бросился к нему. Роберт бежал от самого магазина до метро, от метро – домой.
– И все из-за какого-то проклятого журнала.
– А журнал был хороший?
– Не знаю, на вид – да, но этот тип отбил у меня все желание.
– Тебе надо самому фотографировать. Все равно у тебя получится лучше, чем у них.
– Ну, не знаю… Пожалуй, стоит попробовать.
Через несколько дней мы зашли к Сэнди. Роберт как бы невзначай взял в руки ее фотоаппарат “Полароид”.
– Можно, я его одолжу ненадолго?
* * *
“Полароид” в руках Роберта. Физическое действие – резкое движение руки. Звук щелчка – кадр сделан. Предвкушение: через шестьдесят секунд выяснится, что получилось. Процесс, немедленно дающий результат, отлично подходил темпераменту Роберта.
Первое время он забавлялся фотоаппаратом, как игрушкой. Сомневался, что фотография придется ему по душе. Вдобавок кассеты для “Полароида” стоили дорого: примерно три доллара за десять кадров, неплохие деньги для 1971 года. Зато получалось на несколько порядков лучше, чем в фотоавтомате. И фото сами проявляются прямо у тебя на глазах.
Я стала для Роберта первой моделью. Со мной он чувствовал себя непринужденно, а ему требовалось время на оттачивание мастерства. “Полароид” был устроен просто, но сильно ограничивал возможности фотографа. Мы сделали бесчисленное количество снимков. Поначалу Роберту приходилось меня сдерживать. Я уговаривала его сделать нечто а-ля обложка “Bringing It All Back Home”, где Боб Дилан окружен своими любимыми вещами. Разложила свои игральные кости, автомобильный номер с надписью “ГРЕШНИКИ”, две пластинки – “Blonde on Blonde” и песни Курта Вайля, надела черную комбинацию, как у Анны Маньяни.
– Слишком много всякой хрени навалено, – сказал он. – Дай я просто так тебя сфотографирую.
– Но это мои любимые вещи, – возразила я.
– Мы не обложку для альбома делаем. Мы занимаемся искусством.
– Ненавижу искусство! – завопила я, и он меня щелкнул.
Первой моделью мужского пола для Роберта стал он сам. Никто не усомнился бы в его праве снимать самого себя. Он держал ситуацию под контролем. Глядя на себя, осознавал, что именно ему хочется увидеть.
Первыми снимками Роберт остался доволен, но из-за дороговизны кассет был вынужден отложить фотоаппарат в сторону. Впрочем, пауза продлилась недолго.
Роберт тратил много времени на отделку своего лофта и экспозицию своих работ в нем. Но иногда косился на меня с беспокойством:
– Все нормально?
– Не волнуйся, – отвечала я. Сказать по чести, я была вовлечена во столько разных проектов, что сексуальная ориентация Роберта не была для меня первоочередной заботой.
Дэвид мне нравился, Роберт создавал произведения исключительного уровня, а я сама впервые смогла самовыражаться так, как мечтала. Моя комната отражала пестрый хаос моего внутреннего мира: то ли товарный вагон, то ли сказочная страна.
Как-то днем в гости зашел Грегори Корсо. Сначала он заглянул к Роберту, и они покурили, так что, когда он добрался до меня, солнце уже клонилось к закату. Я сидела на полу и печатала на своем ремингтоне. Вошел Грегори, неспешно оглядел завалы из стаканчиков для мочи и сломанных игрушек.
– Ага. Местечко по мне.
Я выволокла из угла старое кресло. Грегори закурил сигарету и стал читать стихи из моей стопки “оборванных на половине”, и задремал, и прожег окурком подлокотник кресла. Я потушила подлокотник, выплеснув на него полчашки кофе. Грегори проснулся и допил то, что оставалось в чашке. Я ссудила ему несколько долларов на неотложные расходы. Направляясь к двери, он глянул на старинное французское распятие, висевшее над моим матрасом. Под ногами Христа был нарисован череп с надписью memento mori.
– Это значит: “Помни, что мы смертны”, – сказал Грегори. – Но поэзия бессмертна.
Я молча кивнула.
Когда он ушел, я села на кресло и провела пальцами по ожогу от окурка – свежему шраму, памятке об одном из наших величайших поэтов. Появление Грегори всегда означало, что неприятностей не оберешься, он мог устроить настоящий бедлам, но оставил нам стихи, чистые, как новорожденный олененок.
Роберта и Дэвида окружала завеса тайны. Оба обожали загадочность в умеренных дозах, но, насколько я понимаю, Дэвид был слишком чистосердечен, чтобы скрывать от меня их связь. Между ним и Робертом возникли трения.
Кульминация произошла на вечеринке, куда мы отправились вчетвером: мы с Робертом, Дэвид и его приятельница Лулу де ля Фалез. Мы все танцевали. Мне нравилась Лулу, харизматичная рыжеволосая муза Ива Сен-Лорана, дочь одной из моделей Скьяпарелли и французского графа. На руке у нее был тяжелый африканский браслет. Она расстегнула его, и оказалось, что ее тоненькое запястье обвязано красным шнурком.
– Шнурок повязал Брайан Джонс, – сказала она.
Казалось, вечер удался. Вот только Роберт с Дэвидом все время отходили в угол и что-то бурно обсуждали. Внезапно Дэвид схватил Лулу за руку, увел ее с танцпола и без объяснений направился к выходу.
Роберт побежал за ним, я пошла следом. Дэвид и Лулу уже садились в такси.
– Не уезжай! – закричал Роберт.
Лулу озадаченно уставилась на Дэвида:
– У вас что, любовь?
Дэвид хлопнул дверцей, такси умчалось.
После этого Роберт был вынужден рассказать мне о том, что я уже знала. Я сохраняла спокойствие. Тихо сидела, пока он подбирал слова, пытаясь объяснить, что сейчас произошло. Я не испытывала никакого злорадства от того, что Роберт мучится. Понимала: ему трудно. Передала ему сказанное Динь-Динь.
Роберт вспылил:
– Что же ты молчала?
Роберт страшно расстроился, что Динь-Динь рассказала мне не только о романе, но и о том, что он гомосексуалист. Казалось, запамятовал, что о его ориентации мне уже известно. Наверно, он опечалился еще и потому, что на него впервые прилюдно навесили ярлык. О его романе с Терри во времена нашей бруклинской жизни знали только я, он да сам Терри.
Роберт заплакал.
– Ты уверен? – спросила я.
– Ни в чем я не уверен. Я хочу делать свое дело. Сам знаю: у меня получается. А больше я ничего не знаю… Патти, – сказал он и обнял меня, – тебя это все никак не затрагивает.
После этой истории Роберт почти не разговаривал с Динь-Динь. Дэвид переехал на Семнадцатую улицу, в места, где когда-то жил Вашингтон Ирвинг. Я спала с одной стороны стены, Роберт – с другой. Наша жизнь бежала так быстро, что мы сбивались с ног.
Позднее, оставшись наедине со своими мыслями, я испытала запоздалую эмоциональную реакцию на произошедшее. На душе стало тяжело: я расстроилась, что Роберт мне не доверился. Он просил меня не волноваться, но я все-таки разволновалась. Тем не менее я понимала, отчего он не мог мне признаться. Мне кажется, Роберту претила необходимость формулировать свои порывы на языке сексологии, втискивать свою личность в рамки терминов. Влечение к мужчинам одолевало его, но мне никогда не казалось, будто оно хоть чуть-чуть уменьшает его любовь ко мне. Я знала: Роберту нелегко разорвать наши физические узы.
Мы с Робертом по-прежнему хранили нашу клятву. Не бросали друг друга. Я никогда не смотрела на него через призму его сексуальной ориентации. Мои представления о нем не рухнули. Для меня он оставался художником всей моей жизни.
Бобби Ньювирт въехал в город, точно беспечный ездок. Стоило ему сойти с коня, отовсюду стекались художники, музыканты и поэты: сбор всех индейских племен. Он был катализатором жизни. Влетал в комнату и тащил меня куда-нибудь, сводил с другими художниками и музыкантами. Я была всего лишь неуклюжим жеребенком, но он ценил и поощрял мои жалкие потуги на сочинение песен. Мне хотелось на деле подтвердить его веру в меня. Я работала над длинными стихотворениями для устного исполнения – сюжетными балладами на манер Слепого Вилли Мактелла[87] и Хэнка Уильямса.
5 июня 1970 года он повел меня в “Филмор-Ист” на концерт Crosby, Stills, Nash and Young. Вообще-то их музыка была не в моем вкусе, но на Нила Янга я смотрела благоговейно: его песня “Ohio” произвела на меня большое впечатление. Казалось, в ней сжато отражена задача творца – ответственно высказывать свое мнение о происходящем. Песня была посвящена памяти четырех юных студентов Кентского университета, которые ради мира на Земле расстались с жизнью.
Потом мы поехали в Вудсток, где The Band записывали альбом “Stage Fright”. Звукорежиссером был Тодд Рандгрен. Робби Робертсон усердно трудился над композицией “Medicine Man”. Почти все остальные разбрелись по каким-то развеселым вечеринкам. Я до рассвета просидела с Тоддом. Мы разговаривали без умолку, обнаружили, что у нас обоих корни в Аппер-Дерби[88]. Мои дед и бабка жили неподалеку от мест, где Тодд родился и вырос. И вообще мы были странно похожи: трезвенники, трудоголики, категоричные, неказистые на вид, склонные к идиосинкразии.
Бобби продолжал открывать передо мной свой мир.
Через него я познакомилась с Тоддом, художниками Брайсом Марденом и Ларри Пунсом, музыкантами Билли Суоном, Томом Пекстоном, Эриком Андерсеном, Роджером Макгинном и Крисом Кристофферсоном. Точно стая перелетных гусей, они устремлялись к отелю “Челси” в ожидании приезда Дженис Джоплин. Единственной верительной грамотой, которая стала для меня пропуском в закрытый мир этих людей, было поручительство Бобби, а его слово было непреложно. Он представил меня Дженис словами: “А это поэт”, и с тех пор Дженис только так меня и называла.
Мы все пошли на концерт Дженис на Уоллменовском катке в Центральном парке. Все билеты были проданы, огромные толпы безбилетников собрались на валунах снаружи забора. Я стояла рядом с Бобби сбоку от сцены, загипнотизированная электрическими разрядами, которые исходили от Дженис. Внезапно начался дождь, грохнул гром, сверкнула молния, и сцена опустела. Продолжать концерт было невозможно. Техники начали убирать аппаратуру. Но зрители, не желавшие расходиться, засвистели.
Дженис расстроилась.
– Они меня освистывают, чел! – вскрикнула она, обращаясь к Бобби.
Бобби откинул челку с ее лба:
– Лапушка, они не тебя освистывают, а дождь.
Представители общины самозабвенных музыкантов, обитавших в “Челси”, часто пробирались в люкс Дженис со своими акустическими гитарами. Мне выпала честь наблюдать за работой над песнями для ее нового альбома. Дженис была королевой этого круга, устроенного как колесо со спицами. Она восседала в мягком кресле, всегда, даже днем, с бутылкой “Саутерн комфорт”. Обычно при Дженис неотлучно находился Майкл Поллард[89]. Они были точно дружные близнецы: одна и та же манера говорить – “понимаешь, чел” через каждые два слова. Я сидела на полу, когда Крис Кристофферсон спел ей “Me and Bobby McGee”, и Дженис подхватила припев. Да, я присутствовала при этом знаменательном моменте. Но его знаменательности почти не заметила: слишком молода я была и слишком поглощена собственными переживаниями.
Роберт проколол себе сосок. Договорился с одним врачом, и тот проделал эту операцию в комнате Сэнди Дейли. Во время процедуры Дэвид Кроленд держал Роберта в объятиях. Сэнди засняла на 16-миллиметровую пленку весь этот далеко не священный ритуал, “Песнь любви”[90] в версии Роберта. Я не сомневалась, что под мастерским руководством Сэнди фильм получится отличный. Но операция как таковая вызывала у меня омерзение, и я не пошла смотреть – не сомневалась, что место прокола воспалится, и оказалась права. Потом я спросила Роберта:
– Ну и какие ощущения?
– Интересно и жутко, – ответил он.
И мы втроем отправились к “Максу”.
Мы сидели в дальнем зале с Дональдом Лайонсом. Как и все главные герои “Фабрики”, Дональд был из семьи нью-йоркских ирландцев-католиков. В Гарварде у него проявились большие способности к античной филологии, его ожидала блестящая научная карьера. Но Дональд подпал под чары Эди Седжвик, которая изучала там же историю искусств. Все забросил и последовал за Эди в Нью-Йорк. Подшофе Дональд бывал крайне язвителен, и все вокруг рыдали – кто от смеха, кто от обиды. В хорошем настроении Дональд авторитетно рассуждал о кино и театре, цитировал малоизвестные тексты древних греков и римлян и стихи Т.-С. Элиота.
Дональд спросил, пойдем ли мы наверх слушать The Velvet Underground. День был судьбоносный: группа впервые после своего воссоединения играла в Нью-Йорке, а у “Макса” впервые проходил рок-концерт. Узнав, что я еще никогда не слышала “Велветов” живьем, Дональд всполошился и потащил нас наверх.
В их музыке мне сразу послышалось что-то родное – пульсирующий ритм сёрф-рока. К текстам Лу Рида я прежде особо не прислушивалась, но тут до меня дошло – благодаря посредничеству Дональда, – какая это мощная поэзия. В маленьком верхнем зале “Макса” не помещалось и ста человек. “Велветы” раздухарились на сцене, мы тоже в стороне не остались. Роберт вышел на танцпол вместе с Дэвидом. Он был в тонкой белой рубашке, расстегнутой сверху донизу, и я видела, как просвечивает сквозь нее золотое кольцо в соске. Дональд взял меня за руку, и мы пошли танцевать… как бы танцевать. Зато Дэвид с Робертом отплясывали что надо.
Когда в наших спорах речь заходила о Гомере, Геродоте или “Одиссее”, Дональд всегда оказывался прав. А насчет The Velvet Underground он оказался прав вдвойне: в Нью-Йорке не было группы лучше.
Накануне Дня независимости Тодд Рандгрен подошел ко мне и спросил:
– Хочешь съездить со мной в Аппер-Дерби в гости к моей маме?
Мы запускали на пустыре фейерверки, ели мороженое “Карвел”. Потом мать Тодда и я остановились на дворе их дома, наблюдая, как Тодд играет со своей младшей сестрой. Мать озадаченно косилась на его разноцветные волосы и бархатные клеши.
– Я родила какого-то марсианина, – вырвалось у нее.
Я удивилась: мне-то казалось, что Тодд крепко стоит на земле обеими ногами – во всяком случае, по моим меркам. На обратном пути в город мы единодушно заключили, что состоим в родстве: марсианин и марсианка, два сапога пара.
В тот же вечер у “Макса” мне повстречался драматург Тони Инграссия, работавший в “Ля МаМе”. И пригласил меня на кастинг для своей новой пьесы “Остров”. Я не проявила особого восторга, но Тони, вручая мне текст, пообещал:
– Никаких блесток, никакой штукатурки на лице.
Я сочла, что играть будет легко: роль не предполагала взаимодействия с другими персонажами. Моя героиня Леона была абсолютно зациклена на себе, ширялась амфетаминами и произносила какие-то бессвязные речи о Брайане Джонсе.
В содержании пьесы я так толком и не разобралась – могу лишь сказать, что Тони Инграссия написал эпопею. В ней играли все наши, совсем как в “Маньчжурском кандидате”.
Я надела свою драную блузку с широким воротом и размазала вокруг глаз косметику: мне полагалось выглядеть как можно хуже. Думаю, я вполне походила на енота-наркомана. По роли полагалось, чтобы в одной из сцен меня стошнило. С этим я легко управилась: набирала в рот толченый горошек и размоченную кукурузную муку и через несколько минут, в нужный момент, извергала. Но как-то на репетиции Тони принес мне шприц и сказал как ни в чем не бывало:
– Сделай себе укол водой. Ну, знаешь, оцарапай немножко руку, чтобы кровь пошла, и люди подумают, что ты ширяешься.
Я чуть не упала в обморок. Я и смотреть-то на шприц не могла, а уж втыкать его в руку…
– Не буду, – заявила я.
И всех вокруг шокировала:
– Ты разве никогда не ширялась?
Из-за моей внешности все заведомо принимали меня за наркоманку. Я наотрез отказалась колоться. В итоге мне на руку налепили горячий воск, и Тони показал мне, что делать.
Это недоразумение страшно развеселило Роберта, и он меня немилосердно вышучивал. Он отлично знал, что шприцев я панически боюсь.
Роберту нравилось видеть меня на сцене. Он ходил на все репетиции, причем в таких невероятных нарядах, что вполне заслуживал какой-нибудь своей роли. Тони Инграссия любовался им и повторял:
– Потрясающий типаж. Эх, если б еще и играть умел…
– Да ты просто посади его на стул, – советовал Уэйн Каунти. – Пусть сидит и ничего не делает – этого будет вполне достаточно.
Роберт спал один. Я подошла к его двери, хотела постучаться – оказалось, не заперто. Остановилась перед его кроватью и рассматривала его, спящего, совсем как в момент нашей первой встречи. Все тот же мальчик, вихрастый пастушок. Я присела на кровать, и он проснулся. Приподнялся на локте, улыбнулся:
– Хочешь под одеяло, китаянка? – и начал меня щекотать.
Мы боролись и безостановочно хохотали. Потом он вскочил:
– Поехали на Кони-Айленд. Еще раз сфотографируемся.
Мы проделали все, что доставляло нам столько удовольствия: написали свои имена на песке, перекусили в “Нэйтанз”, прогулялись по “Астроленду”. Сфотографировались у того же старика фотографа, я – верхом на чучеле пони (Роберт уговорил).
На Кони-Айленде мы пробыли до сумерек, сели на поезд линии “Эф” и поехали домой.
– Наше “мы” никто не отменял, – сказал Роберт. Сжал мою руку, и в вагоне я заснула у него на плече.
К сожалению, это наше фото вдвоем позднее потерялось, но сохранилась моя фотография верхом на пони: сижу одна, смотрю слегка вызывающе.
Роберт устроился на ящике от апельсинов. Я читала ему новые стихи.
– Надо бы, чтобы тебя люди слышали, – сказал он, как говорил всегда.
– Меня слышишь ты. Мне этого достаточно.
– А я хочу, чтобы тебя слышали все.
– Нет, ты хочешь, чтобы я читала на этих треклятых чаепитиях.
Но Роберт давил на меня, не слушал никаких возражений, и когда Джерард Маланга рассказал ему, что во вторник поэт Джим Кэрролл проводит “вечер открытого микрофона”, Роберт взял с меня обещание выступить.
Я согласилась попробовать. Выбрала пару стихотворений, которые сочла подходящими для чтения вслух. Какие – уже не помню. Зато отлично помню наряд Роберта – ковбойские чапсы из золотой парчи, сшитые по его собственной выкройке. Мы немножко поспорили, стоит ли надевать к ним парчовый гульфик, но сочли его излишним. Дело было в День взятия Бастилии, и я пошутила: стоит поэтам увидеть Роберта, как многие потеряют голову.
Джим Кэрролл понравился мне сразу. Восхитительный: стройный, но крепко сложенный, с длинными золотисто-рыжими волосами, на ногах – высокие кроссовки “Конверс”. И колоссальное обаяние. Он показался мне чем-то средним между Артюром Рембо и святым безумцем Парсифалем.
Мои стихи эволюционировали: формализм французских стихотворений в прозе сменился дерзостью Блеза Сандрара, Маяковского и Грегори Корсо. Новые влияния привнесли в мое творчество юмор и толику нахальства. Роберт непременно был моим первым слушателем, и я преодолевала неуверенность, просто читая ему вслух.
Я слушала записи поэтов-битников и Оскара Брауна-младшего[91], изучала, как читали стихи Вейчел Линдси[92] и Арт Карни[93].
Как-то вечером после убийственно долгой репетиции “Острова” я случайно встретила Джима – он слонялся у дверей “Челси” и ел фруктовое мороженое. Я спросила, не желает ли он сходить со мной за компанию в пончиковую – выпить никуда не годного кофе.
– Конечно хочу, – сказал он.
Я рассказала ему, что в пончиковой мне нравится работать над стихами. На следующий вечер он повел меня пить никуда не годный кофе в “Бикфордз” на Сорок второй. И сообщил:
– А здесь любил работать Керуак.
Где Джим живет, оставалось загадкой, но в “Челси” он проводил массу времени. На следующий вечер он оказался у меня в гостях и в итоге остался ночевать в моей части лофта. Впервые за долгое время я испытала подлинные чувства к кому-либо, кроме Роберта.
Роберт считал себя частью этого расклада: если бы не он, я бы не познакомилась с Джимом. Роберт и Джим отлично поладили, и, к счастью, никому из них не казалось, будто наше с Робертом проживание на одном этаже – нечто противоестественное. Роберт часто оставался ночевать у Дэвида и, похоже, был рад, что я у себя в лофте не одна.
Я как умела посвятила себя заботам о Джиме. Укрывала его одеялом, когда он спал. Утром приносила ему кофе с пончиками. С деньгами у него было туговато. Он не стеснялся того, что сидит на героине (правда, употреблял он в умеренных дозах). Иногда я ходила с ним добывать наркотики. О тяжелых наркотиках я ничего не знала – разве что читала роман Александра Троччи “Книга Каина”, где наркоман плавает на барже и пишет книгу: баржа бороздит реки, на которых стоит Нью-Йорк, а джанк бороздит реки души героя. Когда Джим вонзал иглу в свою веснушчатую руку, он походил на черного двойника Гекльберри Финна. Я отворачивалась. Потом спрашивала:
– Это больно?
– Да нет, – отвечал он, – за меня не беспокойся.
Потом я сидела с ним, а он декламировал Уитмена и как бы засыпал сидя.
Днем, пока я была на работе, Роберт с Джимом ходили гулять – шли пешком до Таймс-сквер. Их роднила любовь к адским безднам этого местечка. В странствиях они обнаружили, что у них есть еще кое-что общее – склонность торговать собой. Только Джим зарабатывал на наркотики, а Роберт – на аренду квартиры. Тогда Роберт все еще окончательно не разобрался в своей натуре и влечениях. Бунтовал против своего отождествления с сексуальной ориентацией, гадал, чего ищет на панели – денег или удовольствия. С Джимом он мог обсуждать такие темы: Джим не был склонен к морализаторству. Оба брали с мужчин деньги, но Джим – без всяких угрызений совести. Считал, что это обычный бизнес.
– А откуда ты знаешь, что ты не гей? – допытывался Роберт.
– Уверен, – отвечал Джим. – Я всегда требую плату.
В середине июля я внесла последний взнос за мою первую гитару, которую попросила придержать для меня в ломбарде на Восьмой авеню. Маленький акустический “Мартин”, модель для гостиных. На деке – крохотная переводная картинка с лазурной птичкой. Ремень, сплетенный из разноцветных шнурков. Я купила сборник песен Дилана и выучила несколько простейших аккордов. Первое время выходило не так уж плохо, но чем больше я упражнялась, тем хуже звучала гитара. Я и не знала, что ее надо настраивать. Пошла к Мэтью, он настроил. Потом меня осенило: как только гитара расстроится, надо найти какого-нибудь музыканта и предложить ему на ней поиграть. В “Челси” музыкантов хватало.
“Пожар, возникший без причины” (“Fire of Unknown Origin”) я сочинила как стихотворение, но после знакомства с Бобби переделала в свою первую песню. Кое-как подобрала аккорды для аккомпанемента на гитаре и спела ее Роберту и Сэнди. Сэнди возликовала больше всех: ведь это ее платье шуршало по полу в коридорах.
Слышишь шорох в коридоре?
На подходе смерть.
В женском праздничном уборе
На подходе смерть.
Смерть здесь – и я бессильна.
Смерть, стой, оставь хоть что-нибудь.
Пожар, возникший без причины, моего милого унес[94].
Играя в “Острове”, я пришла к мысли, что создана для сцены. Я никогда не испытывала мандража перед своим выходом, любила провоцировать зрителей на реакцию. Но тогда же я сказала себе: “Запомни, в актрисы ты не годишься”. По мне, актерская доля – все равно что солдатская: нужно жертвовать собой ради высшего блага. Верить в дело, которому служишь. А из меня актриса не получалась: я просто не могла в достаточной мере поступиться своей личностью.
Роль Леоны окончательно закрепила за мной незаслуженную славу наркоманки. Не знаю уж, хорошо ли я играла, но зато правдиво – репутацию себе запятнала. Спектакль пользовался популярностью. Энди Уорхол приходил каждый вечер и всерьез заинтересовался сотрудничеством с Тони Инграссией. На последнее представление явился Теннесси Уильямс под руку с Кэнди Дарлинг. Кэнди оказалась в стихии, о которой мечтала, и была вне себя от счастья: как-никак, ее все увидели вместе с великим драматургом.
Что ж, смелости у меня, наверно, хватало, но я-то знала, что мне недостает задушевности и чарующего трагизма, которыми были наделены мои товарищи по сцене. Поборники альтернативного театра были всей душой преданы своему делу: трудились, как рабы, под руководством наставников – Эллен Стюарт, Джона Веккаро и блестящего Чарльза Ладлэма. Я не пошла их путем, но была благодарна театру за его уроки. И через некоторое время – правда, не скоро – применила свой театральный опыт на практике.
В августе Дженис Джоплин вернулась в Нью-Йорк, чтобы сыграть в Центральном парке повторный концерт взамен того, который сорвал ливень. Вид у нее был совершенно счастливый. Она предвкушала работу в студии. Прибыла в великолепном наряде, обмотанная боа из перьев цвета фуксии, розы и пурпура. Без своего боа она нигде не появлялась. Концерт прошел с большим успехом, а потом мы все отправились в “Ремингтон”, бар художников на Нижнем Манхэттене неподалеку от Бродвея. За столиками теснилась свита Дженис: Майкл Поллард, Салли Гроссман (девушка в красном платье с обложки “Bringing It All Back Home”), Брайс Марден, Эмметт Грогэн из “Диггерз”, актриса Тьюзди Уэлд. Из музыкального автомата звучал Чарли Прайд. Почти весь вечер Дженис провела с одним красавцем, который ей нравился, но незадолго до закрытия бара он улизнул с какой-то смазливой тусовщицей. Это подкосило Дженис.
– У меня так всякий раз, чел. Опять я ночью одна, – рыдала она на плече у Бобби.
Бобби попросил меня доставить ее в “Челси” и присмотреть за ней. Я отвезла Дженис в ее номер и выслушала ее сетования на судьбу. Перед тем как распрощаться, я сказала ей, что сочинила для нее песенку. И тут же ее спела.
Я старалась во всю мочь
Чтоб мир узнал как я крута
Ох не думала что так
Придется
Смотри повсюду фото со мной
Как я люблю смеяться с толпой
Пока любовь
Крадется сквозь полный зал
Но, мой милый,
Когда уходит толпа
И я возвращаюсь домой одна —
Не могу поверить
Что потеряла тебя[95].
– Это про меня, чел. Моя песня, – сказала она.
Когда я уходила, она смотрелась в зеркало, поправляя боа.
– Ну как я выгляжу, чел?
– Сияешь, как жемчуг, – сказала я. – Девушка-жемчужина[96].
Мы с Джимом проводили много времени в Чайна-тауне. В обществе Джима каждая вылазка в город превращалась в приключение между небом и землей, полет на высоких летних облаках. Мне нравилось наблюдать, как Джим общается с незнакомыми. Мы ходили в “Хонг фэт” – низкие цены, вкусные пельмени, – и Джим заводил разговоры со стариками китайцами. В “Хонг фэт” приходилось есть все, что бы тебе ни принесли, или говорить официанту: “Нам то же самое, что господину вон за тем столиком”, – меню было только на китайском. Столики там мыли так: обливали горячим чаем и вытирали тряпкой. Весь ресторан благоухал чаем улун. Иногда Джим просто подхватывал абстрактную нить беседы, заговорив с одним из почтенных стариков, и тот вел нас по лабиринту своей жизни, от “опиумных” войн до опиумных притонов Сан-Франциско. А потом мы брели по Мотт-стрит и Малберри-стрит на Двадцать третью, снова в своей эпохе, точно ничего и не случилось.
На день рождения я подарила Джиму цитру “Аутохарп”[97], в обеденный перерыв в “Скрибнерз” я сочиняла для него длинные стихотворения. Надеялась, что он станет моим мужчиной. Оказалось, надежда была несбыточная. Музой Джима я так и не стала, но, пытаясь выразить словами свои драматичные переживания, стала писать больше и, полагаю, лучше.
Иногда нам с Джимом было очень хорошо вместе. Не сомневаюсь, неприятные моменты тоже были, но воспоминания у меня светлые, окрашенные ностальгией и юмором. Дни и ночи, проведенные нами вместе, напоминали лоскутное одеяло: романтичные, точно Китс, и безобразные, как вши, которых мы оба подцепили (Джим был уверен, что от меня, а я – что от него). Мы были вынуждены тщательно мыться специальным шампунем “Квелл” в безлюдных туалетах “Челси”.
Джим был человек ненадежный, все время темнил, под кайфом иногда терял дар речи. Но все равно он был добр и простосердечен, а стихи писал по-настоящему талантливые. Я знала, что он меня не любит, но все равно его обожала. В конце концов он уплыл неведомо куда, оставив мне на память длинную прядь своих рыжевато-золотых волос.
Мы с Робертом зашли в гости к Гарри. Он и его приятель как раз рассуждали, кого сделать новым хранителем редкостной игрушки – серого ягненка на колесиках. Ягненок был ростом с маленького ребенка, уздечкой служила длинная красная лента. Прежде этот блейковский агнец принадлежал Питеру Орловски, спутнику Аллена Гинзберга. Когда они поручили ягненка моим заботам, я подумала, что Роберт рассердится: я поклялась ему больше не подбирать всякий уродский мусор и сломанные игрушки.
– Бери-бери, – сказал Роберт и вложил ленту мне в руку. – Это же классика. Классическая вещь “от Смит”.
Как-то вечером, спустя несколько дней, неизвестно откуда заявился Мэтью. Под мышкой он держал коробку с дисками-сорокапятками. Мэтью был помешан на Филе Спекторе; в коробке, насколько я понимаю, лежало полное собрание синглов, которые Фил продюсировал. Глаза у Мэтью нервно бегали.
– Синглы есть? – выпалил он.
Я отыскала под ворохом грязного белья свой ящик с синглами – кремового цвета, разрисованный нотами. Мэтью немедленно пересчитал нашу объединенную коллекцию.
– Я был прав, – заявил он. – У нас как раз столько, сколько надо.
– Для чего надо?
– Для ночи ста пластинок.
Я сочла идею разумной. И мы стали крутить синглы один за другим, начиная с “I Sold My Heart to the Junkman”. Каждая песня была лучше предыдущей. Я вскочила и пустилась в пляс. Мэтью переворачивал диски мгновенно, точно сумасшедший диджей. В самом разгаре вошел Роберт. Посмотрел на Мэтью. На меня. На проигрыватель. Звучали The Marvelettes. Что стоишь? – сказала я. Роберт швырнул свое пальто на пол. Оставалось еще тридцать три сингла.
Здание имело скандальную славу: в 20-х годах там находился кинотеатр “Гильдия кино”, в 30-х – шумный ночной клуб, где играли кантри, а ведущим концертов был Руди Валли[98].
В 40—50-х на четвертом этаже располагалась маленькая школа-студия великого художника и преподавателя, абстрактного экспрессиониста Ганса Гоффмана: он проповедовал свое учение Джексону Поллоку, Ли Краснер и Уиллему де Кунингу. В 60-х там располагался клуб “Дженерейшн”, завсегдатаем которого был Джими Хендрикс. Когда клуб закрылся, Хендрикс занял его помещение и оборудовал в его недрах сверхсовременную студию звукозаписи. Это был дом 52 на Восьмой улице.
28 августа там устроили вечеринку по случаю открытия студии. Аккредитацией занималось агентство “Уорток концерн”. За приглашениями охотился весь город; я получила свое от Джейн Фридмен из “Уортока”. Когда-то Джейн была пресс-атташе фестиваля в Вудстоке. Нас познакомил Брюс Рудоу в “Челси”, и Джейн заинтересовалась моим творчеством.
Я очень обрадовалась приглашению. Надела свою соломенную шляпку и пошла на Восьмую пешком. Но, добравшись до места, струсила – просто не решалась переступить порог. Ничего не могла с собой поделать. По счастью, из подвала по лестнице поднялся Джими Хендрикс, заметил, что я сижу у двери, точно робкая деревенская дурнушка, и широко улыбнулся. Он спешил на самолет в Лондон, на фестиваль на острове Вайт. Когда я призналась, что боюсь идти на вечеринку, он тихонько засмеялся и сказал: что бы люди о нем ни думали, на деле он тоже очень застенчив и на вечеринках не знает, куда спрятаться. Хендрикс немного постоял со мной на лестнице, поделился планами на будущее студии. Он мечтал собрать в Вудстоке музыкантов со всего света: пусть усядутся в круг в чистом поле и играют бесконечно. Все равно в какой тональности, в каком темпе, какие мелодии – пусть играют, не обращая внимания на диссонансы, пока не найдут общий язык. И рано или поздно они запишут этот абстрактный, вселенский язык музыки в его новой студии.
– Язык мира и дружбы. Врубаешься, да?
Я врубалась.
Даже не помню, решилась ли я тогда зайти в студию, но Джими свою мечту так и не осуществил. В сентябре я, моя сестра и Энни поехали в Париж. Сэнди Дейли помогла нам достать дешевые билеты через своих знакомых в авиакомпании. За год Париж успел измениться. Как и я. Казалось, изо всего мира постепенно вытравляют чистоту. Или дело было во мне – я стала смотреть на все слишком трезво.
Когда мы шли по бульвару Монпарнас, я увидела газетный заголовок, от которого защемило в груди: Jimi Hendrix est mort. 27 ans. Я поняла эти слова без перевода.
Джими Хендриксу так и не представится случай вернуться в Вудсток и создать вселенский язык. Он больше никогда не будет записываться в “Электрик леди”. У меня было такое чувство, что все мы потеряли доброго друга. Так и мерещилась его спина, вышитый жилет, длинные ноги: он поднялся по лестнице и в последний раз вышел в большой мир.
3 октября Стив Пол пригласил меня и Роберта на концерт Джонни Уинтера в “Филмор-Ист” и прислал за нами машину. Джонни прожил в “Челси” несколько дней. После концерта мы все собрались в его номере. Оказалось, Джонни играл на поминках Хендрикса, и мы вместе оплакали нашу утрату, уход человека, который был настоящим поэтом от музыки, и утешились тем, что поговорили о Джими.
А на следующий вечер снова собрались у Джонни, чтобы снова утешать друг друга. В свой дневник я записала всего два слова: “Дженис Джоплин”. Она скончалась от передозировки в 105-м номере отеля “Лендмарк” в Лос-Анджелесе. Ей было двадцать семь.
Джонни сломался. Брайан Джонс. Джими Хендрикс. Дженис Джоплин. Он моментально уловил связь: все имена начинаются на “дж”. В сердце Джонни скорбь перемешалась с паникой: он был очень суеверен и испугался, что станет следующим. Роберт пробовал успокоить его, но мне сказал:
– Не могу его винить. Странные дела творятся.
Роберт предложил, чтобы я погадала Джонни на таро. Расклад говорил о вихре противонаправленных сил, но близкой беды не пророчил. В любом случае, что бы ни означали карты, на лице Джонни не было печати смерти. Такой уж он был человек – подвижный как ртуть. Даже когда он метался по комнате, переживая из-за кончин “членов Джей-клуба”, казалось: он никогда не умрет, просто потому что не сможет остановиться.
* * *
Я одновременно разбрасывалась и увязала: ворохи незаконченных песен, заброшенных стихов. Заходила далеко, насколько хватало сил, но натыкалась на стену своего воображаемого несовершенства. И вдруг повстречала человека, который поделился со мной своим секретом. Секрет был очень прост: уперся в стену – проломи ее ногой.
Тодд Рандгрен повел меня в “Виллидж гейт” слушать группу The Holy Modal Rounders. Тодд только что записал свой альбом “Runt”, а теперь искал интересных людей, которых стоило бы продюсировать. В верхнем зале “Гейта” играли легенды – Нина Симон, Майлз Дэвис, в цокольный этаж ссылали более андеграундные команды. The Holy Modal Rounders я никогда не слышала (правда, их “Bird Song” звучала в “Беспечном ездоке”), но знала, что группа интересная: Тодда обычно тянуло ко всему необычному.
Что сказать о концерте? Показалось, это арабский народный праздник, на котором веселится ватага психоделических аппалачских горцев. Я сосредоточилась на барабанщике. Физиономия у него была точно с плаката “Разыскивается опасный преступник”. Видно, на сцену он пробрался потихоньку, когда копы зазевались. Под конец концерта он спел песню “Blind Rage”. Когда он вдарил по барабанам, я подумала: “Вот это парень: подлинная душа и сердце рок-н-ролла”. Все при нем: и красота, и энергия, и какое-то звериное обаяние.
Мы пошли в гримерку, меня познакомили с барабанщиком. Он представился:
– Слим Шэдоу.
– Рада познакомиться, Слим, – сказала я. Упомянула, что пишу для рок-журнала “Кродэдди” и хотела бы написать о нем статью. Слима эта идея, похоже, позабавила. Я убеждала его, втолковывала, какие у него перспективы: “вы нужны рок-н-роллу” и все такое, а он лишь кивал.
– Как-то я пока о таких вещах не думал, – только и сказал он.
Я была уверена, что в “Кродэдди” возьмут материал об этом будущем спасителе рок-н-ролла, и Слим согласился прийти на Двадцать третью и дать интервью. Его развеселил хаос в моей комнате. Он растянулся на моем матрасе и рассказал мне о себе. Поведал, что родился в трейлере, сплел для меня целую красивую байку. Язык у Слима был хорошо подвешен. Обычно в роли рассказчика выступала я. Тут, наоборот, Слим рассказывал, а я слушала и упивалась этим необычным для себя амплуа. Пожалуй, Слим гнал пургу еще искуснее меня. Смеялся он заразительно, говорил умно и без экивоков, проявлял интуицию. Мысленно я прозвала его “ковбойский язык”.
Теперь по вечерам – а точнее, почти за полночь – он стучался в мою дверь, застенчиво и мило улыбаясь. Я хватала с вешалки плащ, и мы шли гулять. От “Челси” никогда далеко не отходили, но казалось, вокруг вместо городских домов – степной бурьян, а ветер вместо мусора разносит перекати-поле.
В октябре над Нью-Йорком прошел холодный атмосферный фронт. У меня начался надсадный хронический кашель: в лофтах были перебои с отоплением. Изначально эти дома не предназначались под жилье, за ночь выстывали. Роберт часто оставался у Дэвида, а я заворачивалась во все наши одеяла и до поздней ночи не спала – читала комиксы про Крошку Лулу, слушала Дилана. У меня воспалился зуб мудрости, я переутомилась. Врач сказал, что у меня анемия, и прописал красное мясо и черное пиво. То же самое советовали Бодлеру, когда он, больной и одинокий, бедствовал зимой в Брюсселе.
Я была немного предприимчивее горемыки Бодлера. Облачилась в старое клетчатое пальто с глубокими карманами и стащила в “Гристедз” два маленьких стейка: думала пожарить их у себя на электроплитке на чугунной сковородке моей бабушки. На улице мне неожиданно повстречался Слим, и мы впервые отправились гулять при свете дня. Я испугалась, что мясо протухнет, и поневоле созналась, что при мне пара сырых стейков. Слим вытаращился недоверчиво, залез в мой карман и посреди Седьмой авеню выудил оттуда стейк. С притворным упреком покачал головой:
– Ну хорошо, голубка, пойдем перекусим.
Мы поднялись ко мне, я включила электроплитку. Стейки мы съели прямо со сковородки. После этого случая Слим стал за меня беспокоиться – уж не голодаю ли я? Через несколько дней зашел ко мне и спросил, нравятся ли мне омары у “Макса”. Я сказала, что никогда их не пробовала. Он опешил:
– Ты там никогда не ела омаров?
– Да я там вообще никогда не ела.
– Что-о? Бери пальто. Идем жрать.
До “Макса” мы доехали на такси. Слим без колебаний, широким шагом направился в дальний зал, но уселись мы не за круглый стол. Заказ он сделал сам:
– Принесите ей самого большого омара, какой у вас есть.
Тут я заметила, что на нас все глазеют. Смекнула: я же никогда не появлялась у “Макса” с другими мужчинами, кроме Роберта, а Слим – настоящий красавец. А когда принесли моего омара-гиганта, приготовленного с растопленным маслом, интуиция подсказала мне еще кое-что: а вдруг моему красавцу-ковбою нечем расплатиться?
Я приступила к омару. Обратила внимание, что Джеки Кертис тайком манит меня рукой. “Наверно, намекает, чтобы я поделилась”, – подумала я. Завернула в салфетку мясистую клешню и последовала за Джеки в женский туалет. А Джеки немедленно взялась меня допрашивать:
– Отчего ты пришла с Сэмом Шепардом?
– С Сэмом Шепардом? Да что ты, его зовут Слим.
– Милочка, неужели ты не знаешь, кто он?
– Ударник в The Holy Modal Rounders.
Джеки лихорадочно рылась в сумочке, и вокруг разлетались облака пудры.
– Крупнейший драматург всего офф-Бродвея, вот кто! Его пьеса шла в Линкольн-центре. У него пять “Оби”[99]! – трещала она сорокой, одновременно подкрашивая себе веки.
Я ушам своим не поверила. Неожиданная весть – коллизия прямо из мюзикла с Джуди Гарленд и Мики Руни.
– Что ж, я таким вещам особого значения не придаю, – произнесла я.
– Не будь дурой. – И Джеки театрально притянула меня к себе. – Он тебя на Бродвей может вывести.
У Джеки был талант превращать любой бытовой диалог в заправскую сцену из мелодрамы.
От клешни омара Джеки отказалась:
– Нет, спасибо, милочка, я охочусь на крупную дичь. Подведи-ка его к моему столику, а? Я просто мечтаю перекинуться с ним словом.
Что ж, я не грезила о Бродвее и не собиралась таскать за собой своего спутника, точно живой охотничий трофей. По крайней мере, счет оплатить он сможет – и то хлеб, рассудила я.
Вернувшись за столик, я уставилась на своего спутника суровым взглядом:
– Тебя зовут Сэм?
– Ну да, точно так, – протянул он тоном У.-К. Филдза[100]. Но тут принесли десерт: ванильный “сандей” с шоколадным соусом.
– Сэм. Хорошее имя. Сгодится, – сказала я.
– Да ты кушай мороженое, Патти Ли, – только и сказал он.
В вихре светской жизни, захватившем Роберта, я все острее чувствовала себя чужой. Он водил меня к знакомым на чай, на ужины, иногда – на вечеринки. Мы сидели за столами, где одному гостю полагалось больше ложек и вилок, чем необходимо семье из пяти человек. Я никак не могла взять в толк: почему за столом нам с Робертом полагается сидеть в разных углах? Зачем я должна поддерживать разговор с какими-то незнакомыми людьми? Я просто сидела и молча страдала, дожидаясь следующей перемены блюд. Казалось, никто, кроме меня, не изнывает от нетерпения. Но Робертом я невольно восхищалась, наблюдая, как он общается: непринужденно, совсем другой человек стал. Если кто-то хочет закурить, тут же подносит зажигалку, смотрит собеседнику в глаза.
Мало-помалу Роберт стал вхож в высшее общество. Смириться с его социальной метаморфозой мне было в каком-то смысле труднее, чем с сексуальной. Чтобы принять двойственность его сексуальной ориентации, от меня требовалось только проявить понимание. Но чтобы не отставать от него на социальной лестнице, я должна была бы изменить своим привычкам.
Некоторые из нас рождаются бунтарями. Читая биографию Зельды Фитцджеральд, написанную Нэнси Милфорд, я узнавала себя в ее мятежной душе. Помню, как мы с мамой шли мимо витрин и я спрашивала, почему люди не бьют стекла – подумаешь, пнул, и готово! Мама разъясняла, что есть неписаные правила поведения в обществе и благодаря этим правилам мы сосуществуем друг с другом как люди, а не как животные. Услышав об этом, я моментально почувствовала себя в неволе: как это, мы, дети, приходим в мир, где все наперед расписано старшими? Я кое-как подавляла в себе страсть к разрушению, старалась взамен развивать страсть к творчеству. Однако во мне по-прежнему жила маленькая девочка, которая ненавидела правила.
Когда я рассказала Роберту, как в детстве мне хотелось бить витрины, он только посмеялся:
– О нет, Патти! Ну ты и смутьянка.
Но я не была смутьянкой.
Зато Сэм узнал в этой истории себя. Легко вообразил себе, как я стою на улице – маленькая девочка в малюсеньких коричневых туфельках – и меня так и подмывает перевернуть все вверх дном. Когда я сказала Сэму, что иногда меня так и подмывает пнуть витрину, он просто сказал:
– Разбей ее, Патти Ли. Если тебя арестуют, я внесу за тебя залог.
С Сэмом я могла быть самой собой. Он лучше всех понимал, каково воспринимать свое тело как темницу.
У Роберта Сэм не вызывал симпатии. Роберт поощрял во мне утонченность и опасался, что в компании Сэма я стану совсем бунтаркой. Оба косились друг на друга настороженно, так и не смогли преодолеть взаимное отчуждение. Случайный наблюдатель предположил бы, что они просто слеплены из разного теста, но у меня было другое объяснение: оба были мужчины с характером, оба желали мне только добра. И в Сэме и в Роберте я узнавала частичку себя (если не считать манеры поведения за столом) и не переживала оттого, что они сталкивались лбами, как бараны: смотрела на их поединки снисходительно и гордо.
Дэвид убеждал Роберта не сдаваться, и тот носил свои работы по галереям, но все без толку. Роберт не пал духом. Нашел альтернативу – решил на свой день рождения показать коллажи в галерее Стэнли Эймоса в “Челси”.
Первым делом Роберт отправился в “Лемстонз” – универмаг типа “Вулвортса”, только поменьше и подешевле. Мы с Робертом под малейшим предлогом устраивали набеги на его старомодный ассортимент: пряжа, выкройки, пуговицы, всякая галантерея, журналы “Редбук” и “Фотоплей”[101], лампады для благовоний, поздравительные открытки, огромные “семейные” упаковки леденцов, заколок и лент. Роберт скупил кучу классических серебристых рамок от “Лемстонз”. Стоили они доллар за штуку и пользовались большой популярностью, их покупала даже сама Сьюзен Зонтаг.
Роберт хотел, чтобы приглашения выглядели оригинально. Взял фривольные игральные карты, купленные на Сорок второй, и напечатал текст на их обороте. А потом вставил эти приглашения в обложки для документов из кожзаменителя, выдержанные в ковбойском стиле, – их он приобрел в “Лемстонз” вместе с рамками.
На выставке Роберт развесил свои коллажи, объединенные мотивом ярмарочных уродов, но для вернисажа заготовил довольно крупную инсталляцию-алтарь. В нее он включил кое-что из моего имущества: например, волчью шкуру, бархатное кашне с вышивкой и французское распятие. Мы немножко поспорили, хорошо ли одалживать мои вещи, но, разумеется, я уступила, а Роберт заявил:
– Так все равно же никто не купит. – Ему просто хотелось, чтобы инсталляцию увидело побольше народу.
Выставка состоялась в 510-м номере “Челси”. В комнате яблоку было негде упасть. Роберт пришел с Дэвидом. Оглядываясь по сторонам, я как бы видела всю историю нашей жизни в отеле в лицах. Сэнди Дейли, одна из самых пламенных поклонниц таланта Роберта, сияла. Гарри был так очарован алтарем, что решил заснять его для своего фильма “Махагонни”. Джером Рэньи, один из авторов мюзикла “Волосы”, купил коллаж. Коллекционер Чарльз Коулз назначил Роберту встречу для разговора о возможных приобретениях. Джерард Маланга и Рене Рикар беседовали с Дональдом Лайонсом и Брюсом Рудоу. Дэвид прекрасно справлялся с ролью хозяина вечера и рассказывал публике о творчестве Роберта.
Это оказалось непросто – наблюдать, как люди всматриваются в работы, которые Роберт создавал на моих глазах. Творчество Роберта вышло за пределы нашего с ним маленького мира. Именно этого я всегда и желала, но теперь почувствовала легкий укол скупости: разве можно делиться нашей собственностью с чужими? Правда, пересилило другое чувство – радость за Роберта, который весь раскраснелся от удовольствия: его вера в себя подтвердилась, он увидел будущее, к которому стремился так целеустремленно, на которое так усердно работал.
Вопреки прогнозу Роберта, Чарльз Коулз купил инсталляцию-алтарь, и моя волчья шкура, кашне и распятие больше уже ко мне не вернулись.
* * *
– Леди умерла.
Бобби позвонил мне из Калифорнии – оповестить о смерти Эди Седжвик. Я не была с ней знакома, но в школьные годы мне как-то попался “Вог” с ее фотографией: она делала пируэты на фоне нарисованной лошади. По ее лицу казалось: для нее никто на свете не существует, кроме нее самой. Я вырвала фото из журнала и повесила на стену.
Бобби, похоже, был искренне удручен ее безвременной смертью.
– Напиши для нашей маленькой леди стихотворение, – сказал он, и я обещала.
Чтобы написать элегию на смерть такой девушки, как Эди, мне требовалось разбудить в себе что-то девчоночье. Пришлось задуматься, что значит быть женщиной, и я погрузилась в глубины своего естества, а дорогу мне указывала девушка, которая позировала фотографу на фоне белой лошади.
Настроение у меня было битническое. Вокруг невысокими стопками лежали мои библии. “Святые варвары”[102]. “Сердитые молодые люди”[103]. Мне попались стихи Рэя Бремстера. Он-то и расшевелил меня всерьез. Рэй, человек-саксофон. Чувствовалось, с какой легкостью он импровизирует: слова лились свободным потоком, точно он просто конспектировал свои мысли. В приливе вдохновения я поставила на проигрыватель диск Колтрейна, но дело не шло. Почувствовала: я не пишу, а просто дрочу.
Однажды Трумэн Капоте съязвил, что Керуак не пишет, а печатает на машинке. Но Керуак, барабаня по клавишам, выплескивал на бумагу свою личность. А вот я действительно только печатаю. Я раздосадованно вскочила.
Раскрыла антологию битников, набрела на “Море манит к себе” Джорджа Мендела. Прочитала вполголоса, и еще раз, уже во всю глотку, чтобы постичь море, которое он облек в слова и ускоряющийся ритм волн. Меня понесло: я то изрыгала строчки Корсо и Маяковского, то снова возвращалась к морю, чтобы Джордж столкнул меня с обрыва.
Бесшумно, своим кошачьим шагом, вошел Роберт. Присел, мерно кивая. Слушал каждой клеточкой тела и души. Мой художник, ни за что не соглашавшийся читать книги. Потом потянулся и взял с пола ворох стихов.
– Тебе надо бережнее обращаться со своими произведениями, – сказал он.
– Да я так, сама даже не понимаю, что пишу, – пожала я плечами, – но бросить не могу. Я точно слепой скульптор: кромсаю на ощупь.
– Ты должна показать людям, что ты умеешь. Что ж ты не устроишь чтения?
Писательство начинало угнетать меня: оно давало слишком мало работы моему телу.
Но Роберт сказал мне, что кое-что придумал:
– Патти, я организую тебе чтения.
Я вовсе не надеялась, что в обозримом будущем выступлю на собственном поэтическом вечере, но идея Роберта меня все-таки заинтересовала. Я писала стихи, добиваясь, чтобы они нравились мне самой и еще небольшой горстке людей. Пожалуй, пора выяснить, смогу ли я выдержать экзамен в стиле Грегори. В глубине души я знала, что готова.
Для рок-журналов я тоже стала писать больше – для “Кродэдди”, “Серкус”, “Роллинг стоун”. В те времена профессия музыкального обозревателя могла быть высоким призванием. Я высоко ценила, например, Пола Уильямса, Ника Тошеса, Ричарда Мельцера и Сэнди Перлмена. Сама я брала пример с Бодлера, автора блестящих идиосинкразических статей об искусстве и литературе xix века.
Мне прислали на рецензию двойной альбом Лотте Ленья. Я твердо решила: эта великая артистка заслуживает признания. Позвонила Дженну Веннеру в “Роллинг стоун”. До этого я с ним даже ни разу не разговаривала, и моя просьба его, видно, озадачила. Но когда я сказала, что на обложке “Bringing It All Back Home” Дилан держит в руках пластинку Лотте Ленья, Веннер смилостивился. Я настроилась на нужный лад, когда писала эпитафию Эди Седжвик, и теперь старалась подчеркнуть роль Лотте Ленья не только как артистки, но и как яркой женщины. Сосредоточенная работа над статьей просочилась, как кровь, в мои стихи, дала мне новый метод самовыражения. Я не верила, что статью опубликуют, но Дженн позвонил.
– Выражаешься ты как шофер-дальнобойщик, а статью написала изящную, – заметил он.
Благодаря работе для рок-журналов я познакомилась с авторами, которыми восхищалась. Сэнди Перлмен подарил мне “Эпоху рока – II”, антологию, в которой Джо Нэйтан Эйзен собрал лучшие статьи о музыке за предыдущий год. Больше всего меня тронула статья Ленни Кея о пении а капелла, где эрудиция сочеталась с теплотой. Вспомнились мои корни: перекрестки моей юности, где мальчишки собирались и пели ритм-энд-блюзовые песни на три голоса. Вдобавок статья Кея контрастировала с циничным, самодовольным тоном многих критиков того времени. Я решила отыскать Кея и поблагодарить его за такую окрыляющую статью.
Ленни работал продавцом в “Виллидж олдиз” на Бликер-стрит, и как-то субботним вечером я туда зашла. На стенах магазина висели автомобильные колпаки, на полках стояли сорокапятки старых времен. В этих пыльных штабелях можно было отрыть чуть ли не любую песню – только назови. Во время следующих моих визитов, если покупателей не было, Ленни ставил наши любимые синглы, и мы танцевали под “Bristol Stomp” группы The Dovells или отплясывали “восемьдесят один”[104] под “Today’s the Day” в исполнении Морин Грей.
У “Макса” поменялся состав завсегдатаев. В то лето регулярные выступления The Velvet Underground привлекли в ресторан новых хранителей рок-н-ролльного огня. За круглым столом часто теснились музыканты и рок-журналисты, тут же сидел Дэнни Голдберг – заговорщик, готовивший революцию в музыкальном бизнесе. Там, где Ленни, всегда можно было встретить Лиллиан Роксон, Лайзу Робинсон, Дэнни Филдса и других. Итак, в дальнем зале стали хозяйничать новые люди. Все еще можно было рассчитывать, что в дверь вплывет Холли Вудлаун, Андреа Фелдман будет танцевать на столах, а Джеки и Уэйн – надменно блистать остроумием, но стало очевидно: в ближайшем будущем они перестанут быть центром притяжения.
Мы с Робертом теперь проводили у “Макса” меньше времени: у нас появились свои компании. И все же “Макс” отражал нашу судьбу. Роберт начал фотографировать завсегдатаев, принадлежавших к миру Уорхола, хотя они уже разбредались по другим местам. А я понемногу осваивалась среди рок-музыкантов благодаря тому, что писала стихи и песни, а затем и сама вышла на сцену.
Сэм снял в “Челси” номер с балконом. Я обожала там ночевать – у меня снова номер в моем отеле! И душ можно было принимать когда вздумается. Иногда мы просто сидели на кровати и читали. Я – биографию Неистового Коня, а Сэм – Сэмюэля Беккета.
Однажды у нас с Сэмом вышел долгий разговор о нашей жизни вместе. К тому времени он сознался мне, что женат, что у него есть маленький сын. А я даже не задумывалась – наверно, по какой-то ребяческой беспечности, – как наши безответственные фортели могут сказаться на жизни окружающих. Я познакомилась с женой Сэма, Олэн, молодой талантливой актрисой. Я вовсе не хотела, чтобы Сэм ее бросил, и все мы трое свыклись с неписаным распорядком нашего сосуществования. Сэм часто уезжал. Разрешал мне оставаться в его номере и оставлял свое имущество: индейское одеяло, пишущую машинку и бутылку трехзвездочного рома “Рон дель Баррильито”.
Роберта покоробило известие, что Сэм женат. Он твердил мне: “Рано или поздно Сэм тебя бросит”. Но я и сама это понимала. В глазах Роберта Сэм был блудливым ковбоем.
– Джексон Поллок тебе бы тоже не понравился, – парировала я.
Роберт только пожал плечами.
Я сочиняла стихотворение для Сэма, в честь его увлечения гоночными автомобилями. Оно называлось “Баллада о плохом мальчишке”. Я выдернула лист со стихотворением из пишущей машинки и стала вышагивать по комнате, читая вслух. Работает! В стихотворении были энергия и ритм, которые я искала. Я постучалась к Роберту:
– Хочешь послушать?
В тот период мы несколько отдалились друг от друга: Роберт где-то пропадал с Дэвидом, а я – с Сэмом, но у нас оставалась точка пересечения. Оставалось наше творчество. Роберт выполнил обещание – организовал мне вечер. Замолвил словечко перед Джерардом Малангой, у которого в феврале был назначен вечер в церкви Святого Марка. Джерард великодушно согласился выпустить меня на разогреве.
В “Проекте Поэзия”, пастырем которого была Энн Уолдмен, охотно выступали даже крупнейшие поэты. Кто там только не читал: и Роберт Крили, и Аллен Гинзберг, и Тед Берригэн. Если уж мне следует выступать на публике со своими стихами, то либо у Святого Марка – либо нигде. Я стремилась не просто удачно прочесть стихи, не просто показать, что и я тоже кое-чего стою. Поставила себе цель: в Святом Марке – без единой помарки. Собиралась выступить во имя Поэзии. И во имя Рембо, и во имя Грегори. Мне хотелось вдохнуть в литературное слово рок-н-ролльную непосредственность и способность к лобовой атаке.
Тодд посоветовал вести себя агрессивно и дал мне поносить черные сапоги из змеиной кожи. Сэм порекомендовал включить в выступление живую музыку. Я мысленно перебрала всех музыкантов, которые прошли через “Челси”, но тут вспомнила, что Ленни Кей вроде бы играет на электрогитаре. И пошла к нему.
– Ты же играешь на гитаре, правда?
– Ну да, люблю это дело.
– А автокатастрофу сыграть на электрогитаре сумеешь?
– Ну да, это я сумею, – сказал он без заминки и согласился мне аккомпанировать. Пришел на Двадцать третью со своим “Мелоди-мейкером” и маленьким усилителем “Фендер”. Я декламировала стихи, он подыгрывал.
Вечер был назначен на 10 февраля 1971 года. Для флаера Джуди Линн сфотографировала нас с Джерардом вдвоем: стоим у дверей “Челси”, улыбаемся. Я навела справки, не связаны ли с 10 февраля какие-нибудь знамения. Узнала: это день рождения Бертольда Брехта. Плюс полнолуние. Два благоприятных знака. Ради Брехта я решила начать вечер с исполнения “Mack the Knife”. Ленни аккомпанировал.
Это был всем вечерам вечер. Слушать Джерарда Малангу – харизматичного поэта и перформансиста – собрались чуть ли не все сливки круга Уорхола: от Лу Рида до Рене Рикара. Пришла Бригид Берлин. Пришел сам Энди. Поболеть за Ленни явилась его компания: Лиллиан Роксон, Ричард и Лайза Робинсон, Ричард Мельцер, Рони Хоффман, Сэнди Перлман. Была и делегация “Челси”, в том числе Пегги, Гарри, Мэтью и Сэнди Дейли. Поэты – Джон Джиорно, Джо Брейнард, Энни Пауэлл и Бернадетта Майер. Тодд Рандгрен привел мисс Кристин из группы GTO. Грегори беспокойно ерзал на своем месте у прохода – не терпелось узнать, что это я задумала. Вошел Роберт, с ним Дэвид, они уселись в середине первого ряда. Сэм перевешивался через перила балкона, подзуживал меня. Воздух был наэлектризован.
Энн Уолдмен нас представила. Меня штырило по полной. Свое выступление я посвятила преступникам – от Каина до Жана Жене. Выбрала, например, стихотворение “Клятва” (“Oath”), которое начиналось словами: “Христос умер за чьи-то грехи / Но не за мои”, и постепенно перешла от него к “Пожару, возникшему без причины” (“Fire of Unknown Origin”). Для Роберта прочитала “Заусенец дьявола” (“The Devil Has a Hangnail”), для Энни – “Наплачь мне реку” (“Cry Me a River”). К песенной форме был всего ближе “Блюз о том, как повесить картину” (“Picture Hanging Blues”) – стихотворение с рефреном, написанное от лица подруги Джесса Джеймса[105]. Закончили мы “Балладой плохого парня” (“Ballad of a Bad Boy”) под аккомпанемент гитары Ленни: мощный ритм, электрический фидбэк. Под сводами Святого Марка электрогитара звучала впервые: аплодисменты смешались со свистом. Некоторые возмущались: как можно, в святом храме поэзии? Зато Грегори ликовал.
Иногда в зале точно гром гремел. Для выступления я задействовала все свои запасы затаенной спеси. Адреналин ударил мне в голову, и после вечера я повела себя как заносчивый молодой петух. Не поблагодарила ни Роберта, ни Джерарда. Не стала вести светские беседы с людьми из их компаний. Просто улизнула вместе с Сэмом, и мы поужинали омаром с текилой.
Итак, я получила свой вечер, и там было здорово, но я рассудила: самое лучшее – взглянуть на это событие философски и позабыть о нем. Просто не знала, что делать с этим опытом.
Я знала, что уязвила Роберта своим поведением. Но он все равно гордился мной в открытую. Как ни крути, я открыла в себе нечто совершенно неожиданное и должна была как-то с этим разобраться. Сама толком не понимала, какое отношение эта новая грань моей личности имеет к искусству.
После вечера на меня посыпалась лавина предложений. Журнал “Крим” согласился опубликовать цикл моих стихов, меня приглашали выступать в Лондон и Филадельфию, выпустить сборник в стиле “народных изданий” в издательстве “Миддл-Эрс букс”, зашла речь о контракте на запись диска на “Блу скай рекордз” Стива Пола. Поначалу мне это льстило, потом возникло чувство неловкости. Реакция была несоразмерно-восторженная – почище, чем когда-то на мою стрижку под Ричардса.
Я почувствовала: успех пришел слишком легко. Роберту ничто так легко не давалось. И поэтам, перед которыми я преклонялась, тоже. Я решила дать задний ход. Отказалась от контракта на диск, но из “Скрибнерз” перешла работать к Стиву Полу, секретаршей на все руки. Платили мне чуть больше, чувствовала я себя чуть свободнее, вот только Стив допытывался, отчего это я предпочла готовить ему ланч и чистить птичьи клетки вместо записи пластинок. На деле я не считала, что рождена чистить клетки, но интуиция мне подсказывала: заключать контракт на пластинку было бы нечестно. Мне вспомнилось то, что я уяснила из книги Мэри Сандоз “Неистовый Конь: странный человек из племени оглала”. Неистовый Конь верил, что победа останется за ним, если после сражения он сразу ускачет и не будет подбирать трофеи – иначе его разгромят. На ушах своих лошадей он сделал татуировки в виде молний, чтобы в пылу битвы они напоминали ему это правило. Я пыталась применять этот урок в своей жизни: остерегалась брать трофеи, не принадлежавшие мне по праву.
И решила: сделаю себе такую же татуировку. Сидела в холле “Челси”, рисовала в блокноте разные варианты молний. И тут вошла необычная женщина: встрепанные рыжие волосы, живая лиса на плече, лицо покрыто тонкими линиями татуировок. Меня осенило: если убрать татуировки, обнаружится лицо Вали, девушки с обложки “Любви на левом берегу”. Ее портрет давно прижился на моей стене.
Я без предисловий спросила ее, согласится ли она сделать татуировку на моем колене. Она пристально взглянула на меня и молча, без единого слова, кивнула в знак согласия. Через несколько дней мы уговорились, что она сделает мне татуировку в комнате Сэнди Дейли, а Сэнди заснимет процесс на кинопленку, совсем как было с пирсингом Роберта. Казалось, теперь пришел мой черед пройти инициацию.
Я хотела проделать все без зрителей, но Сэм напросился. Приспособления у Вали были примитивные: длинная швейная игла, которую она облизала языком, свечка, чернильница с чернилами цвета индиго. Я решила держаться стоически. Не проронила ни звука, пока Вали накалывала мне на колено молнию. Когда моя татуировка была готова, Сэм попросил обработать его левую руку. Вали много раз тыкала иглой в место между большим и указательным пальцем, пока не проявился полумесяц.
Как-то утром Сэм спросил, где моя гитара, а я сказала, что подарила ее Кимберли, моей самой младшей сестре. После обеда он повел меня в гитарный магазин в Виллидже. На стене, точно в каком-нибудь ломбарде, висели акустические гитары, но сварливый хозяин, казалось, не желал расстаться ни с одной.
– Выбирай, какая понравится, – велел мне Сэм. Мы пересмотрели много “Мартинов”, в том числе очень красивые, с перламутровой инкрустацией, но мое внимание привлек потертый черный “Гибсон”, модель 1931 года, времени Великой депрессии. Нижняя дека заклеена после трещины, колки заржавели. Но чем-то эта гитара пленила мое сердце. Я подумала: она так выглядит, что никому не понравится, кроме меня.
– Ты уверена, что это она, Патти Ли? – спросил Сэм.
– Она, и никакая другая.
Сэм заплатил за нее двести долларов. Я ожидала, что хозяин магазина обрадуется, но он увязался за нами на улицу, повторяя:
– Если вам она когда-нибудь надоест, я ее выкуплю.
Так Сэм раздобыл мне гитару. Совершил красивый жест. Мне вспомнился фильм “Красавчик Жест” с Гэри Купером – о солдате французского Иностранного легиона, который пожертвовал своим добрым именем, чтобы уберечь от бед свою приемную мать. Я решила назвать гитару “Красавчик” – на память о Сэме, который, честно говоря, и сам влюбился в этот инструмент.
Красавчик – он до сих пор со мной, я им очень дорожу – стал моей преданной гитарой. Помог мне написать большую часть моих песен. Первую я сочинила для Сэма, предчувствуя нашу разлуку. Нас обоих приструнила наша совесть – честность в жизни и в творчестве. Мы ничуть не охладели друг к другу, но момент пробил – Сэму было пора уйти от меня. Это понимали мы оба.
Как-то вечером мы молча сидели, думали об одном и том же. Сэм вскочил, принес свою пишущую машинку и водрузил на кровать:
– Давай напишем пьесу.
– Да я даже не знаю, как пишут пьесы.
– Это просто. Я начну. – И он описал мою комнату на Двадцать третьей: автомобильные номера, пластинки Хэнка Уильямса, ягненка на колесиках, постель на полу, а затем ввел в действие самого себя – персонажа по имени Слим Шэдоу.
Подпихнул пишущую машинку ко мне:
– Твой черед, Патти Ли.
Я решила назвать мою героиню Каваль. Это слово я взяла у французской писательницы Альбертины Сарразен, уроженки Алжира. Совсем как Жан Жене, она в детстве осиротела, совсем как у Жене, у нее рано проявилась одаренность, совсем как Жене, она непринужденно переходила от преступной жизни к писательству и обратно. Больше всего мне нравился ее роман “La Cavale”, что по-французски значит “побег”.
Сэм был прав: сочинять пьесу оказалось совсем не сложно. Мы просто рассказывали друг дружке истории. Персонажей списали с самих себя и зашифровали в “Ковбойском языке” нашу любовь, фантазию и опрометчивые выходки. Пожалуй, получился скорее ритуал, чем пьеса. Финал наших похождений вдвоем мы облекли в форму ритуала. Выстроили ворота, через которые Сэм мог бы уйти.
По сюжету Каваль – преступница. Она похищает Слима и держит его в своем логове. Они друг друга любят, ссорятся – и выдумывают собственный язык, импровизируя стихи. Когда мы дошли до места, где надо было сымпровизировать спор на поэтическом языке, я запаниковала:
– Не могу. Не знаю, что говорить.
– Говори что в голову взбредет. Когда импровизируешь, невозможно сбиться.
– А если я все испорчу? Собью тебя с ритма?
– Не собьешь, даже если нарочно захочешь. Это как стучать на барабанах. Сбился с ритма – ерунда, задавай свой ритм, новый.
Вот так, между делом, Сэм поделился со мной секретом импровизации, которым я пользуюсь всю жизнь.
Премьера “Ковбойского языка” состоялась в конце апреля в театре “Америкэн плейс” на Западной Сорок шестой. По сюжету Каваль пытается переделать Слима по образу и подобию святого спасителя с рок-музыкальным уклоном. Поначалу Слим увлекается этой идеей и подпадает под чары Каваль, но в конце концов вынужденно признается, что не может осуществить ее мечту. Слим Шэдоу возвращается в свой собственный мир, к семье, к обязанностям, а Каваль оставляет одну. Отпускает ее на волю.
Сэм радовался: пьеса вышла хорошая. Но обнажать душу на сцене было нелегко: большой стресс. Режиссером был Роберт Глодини. Репетиции шли неровно и бурно. Правда, нам хотя бы не мешала публика.
Первый прогон устроили для местных школьников, и он нас окрылил: дети смеялись, хлопали, подзуживали нас. Казалось, мы творим с ними сообща. Но на официальном прогоне Сэм словно бы очнулся: обнаружил, что ему придется грузить реальных людей своими реальными проблемами.
На третьем представлении Сэм исчез. Мы сняли спектакль со сцены. И, точно Слим Шэдоу, Сэм вернулся в свой собственный мир, к семье и своим обязанностям.
Работая над спектаклем, я открыла кое-что и в себе самой. Раньше я и помыслить не могла, что образ “рок-Иисуса с ковбойским языком”, о котором мечтала Каваль, может иметь хоть какую-то связь с моим собственным творчеством. Но когда мы пели, переругивались и вызывали друг дружку на откровенность, я обнаружила: на сцене я как дома. Была лишь одна загвоздка – я никакая не актриса. Для меня не было границы между жизнью и искусством. На сцене и за сценой я была самой собой.
Перед своим переездом из Нью-Йорка в Новую Шотландию Сэм вручил мне конверт с деньгами. На то, чтобы я позаботилась о себе. И взглянул на меня, мой ковбой с индейскими ухватками.
– Понимаешь, будущее, которое ты мне намечтала, не совпадает с моими мечтами. Возможно, оно тебе самой суждено.
Я оказалась на распутье. Гадала, что мне теперь делать. Когда Сэм ушел, Роберт не злорадствовал. А когда Стив Пол предложил свозить меня с другими музыкантами в Мексику для работы над песнями, Роберт сказал, что ехать надо обязательно. Мексика ассоциировалась у меня с двумя моими страстями – Диего Риверой и кофе. В Акапулько мы приехали в начале июня, поселились в просторной вилле с видом на море. Песен я сочинила немного, кофе напилась вдосталь. Опасный шторм заставил всех разъехаться по домам, но я осталась, а когда выехала обратно, по дороге заглянула в Лос-Анджелес. Это там я увидела огромный рекламный щит “L.A. Woman”, нового альбома The Doors, с женщиной, распятой на телеграфном столбе. Мимо проехала машина, из ее радиоприемника я услышала риффы их нового сингла – “Riders on the Storm”. Во мне зашевелилась совесть: неужели я почти забыла, как много дал мне Моррисон? Он указал мне дорогу, где поэзия сливается с рок-н-роллом, и я мысленно поклялась купить альбом и написать хвалебную рецензию, которой он вполне заслуживал.
Когда я вернулась в Нью-Йорк, из Европы просочились обрывочные вести о смерти Моррисона в Париже. Первые день-два никто точно не знал, что случилось. Джим скончался в ванне в своей квартире, от чего – загадка. Третьего июля, в годовщину смерти Брайана Джонса.
Поднимаясь по лестнице, я почувствовала: что-то неладно. Слышала крики Роберта: “Люблю! Ненавижу! Люблю!” Рывком распахнула дверь в его лофт. Он неотрывно глядел в овальное зеркало, по бокам которого висели черный хлыст и маска дьявола, несколько месяцев назад расписанная им из баллончика. Плохой трип. Внутри Роберта сражались добро и зло. Дьявол побеждал, искажал его лицо – искривленное, налитое кровью, совсем как маска напротив.
С такой ситуацией я столкнулась впервые. Но вспомнила, как Роберт помог мне, когда в “Челси” мне подсунули наркотик. Хладнокровно заговорила с ним, успокоила, незаметно убрала с глаз долой маску и зеркало. Поначалу он смотрел на меня, словно не узнавая, но вскоре его одышливое дыхание стало размереннее. Совершенно обессиленный, он побрел за мной к кровати, положил голову мне на колени и заснул.
Я переживала из-за его внутренней раздвоенности. В основном потому, что считала: она и ему не дает покоя. Когда мы только познакомились, его творчество выражало веру в Бога, понимаемого как всеобщая любовь. Но он сбился с пути, почему – как знать. Снова, как свойственно католикам, зациклился на размышлениях о добре и зле. Как будто его ставили перед жестким выбором – либо одно, либо другое. Он порвал с церковью, а теперь она рвала его душу. Наркотический кошмар усилил в Роберте страх, что он заключил с темными силами необратимую сделку, повторил судьбу Фауста.
Роберт взялся называть себя исчадием ада, отчасти в шутку, отчасти просто чтобы выделиться. Однажды при мне нацепил кожаный гульфик. Вид у Роберта был скорее дионисийский, чем сатанинский: олицетворение свободы и полнокровных ощущений.
– А знаешь, тебе не обязательно быть исчадием ада, чтобы отличаться от других, – сказала я. – Ты и так отличаешься. Художники – особая порода.
Роберт обнял меня. Гульфик уперся в мое тело.
– Роберт, – ойкнула я, – ах ты скотина.
– Я же говорил, – подмигнул он мне.
Потом Роберт куда-то ушел, а я вернулась в свою мастерскую. Заметила в окно, как он быстрым шагом идет мимо ИМКА. Художник и жиголо, а заодно почтительный сын и мальчик-алтарник. Я верила, что он еще заново поймет: не существует зла в чистом виде или добра в чистом виде. Есть только чистота.
Будь у Роберта постоянный доход, он сосредоточился бы на каком-нибудь одном виде искусства. А так он по-прежнему хватался за разные искусства и техники. Появлялись деньги – снимал фильмы, подворачивалось подходящее сырье – делал ожерелья. Из находок с помойки создавал инсталляции. Но больше всего его, несомненно, влекла фотография.
Первой моделью Роберта стала я. Второй – он сам. Начал он с того, что фотографировал меня с дорогими мне вещами или своими собственными культовыми объектами. Постепенно созрел для портретов и обнаженной натуры. В итоге меня частично заменил Дэвид: для Роберта он был идеальной музой. Дэвид был фотогеничен и гибок, он преспокойно участвовал в некоторых необычных сценариях Роберта: позировал, лежа в одних носках, или голый, завернутый в черную сеть, или в галстуке-бабочке и с кляпом во рту.
Роберт по-прежнему снимал “Полароидом” Сэнди Дейли. Это была модель “Ленд-360”: узкий выбор параметров съемки, зато устройство простое и экспонометр не нужен. Снимки Роберт покрывал специальным восковым составом розоватого цвета – предохранял от медленного выцветания. Находил применение всем частям отработанных кассет: из чехлов делал рамки, даже отрывной язычок куда-нибудь пристраивал. Иногда Роберт даже давал новую жизнь запоротым снимкам – раскрашивал их эмульсионкой.
Кассеты стоили недешево, и Роберт полагал: его долг – постараться, чтобы ни один кадр не пропал зря. Терпеть не мог лажать и тратить кассеты на ерунду. Так Роберт выработал в себе решительность и зоркость. Работал аккуратно и бережливо: сначала по бедности, потом по привычке. Мне было отрадно наблюдать его стремительный творческий рост, я чувствовала себя полноправной участницей работы. Сотрудничая в качестве художника и модели, мы следовали своему простому кредо: “Доверяюсь тебе, доверяюсь себе”.
* * *
В жизни Роберта появилась новая важная фигура. Дэвид познакомил его с Джоном Маккендри, куратором отдела фотографии музея Метрополитен. Тот был женат на Максиме де ля Фалез, законодательнице мод нью-йоркского высшего света. Джон и Максима ввели Роберта в такое блистательное общество, что о большем он и мечтать не мог. Максима была искусным кулинаром и давала утонченные званые обеды, где подавала малоизвестные блюда: английскую кухню прошлых веков она знала досконально. Каждое изысканное яство украшалось столь же блестящими перлами остроумия ее гостей. В столовой Максимы обычно собирались Бьянка Джаггер, сестры Мариса и Берри Беренсон, Тони Перкинс, Джордж Плимптон, Генри Гельдзалер, Диана фон Фюрстенберг и ее супруг, князь Эгон[106].
Роберт хотел ввести меня в эту среду – познакомить с интересными, культурными людьми, полагал, что у меня с ними найдутся точки пересечения. Надеялся, что эти люди нам помогут. Как всегда, из-за этого замысла Роберта мы препирались – не совсем в шутку. Я одевалась не так, как полагалось, то стеснялась, то зевала от скуки и чаще болталась на кухне, чем судачила за обеденным столом. Максима сносила мои выходки терпеливо. А вот Джон, видимо, понимал, что мне совершенно чужд этот мир. Возможно, сам чувствовал себя чужим. Я питала к Джону большую симпатию, а он всячески старался проявить радушие. Мы вместе усаживались на ампирную кушетку, и он читал мне отрывки из “Озарений” Рембо в оригинале.
Благодаря своей должности Джон имел уникальную привилегию – доступ в депозитарий Метрополитена, где хранилось все собрание фотографий. Многие работы не экспонировались никогда. Джон был специалистом по викторианской фотографии. Он знал, что я тоже питаю слабость к этому периоду, и пригласил нас с Робертом посмотреть оригиналы. В депозитарии высились до потолка шкафы с узкими ящиками. Там, а также на железных стеллажах хранились отпечатки старых мастеров: Фокса Тальбота, Альфреда Стиглица, Пола Стрэнда и Томаса Икинса.
Позволение приподнимать папиросную бумагу, которой были переложены фотографии, своими руками прикасаться к ним, ощущать фактуру отпечатка, тепло пальцев автора – все это произвело на Роберта колоссальное впечатление. Он вдумчиво изучал все: бумагу, процесс лабораторной обработки, композицию, насыщенность темных тонов.
– Свет – вот главное, – рассудил он.
Самые умопомрачительные изображения Джон приберег напоследок. Одно за другим он выкладывал перед нами фото, запрещенные к публичному показу, в том числе великолепные ню Стиглица – портреты Джорджии О’Киф. Стиглиц снимал ее на самом пике их романа. Это были глубоко интимные произведения, в которых отражен интеллект обоих и мужественная красота Джорджии. Роберт сосредоточился на технических аспектах, а я – на самой Джорджии: она и Стиглиц работали над портретами, никогда не срываясь на фальшь. Роберта занимало, как сделать фотографию, а меня – как стать фотографией.
Этот тайный просмотр стал одним из первых шагов к отношениям Джона и Роберта. Отношения были непростые, но Джон очень поддержал Роберта: купил ему фотоаппарат “Полароид”, добыл для него в фирме “Полароид” грант – неограниченные запасы кассет. Это произошло в момент, когда Роберт уже горячо увлекся фотосъемкой, и только дороговизна кассет останавливала его.
Джон открыл Роберту двери в высший свет не только в Америке, но и в международном масштабе: вскоре взял его с собой в Париж, в командировку по делам музея. Так Роберт впервые оказался за границей. Его “окно в Париж” было роскошным. Лулу, приятельница Роберта, была падчерицей Джона, и они пили шампанское с Ивом Сен-Лораном и его спутником Пьером Берже. Об этом я узнала из открытки, которую Роберт написал мне, сидя в кафе “Флор”. А еще он сообщил, что фотографирует статуи – впервые выражает через фотографию свою любовь к скульптуре.
Джон благоговел перед творчеством Роберта, и это чувство распространилось и на самого Роберта. Роберт принимал от Джона подарки и не упускал благоприятных возможностей, которые открывал перед ним Джон, но поддерживать с ним романтические отношения никогда не стремился. Джон был хрупко сложенный, тонко чувствующий человек настроения – а Роберта прельщали совсем иные натуры. Например, Максиму Роберт уважал за сильный характер, амбициозность и безупречную родословную. Возможно, Роберт слишком бережно относился к чувствам Джона, потому что со временем оказался в путах разрушительной страсти.
Когда Роберт был в отъезде, Джон навещал меня. Иногда приносил подарки – крохотное парижское колечко из крученого золота, книги Верлена и Малларме в блестящих переводах. Мы беседовали о фотографиях Льюиса Кэрролла и Джулии Маргарет Камерон, но по-настоящему Джону хотелось говорить только о Роберте. На первый взгляд меланхолия Джона объяснялась неразделенной любовью, но чем больше времени я с ним проводила, тем очевиднее видела: Джон питает необъяснимую ненависть к самому себе. Джон был, как никто, энергичен, любознателен и ласков, и я никак не могла разгадать, отчего он о себе столь низкого мнения. Старалась успокоить его как могла, но чем тут утешишь? Роберт всегда видел в нем лишь друга и наставника, не более.
В “Питере Пэне” одного из Потерянных Мальчиков зовут Джон. Иногда мне казалось, что это и есть Джон Маккендри, бледный, призрачно-изящный викторианский мальчик, вечно пытающийся угнаться за тенью Питера Пэна.
Как бы то ни было, Джон Маккендри не мог бы сделать Роберту лучшего подарка, чем фототехника. Роберт влюбился в фотографию по уши, завороженный не только техническими методами, но и ролью фотографии среди других искусств. Он бесконечно спорил с Джоном: сердился, что тот успокоился на достигнутом. Роберту казалось: Джон мог бы использовать свое положение в музее, чтобы повысить уважение к фотографии и уровень критики. Негоже, что фотографию ставят ниже живописи и скульптуры, полагал Роберт. Но Джон – он тогда готовил крупную выставку Пола Стрэнда – был всего лишь адептом фотографии и не считал, что он обязан повышать ее статус в иерархии искусств.
Я и не ожидала, что Роберт всецело подпадет под чары фотографии. Когда я уговаривала его фотографировать, то считала, что снимки послужат для коллажей и инсталляций – надеялась, что он пойдет по стопам Дюшана. Но у Роберта сменился угол зрения. Из подручного средства фотография стала для него целью. А надо всем этим витал Уорхол – фигура, которая, казалось, одновременно вдохновляла Роберта и сковывала его.
Роберт решил сделать то, чего Энди пока еще не пробовал. Прежде Роберт глумился над католическими образами Пресвятой Девы и Христа, включал в коллажи образы уродов и элементы садомазохизма. Но Энди считал себя пассивным наблюдателем, а Роберт рано или поздно сам включался в действо. Участвовал в том, к чему раньше мог прикоснуться только через журнальные картинки, становился летописцем.
Он начал расширять тематику: снимал знакомцев по своей запутанной светской жизни: сливки и отбросы общества, от Марианны Фэйтфул до молоденького жиголо с наколками. Но всегда возвращался к своей музе. Я считала, что больше не гожусь ему в модели, но он отметал мои возражения. Во мне он видел больше, чем могла увидеть я сама. Отделяя карточку с позитивным изображением от негативного, он всегда говорил:
– С тобой я никогда не промахнусь.
Я любила его автопортреты. Себя он снимал много. “Полароид” был для него этаким персональным фотоавтоматом, а Джон, считай, подарил ему неразменную монетку.

Нас пригласили на бал-маскарад, который давал Фернандо Санчес, великий испанский модельер, известный своим провокационным нижним бельем. Лулу и Максима прислали мне винтажное платье от Скиапарелли, сшитое из плотного крепа. Лиф был черный, с рукавами-фонариками и V-образным вырезом, красная юбка в пол широко развевалась. Платье подозрительно походило на наряд Белоснежки при ее знакомстве с Семью Гномами. Роберт был вне себя от радости.
– Ты его наденешь? – нетерпеливо спрашивал он.
На мое счастье, платье оказалось мне мало. Я оделась во все черное и дополнила ансамбль белоснежными кедами. Дэвид и Роберт были в смокингах.
То был один из самых изысканных вечеров сезона, собрались сливки мира моды и искусств. Я чувствовала себя Бастером Китоном: стояла одна, прислонившись к стене. Ко мне подошел Фернандо. Скептически оглядел меня.
– Милочка, ансамбль прекрасный, – сказал он, погладив меня по руке, косясь на мой черный пиджак, черный галстук, черную шелковую рубашку и сильно зауженные черные атласные брюки, – но эти белые теннисные туфли меня немножечко смущают.
– Они необходимы для моего костюма.
– Костюма? А кого вы изображаете?
– Теннисиста в трауре.
Фернандо оглядел меня с ног до головы и засмеялся.
– Бесподобно, – сказал он, указывая на меня публике. Взял меня за руку и немедленно повлек танцевать. Тут я оказалась в своей стихии: не зря же я выросла в Южном Джерси. На балу я не ударила в грязь лицом.
Фернандо был так заинтригован нашим диалогом, что пригласил меня участвовать в своем дефиле. Демонстрировалось нижнее белье. Манекенщицы, которые специализировались на белье, и среди них – я. Я была в тех же черных атласных брюках, рваной футболке и белых кедах: демонстрировала я черное, восемь футов в длину боа из перьев – творение Фернандо, – напевая “Annie Had a Baby”[107]. Таков был мой дебют на подиуме, начало и конец моей карьеры манекенщицы.
Важнее другое: Фернандо был почитателем творчества Роберта и моего собственного творчества, часто заходил в наш лофт посмотреть новые работы. Приобретал наши вещи во времена, когда мы с Робертом нуждались в деньгах и моральной поддержке.
Роберт сфотографировал меня для моего первого тоненького сборника стихов “Кодак” – брошюрки, которую выпустило филадельфийское издательство “Миддл-Эрс букс”. Я решила, что обложка должна напоминать издание “Тарантула” Дилана: кавер на кавере[108], так сказать. Купила кассеты для “Полароида” и белую рубашку с воротником на застежке. Надела ее с черным пиджаком и очками “Вэйфарерз”.
Роберт не хотел, чтобы я надевала черные очки, но стерпел мой каприз: для фотографии на обложку сфотографировал меня в очках.
– А теперь сними очки и пиджак. – И сделал еще несколько кадров, где я в белой рубашке. Отобрал четыре, выложил в ряд. Взял пустую кассету. Вставил одну из фотографий в кассету – черную металлическую рамку. Счел, что черная рамка не подходит. Обрызгал ее белой краской из баллончика. Роберт умел преображать исходные материалы и находить им неожиданное применение. Он выудил из мусорного ведра еще три или четыре пустых кассеты и тоже покрасил.
Еще немного покопался в мусоре, выудил черную бумажную полоску с надписью “Не прикасаться”, вставил в одну из распотрошенных кассет. Когда Роберту улыбалась удача, он был вылитый Дэвид Хеммингс из “Фотоувеличения”. Сосредоточенность на грани помешательства, снимки, развешанные по стенам – кот-сыщик, метящий территорию, которую патрулирует. Кровавый след, отпечаток ступни – его метка. Даже слова Хеммингса из фильма казались многозначительным намеком, заветной мантрой Роберта: “– Хотел бы я иметь кучу денег. Деньги – это свобода. – И что бы ты делал с этой свободой? – Да все, что захочу”.
* * *
Как говаривал Артюр Рембо: “Новые декорации – и шум новый”. После нашего с Ленни Кеем выступления в церкви Святого Марка моя жизнь ускорилась. Мои связи в среде рок-музыкантов окрепли. На вечере были многие известные критики – Дейв Марш, Тони Гловер, Дэнни Голдберг, Сэнди Перлмен, и теперь мне чаще заказывали статьи. А подборка стихов в журнале “Крим” стала моей первой крупной публикацией как поэта.
Сэнди Перлмен вообще выстроил целую концепцию того, чем мне стоило бы заняться. Тогда я еще не была готова осуществить этот сценарий моего будущего. Но мнение Сэнди всегда ценила. В голове Сэнди хранилась целая библиотека аллюзий – от пифагорейской математики до святой Цецилии, покровительницы музыки. Его оценки были основаны на глубоком знании всего на свете. В центре его непостижимой картины находился культ Джима Моррисона: Сэнди отводил Моррисону столь важное место в своей личной мифологии, что даже одевался под него – черная кожаная рубашка, черные кожаные брюки, пояс кончо[109] с огромными серебряными кругляшами. Сэнди был человек с юмором, говорил скороговоркой, никогда не снимал черных очков – прятал голубые льдинки своих глаз.
Сэнди видел меня “фронтменом” какой-нибудь рок-группы. Я о такой роли и не помышляла, да и не поверила бы, что справлюсь. Но после того, как мы с Сэмом сочиняли и исполняли песни в “Ковбойском языке”, мне захотелось поглубже изучить, как пишутся песни.
Когда-то Сэм познакомил меня с композитором и клавишником Ли Крэбтри, который работал с The Fugs и The Holy Modal Rounders. У Крэбтри был номер в “Челси”, где стояло бюро, битком набитое сочинениями: стопками музыкальных произведений, которых еще никто не слышал. У Крэбтри всегда было такое лицо, точно ему слегка не по себе. Он был веснушчатый, с жидкой рыжей бородкой, рыжие волосы прятал под шерстяной шапкой. Невозможно было понять, молод он или стар.
Начали мы с песни, которую я сочинила для Дженис, с песни, которую она так и не спела. Крэбтри обошелся с ней по-своему – наигрывал мелодию словно бы на каллиопе[110]. Я немножко робела, но Крэбтри робел еще больше, и мы были терпеливы друг с другом.
Проникнувшись ко мне доверием, он немного рассказал о себе. Он очень любил своего деда, у которого и жил в доме в Нью-Джерси, а дед оставил ему в наследство дом и еще кое-что: наследство скромное, но все же не пустячное. Крэбтри признался, что его мать оспаривает завещание, пытается запретить ему распоряжаться наследством, ссылаясь на его хрупкую психику. Даже пробовала упрятать его в больницу. Он повез меня смотреть дом. Пришел, сел в кресло своего дедушки и заплакал.
После этого мы отправились репетировать, и дело пошло на лад. Мы работали над тремя песнями. У него были кое-какие идеи насчет музыки к “Собаке Дилана” (“Dylan’s Dog”) и “Пожару, возникшему без причины”, а закончили мы “Песней о работе” (“Work Song”) – моей песней для Дженис. Я поразилась, как классно она зазвучала: Крэбтри подобрал тональность, в которой я могла петь.
Как-то он пришел ко мне на Двадцать третью. На улице лил дождь. Крэбтри был в отчаянии: мать доказала, что он не в состоянии распоряжаться наследством. Теперь он не имел права появляться в дедовом доме. Он промок до костей, и я дала ему футболку, которую мне подарил Сэнди Перлмен, пробный экземпляр с логотипом одной новой рок-группы (Сэнди был у них менеджером).
Я постаралась как могла утешить его, и мы договорились встретиться снова. Но на следующей неделе он так и не пришел репетировать. Я сходила в “Челси”, но там его не застала. Через несколько дней стала расспрашивать людей и услышала от Энн Уолдмен: потеря наследства и страх перед госпитализацией подтолкнули его к прыжку с крыши “Челси”; он разбился насмерть.
Я остолбенела. Перерыла воспоминания в поисках предвестий. Стала гадать, могла бы я ему как-то помочь. Но мы только-только начали находить общий язык, доверять друг другу.
– Почему мне никто не сказал? – спросила я.
– Не хотели тебя расстраивать. Он был в футболке, которую ты ему дала, – сказала Энн.
После этого, когда я пела, у меня возникали какие-то странные ощущения. И я вернулась к сочинению стихов, но пение само меня нашло. Сэнди Перлмен, убежденный, что мое дело – петь, свел меня с Алленом Ланьером, клавишником группы, в которой был менеджером. Свою карьеру они начали под названием Soft White Underbelly. Записали для фирмы “Электра” альбом, который так и не вышел. Теперь они называли себя Stalk-Forrest Group, но вскоре переименовались в Blue ?yster Cult.
Сэнди хотел убить двух зайцев: во-первых, считал, что Аллен сможет отшлифовать песни, которые я писала просто для себя, во-вторых, надеялся, что я буду писать тексты для группы. Аллен был из прекрасного южного рода, к которому принадлежали поэт времен Гражданской войны Сидни Ланьер и драматург Теннесси Ланьер Уильямс. Он был учтив, старался меня ободрить. Как и я, любил Блейка, знал его стихи наизусть.
Наше музыкальное сотрудничество продвигалось медленно, но дружба все крепла, и вскоре мы предпочли романтические отношения творческому партнерству. В отличие от Роберта, Аллен старался не смешивать первое со вторым.
Роберту Аллен был симпатичен. Оба уважали друг друга и мои отношения с ними по отдельности. Аллен вписался в наше сообщество, как и Дэвид при Роберте, и все мы сосуществовали мирно. Аллен часто уезжал на гастроли с группой, но когда он был в городе, то все чаще ночевал у меня.
Аллен помогал нам сводить концы с концами. Тем временем Роберт всеми силами стремился к финансовой независимости. Вновь и вновь предлагал свои работы по галереям, но чаще всего слышал: “Хорошо, но слишком рискованно”. Иногда ему удавалось продать какой-нибудь коллаж, иногда он слышал похвалы от Лео Кастелли и птиц не менее высокого полета, но в целом оказался в том же положении, что и молодой Жан Жене. Когда Жене принес свои рукописи Жану Кокто и Андре Жиду, они поняли, что перед ними талант, но испугались его накала, а также того, что тематика книг Жене сорвет покров с их личной жизни.
Роберт заглядывал туда, где люди по доброму согласию дают выход своим темным порывам, и превращал свои впечатления в произведения искусства. Он даже не пытался извиняться за своих героев. Придал гомосексуалистам величественность, маскулинность, завидное благородство. Манерность была ему чужда. Он создал образ человека, который является полноценным мужчиной, но не подавляет в себе женскую грацию. Роберт не собирался заниматься политической агитацией или оповещать об эволюции своей сексуальной ориентации. Просто показывал зрителю нечто новое, то, чего прежде не видели и не осмысляли так, как видел и осмыслял он. Стремился возвысить аспекты мужского опыта, наполнить гомосексуальность мистицизмом. Как сказал Кокто об одном стихотворении Жене: “Его непристойности никогда не непристойны”.
Роберт был абсолютно бескомпромиссен, но, как ни странно, на меня смотрел с укором. Боялся, что моя ершистость помешает мне добиться успеха. Но к тому успеху, которого он желал мне, я была глубоко равнодушна. Когда маленькое радикальное издательство “Телеграф букс”, где у руля стоял Эндрю Уайли[111], предложило мне опубликовать у них тонкий сборник стихов, я отобрала вещи, которые балансировали на грани, – тексты о сексе, девках и богохульстве.
Меня заинтересовали девушки: Марианна Фэйтфул, Анита Палленберг, Амелия Эрхарт, Мария Магдалина. Я ходила с Робертом на вечеринки, просто чтобы поглазеть на дам. У них была хорошая фактура, и одеваться они умели. Прически “конский хвост”, шелковые платья-рубашки. Некоторые девушки попали в мои произведения. Люди неверно трактовали мое увлечение. Думали: то ли я латентная лесбиянка, то ли притворяюсь такой. Но я всего лишь была персонажем Микки Спилейна – давала волю своей беспощадной иронии.
Меня забавляло, что Роберт – это Роберт-то! – смущен тематикой моих работ. Он боялся, что эпатаж помешает мне преуспеть. Вечно уговаривал меня: “Напиши песню, под которую я мог бы танцевать”. В итоге я обычно говорила, что он, наподобие своего отца, толкает меня на коммерческую дорожку. Но меня этот путь не привлекает, и вообще, моя грубость с коммерческим искусством несовместима. Роберт мрачнел, но от своего мнения не отступался.
Когда вышла моя книга “Седьмое небо” (“Seventh Heaven”), Роберт вместе с Джоном и Максимой организовал по этому случаю вечеринку. Неформальный дружеский ужин в изящной квартире Джона и Максимы на Сентрал-Парк-Вест. Они любезно позвали множество своих друзей из сфер искусства, высокой моды и книжного бизнеса. Я развлекала гостей стихами и байками, а потом приволокла большую хозяйственную сумку и принялась торговать своими книжками по доллару штука. Роберт беззлобно упрекнул меня – как можно, устроила базар в гостиной Маккендри, – но Джордж Плимтон, которому особенно понравилось стихотворение об Эди Седжвик, нашел мою оборотистость очаровательной.
Да, манеры вести себя в обществе у нас с Робертом были несхожими, и мы страшно раздражали друг друга. Но нас выручали любовь и юмор. В конечном итоге общего у нас было больше, чем различий, и мы инстинктивно тянулись друг к дружке через самую широкую пропасть. С неослабевающей выдержкой перетерпели все – беды большие и маленькие. Я считала, что мы с Робертом связаны неразрывно, точно Поль и Элизабет – брат и сестра из “Ужасных детей” Кокто. Мы играли в похожие игры: самые пустяковые вещицы объявляли сокровищами, часто озадачивали друзей и знакомых нашей преданностью друг дружке, ускользавшей от всех ярлыков.
Роберта осуждали за то, что он якобы отрицал свою гомосексуальность; о нас судачили, будто мы лишь притворяемся парой. Роберт боялся: если он открыто назовет себя гомосексуалистом, наши отношения рухнут. Нам требовалось время, чтобы разобраться, что все это значит, как нам приноровиться к ситуации и дать новое определение нашей любви. Благодаря Роберту я усвоила: через противоречие часто лежит самый короткий путь к истине.

На пожарной лестнице. Западная Двадцать третья улица

Снимок из фотоавтомата на Сорок второй улице. 1970
* * *
Если сравнивать Роберта с моряком, то Сэм Уэгстафф стал для него кораблем. У Дэвида Кроленда на каминной доске стояла фотография юноши в матросской шапке: лицо вполоборота, нахальный манящий взгляд. Сэм Уэгстафф взял в руки фото, вгляделся.
– Кто это? – спросил он.
“Ага!” – подумал Дэвид и назвал имя.
Сэмюэль Джонс Уэгстафф-младший был умен, красив, богат. Он был коллекционер, меценат, одно время занимал пост куратора Детройтского института искусств. Тогда Уэгстафф оказался на распутье. Он получил крупное наследство и погрузился в глубокие размышления: его одинаково сильно влекли и духовные и материальные ценности. Раздать все имущество и пойти стезей суфия? Или инвестировать капитал в какой-нибудь вид искусства, которым он до сих пор не занимался? И вдруг дерзкий взгляд Роберта словно бы подсказал Сэму ответ.
В квартире Дэвида там и сям висели работы Роберта. Сэм увидел все, в чем нуждался для принятия решения.
Так, без какого бы то ни было умысла, Дэвид предопределил дальнейшую жизнь Роберта. Я вижу это так: Дэвид, точно кукловод, вводил в спектакль нашей биографии новых персонажей, подталкивал Роберта в новую сторону, провоцируя повороты сюжета. Это Дэвиду Роберт был обязан знакомством с Джоном Маккендри – с тем, кто впустил его в сокровищницу шедевров фотоискусства. Теперь же Дэвид прислал Роберту Сэма Уэгстаффа, и благодаря Сэму в жизни Роберта появились любовь, богатство, дружба и кое-какие невзгоды.
Через несколько дней в лофте Роберта зазвонил телефон.
– Это застенчивый порнограф? – таковы были первые слова Сэма.
За Робертом увивались и мужчины и женщины. Знакомые частенько стучались в мою дверь: просили позволения приударить за Робертом, спрашивали, как найти путь к его сердцу.
– Полюбите его творчество, – отвечала я. Но ко мне почти никто не прислушивался.
Рут Клигмен[112] спросила меня: “Ничего, если я попробую его закадрить?” Рут – единственная, кто уцелел в автокатастрофе, убившей Поллока (потом она написала книгу “Любовная связь: воспоминания о Джексоне Поллоке”), – была хороша собой в духе Элизабет Тейлор. Рут всегда была разодета в пух и прах. Запах ее духов я чуяла, когда сама Рут еще только поднималась по лестнице. Рут постучалась ко мне (шла она вообще-то к Роберту, напросилась к нему в гости) и, многозначительно подмигнув, попросила:
– Пожелай мне удачи.
Через несколько часов она вновь зашла ко мне. Сбросила с ног свои босоножки на шпильках, растерла щиколотки.
– О господи! Когда он говорит “Приходи посмотреть гравюры”, он и вправду имеет в виду, что мы будем смотреть гравюры.
Полюбить его творчество. Только так можно было завоевать сердце Роберта. Но единственным, кто действительно это понял, единственным, кто сумел полюбить его творчество всей душой, оказался человек, который стал его любовником, меценатом и другом на всю жизнь.
Когда Сэм впервые пришел в лофт Роберта, меня не было дома. Потом Роберт сказал, что они с Сэмом весь вечер смотрели его работы. Сэм делал глубокие, вдохновляющие замечания с шутливо-игривым подтекстом. Пообещал зайти еще раз. В ожидании следующего звонка Сэма Роберт весь извелся – ну прямо школьница.
Сэм Уэгстафф с ошеломляющей быстротой вошел в нашу жизнь. Внешне он походил на скульптуру, на гранитное изваяние: высокий, суровый, вылитый Гэри Купер – но с голосом Грегори Пека, непосредственная и нежная натура. Роберту Сэм понравился не только своей внешностью. Сэм смотрел на жизнь с оптимизмом, не растерял любопытства, а также, в отличие от других знакомых Роберта по арт-тусовке, не терзался из-за сложных аспектов гомосексуализма. А если и терзался, то это было незаметно. Как и другие люди его поколения, Сэм старался не афишировать свою нетрадиционную ориентацию. Но он ее и не стыдился, не боролся со своей натурой и – по крайней мере, так показалось мне – охотно согласился с предложением Роберта не скрывать их отношения.
Сэм был настоящий мужчина с отменным здоровьем и ясным умом. Немаловажные достоинства во времена, когда все вокруг ходили под кайфом и даже при желании не могли поддержать серьезный разговор об искусстве. Сэм был богат, но не делал из денег культа. Эрудированный, с восторгом встречавший провокационные идеи, он стал идеальным меценатом Роберта и адептом его творчества.
Сэм импонировал нам обоим: мне нравилась его независимая натура, Роберту – его солидное положение в обществе. Сэм изучал суфизм и одевался незамысловато: в белую льняную одежду и сандалии. Он был человек скромный и, казалось, даже не замечал восхищенных взглядов. Сэм окончил Йельский университет, в звании лейтенанта служил на корабле, который участвовал в высадке войск в Нормандии, работал куратором Атенеума Уодсворта[113]. Мог с юмором и знанием дела беседовать о чем угодно – от рыночной экономики до личной жизни Пегги Гуггенхайм.
Казалось, их союз предрешен свыше. Роберт и Сэм даже родились в один день с разницей в двадцать пять лет. Четвертого ноября мы отпраздновали эту дату в “Розовой чашке” – ресторанчике на Кристофер-стрит, где отменно готовили блюда кухни соул[114]. Несмотря на свои финансовые возможности, Сэм любил питаться в тех же забегаловках, что и мы. В тот вечер Роберт подарил Сэму свою фотоработу, а Сэм ему – фотоаппарат “Хассельблад”. Этот обмен в самом начале знакомства символизировал распределение ролей между ними: один – меценат, другой – художник.
“Хассельблад” представлял собой среднеформатный фотоаппарат со специальной приставкой для съемки на кассеты “Полароид”. Машинка была далеко не примитивная: для настройки требовался экспонометр. Сменные объективы позволяли Роберту варьировать глубину резкости. “Хассельблад” расширил возможности Роберта, позволил работать более гибко, лучше контролировать светотени. Но собственный фотографический язык у Роберта уже был. Новый фотоаппарат ничему его не научил, просто дал шанс реализовывать замыслы в точности. Роберт с Сэмом не могли бы придумать более символичных подарков друг другу.
* * *
В конце лета перед “Челси” в любое время дня и ночи стояли два “кадиллака” модели, прозванной “двойной пузырь”. Один был розовый, другой желтый. Их хозяева, сутенеры, носили костюмы и широкополые шляпы под цвет своих автомобилей. А их женщины – платья под цвет костюмов сутенеров. “Челси” менялся, и в воздухе Двадцать третьей улицы ощущался привкус шизофрении: казалось, что-то прогнило. Логическое мышление отключилось, несмотря на всеобщее внимание к шахматному матчу, в результате которого молодой американец Бобби Фишер положил на лопатки могучего русского медведя. Одного из сутенеров убили; его женщины остались без крова и агрессивно толклись у наших дверей, нецензурно ругались, рылись в наших почтовых ящиках. Чисто ритуальные перебранки Барда с нашими друзьями переросли в серьезные перемены: многих выселили за неуплату.
Роберт часто куда-нибудь уезжал с Сэмом, Аллен много времени проводил на гастролях. Оба тревожились, что мне приходится ночевать одной.
Потом в наш лофт залезли. У Роберта украли “Хассельблад” и кожаную куртку-косуху. На этой квартире нас еще никогда не обворовывали, и Роберт расстроился не только из-за дорогого фотоаппарата, но и потому, что почувствовал свою уязвимость: в его дом вторглись чужие. Я скорбела по куртке, ведь мы использовали ее в инсталляциях. Позднее мы обнаружили, что куртка свисает с пожарной лестницы – вор впопыхах уронил ее, но фотоаппарат все-таки унес. В моем лофте вор наверняка обалдел от беспорядка, но все-таки стащил одежду, в которой я ездила на Кони-Айленд в 1969-м, праздновать год со дня нашего знакомства. Это был мой любимый наряд – я в нем сфотографировалась. Одежда, только что принесенная из химчистки, висела на крючке с внутренней стороны двери. Зачем только вор ее прихватил? Как знать.
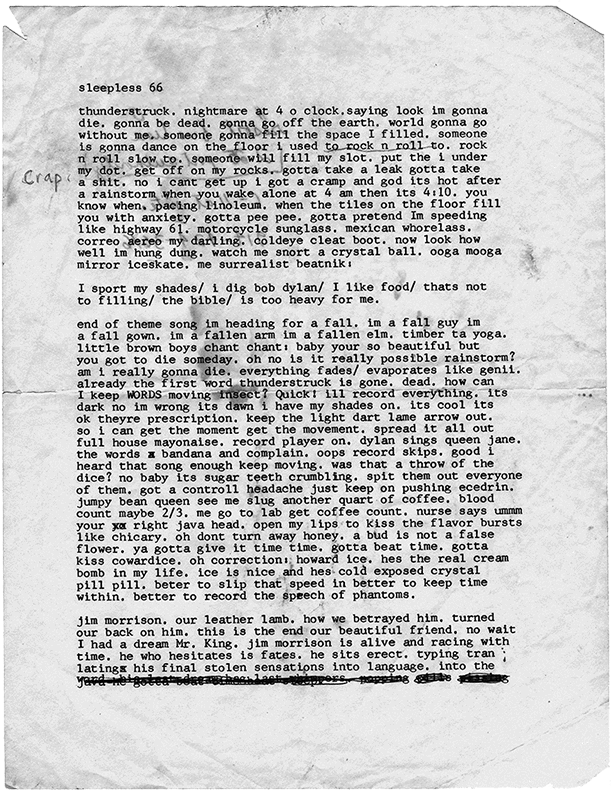
“Бессонное 66”. зима 1971 года
Пришло время переезжать в другое место. Трое мужчин, три спутника моей жизни, – Роберт, Аллен и Сэм – все устроили. Сэм дал Роберту денег на покупку лофта на Бонд-стрит, в квартале от своего дома. Аллен нашел квартиру на втором этаже на Восточной Десятой улице, в шаговой доступности от Роберта и Сэма. Он заверил Роберта, что прокормит меня на свои музыкальные заработки.
Мы решили переехать 20 октября 1972 года. В день рождения Артюра Рембо. Роберт и я рассудили, что сдержали свою клятву. “Теперь все будет иначе”, – думала я, упаковывая свои вещи, весь свой безумный бардак. Перевязала шпагатом коробку, в которой когда-то лежали чистые листы лощеной бумаги. Теперь она хранила отпечатанные на машинке страницы с кофейными пятнами – их спас Роберт, подобрал с пола и разгладил своими руками, словно написанными Микеланджело.
Мы с Робертом немного постояли вместе в моем лофте. Кое-что я оставила: ягненка на колесиках, старый белый жакет из парашютного шелка, буквы и цифры “патти смит, 1946”, написанные по трафарету на дальней стене. Это было мое приношение комнате: так богам оставляют вино на донышке сосуда.
Знаю: мы думали об одном и том же, обо всем, что пережили вместе, о плохом и хорошем, и одновременно чувствовали, что сбросили некое бремя. Роберт сжал мою руку:
– Тебе грустно переезжать?
– Нет. Я готова.
Мы покидали водоворот нашей постбруклинской жизни, центром которой был “Челси”, этот форум, где жизнь била ключом. Карусель замедляла вращение. Я упаковывала даже самые пустяковые вещицы, накопленные за несколько лет, и передо мной, как слайды, мелькали лица. В том числе лица тех, кого я больше не увижу.
“Гамлет” – память о Джероме Рагни, вообразившем меня в роли печального и надменного принца Датского. Рагни был соавтором мюзикла “Волосы” и играл в нем главную роль. Наши дороги больше не пересеклись, но вера Рагни в меня помогла раскрыться моей личности. Энергичный, мускулистый, с густой шапкой кудрей и широкой ухмылкой, Рагни так увлекался какой-нибудь сумасшедшей затеей, что вскакивал на стул и воздевал руки: казалось, ему срочно нужно поделиться идеей с потолком, а лучше бы – со всей Вселенной.
Мешочек из синего атласа, расшитый золотыми звездами: Дженет Хэмилл сшила мне его для хранения карт таро. И сами карты, на которых я гадала Энни, Сэнди Дейли, Гарри и Пегги.
Тряпичная кукла с волосами из испанских кружев – подарок Эльзы Перетти[115]. Подставка для губной гармошки – оставил Мэтью. Записки от Рене Рикарда[116] – он меня отчитывал за то, что я хочу забросить рисование. Черный мексиканский ремень со вставками из горного хрусталя остался от Дэвида. Майка с широким воротом – от Джона Маккендри. Кофта из ангоры – от Джеки Кертис.
Складывая кофту, я явственно увидела Джеки, окутанную алой мглой дальнего зала у “Макса”. В этом заведении тусовка менялась не менее стремительно, чем в “Челси”, и те, кто пытался привнести туда шик классического Голливуда, неминуемо обнаруживали, что безнадежно отстали от молодой гвардии.
Многие не выдюжили. Кэнди Дарлинг умерла от рака. Динь-Динь и Андреа Хлыст покончили с собой. Другие принесли себя в жертву наркотикам и несчастьям. Их скосило на самых подступах к высокому пьедесталу славы, который они так мечтали покорить. Заржавевшие звезды, упавшие с неба.
Выжили немногие. В том числе я. Совершенно не собираюсь гордиться тем, что уцелела. Я бы предпочла, чтобы все, кто катался на нашей карусели, схватили удачу за хвост. Просто мне по чистой случайности досталась счастливая лошадка.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК