* * *
* * *
Рощи пальм и заросли алоэ,
Серебристо-матовый ручей,
Небо, бесконечно голубое,
Небо, золотое от лучей.
И чего еще ты хочешь, сердце?
Разве счастье – сказка или ложь?
Для чего ж соблазнам иноверца
Ты себя покорно отдаешь?
Разве снова хочешь ты отравы,
Хочешь биться в огненном бреду,
Разве ты не властно жить, как травы
В этом упоительном саду?
Увы, обстоятельства иногда сильнее мечтаний. Денег было в обрез, и все же Гумилев за те несколько недель, что длилось его путешествие, побывал и в Александрии, и в Каире, он видел Эзбекие, он купался в Ниле.
Деньги на обратную дорогу пришлось брать у ростовщика. Возвращался Гумилев тем же самым путем, каким уезжал, не пропустив ничего. Даже заехал в Киев.
Странная обстоятельность для поэта, особенно если он молод. Не делая каких бы то ни было далеко идущих выводов («пустые выдумки», скажет кто-то), напомню строки из «Фауста»:
О Мефистофеле,
который всегда возвращается
тем же самым путем
(перевод Холодковского).
Впоследствии А. Ахматова говорила, что больше Гумилеву ни разу не приходила мысль о самоубийстве. Так благотворно сказалась на нем это первое, короткое путешествие. Удивительное утверждение, не так ли?
Особенно удивительным кажется оно, если вспомнить, что вскоре после возвращения он в письме к В.Я. Брюсову говорит: «У меня намечено несколько статей, которые я хотел бы напечатать в «Весах» в течение этого года. Не взяли бы Вы также повесть листа в 4,5 печатных. Она из современной жизни, но с фантастическим элементом. Написана скорее всего в стиле «Дориана Грея», фантастический элемент в стиле Уэллса. Называется «Белый Единорог».
Кстати, нельзя ли поместить в каталоге «Скорпиона» заметку, что готовится к печати моя книга стихов под названием «Золотая магия». Это вместо «Жемчугов»…»

Мечеть Гасана в Каире. Фотография, XX в.
Выше упоминалось, но повторю, роман «Портрет Дориана Грея» можно рассматривать не столько как манифест эстетизма, сколько как книгу об алхимических трансмутациях. А если прибавить к этому, что название «Жемчуга» автор хочет заменить названием «Золотая магия» (ведь речь не идет о замене самих стихов, других попросту нет, речь о том, что название должно раскрывать содержание книги, соответствовать авторскому замыслу), то и вовсе есть над чем задуматься. Первоначальное (и оставленное, в конце концов) название тоже связано с магическими манипуляциями – растворенный жемчуг используется в различных составах при оккультных занятиях – однако Гумилеву показалось, что этого недостаточно. Золото не только входило в алхимическую тинктуру, оно являлось заключительной стадией алхимического процесса, именно в него превращаются различные вещества после прикосновения философского камня.
И о том же алхимическом преображении говорится в стихотворении, посвященном художнику С. Судейкину, стихотворении «Путешествие в Китай» (оно вошло в сборник «Жемчуга»).
Воздух над нами чист и звонок,
В житницу вол отвез зерно,
Отданный повару, пал ягненок,
В медных ковшах играет вино.
Что же тоска нам сердце гложет,
Что мы пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее.
Все мы знавали злое горе,
Бросили все заветный рай,
Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.
Только не думать! Будет счастье
В самом крикливом какаду,
Душу исполнит нам жгучей страстью
Смуглый ребенок в чайном саду.
В розовой пене встретим даль мы,
Нас испугает медный лев.
Что нам пригрезится в ночь у пальмы,
Как опьянят нас соки дерев?
Праздником будут те недели,
Что проведем мы на корабле…
Ты ли не опытен в пьяном деле,
Вечно румяный, мэтр Рабле?
Грузный, как бочки вин токайских,
Мудрость свою прикрой плащом,
Ты будешь пугалом дев китайских,
Бедра обвив зеленым плющом.
Будь капитаном! Просим! Просим!
Вместо весла вручаем жердь…
Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!
Фантастическая повесть из современной жизни, так и не написанная Гумилевым, какой бы она была? Судя по тому, что он долго не оставлял этот замысел, он дорожил этим произведением. Судя по тому, что повесть так, не создана, автор решил, что идея пережила сама себя. Вернее, идею эту полностью воплотил сборник стихов «Жемчуга».
Интересно: занимающийся столько неординарными вопросами Гумилев живет если и не как обыватель, до явно не как адепт. Семья Гумилевых переехала в другой дом, под одной крышей обитают и родители, и сам Гумилев, и его сестра с детьми, брат Дмитрий, который после женитьбы, хотя и поселился в Ораниенбауме, почти неотлучно находится здесь же.
Сам Гумилев делается вхож к Вяч. Иванову, посещает ивановские «среды». И, словно подчеркивая собственную благонамеренность, проводит будто чиновник, время за картами, принимает гостей, потчуя их пирогами, о чем вспоминает новый его добрый знакомый С. Ауслендер: «С этих пор начался период нашей настоящей дружбы с Гумилевым, и я понял, что все его странности и самый вид денди – чисто внешние. Я стал бывать у него в Царском Селе. Там было очень хорошо. Старый уютный особняк. Тетушки. Обеды с пирогами. По вечерам мы с ним читали стихи, мечтали о поездках в Париж, в Африку.
Заходили царскоселы, и мы садились играть в винт. Гумилев превращался в завзятого винтера, немного важного. Кругом помещичий быт, никакой Африки, никакой романтики.
Весной 1909 года мы с ним часто встречались днем на выставках и не расставались весь день. Гуляли, заходили в кафе. Здесь он был очень хорош как товарищ. Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, то делался очень дружественным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов. В нем появлялась огромная нежность и трогательность».
К осени 1908 года относится и работа над портретом Гумилева. Его автор, художница О. Делла-Вос-Кардовская, чья семья теперь соседствовала с семьей Гумилевых, познакомилась с ним еще 9 мая, в день именин поэта. Отношения продолжались вплоть до отъезда новых знакомых за границу и возобновились после приезда. Художница рассказывала, по просьбе П. Лукницкого, биографа Гумилева: «В ту осень в Петербурге была сильная холера, и мы задержались за границей до октября месяца. Вернувшись, мы узнали, что Гумилевы переехали на другую квартиру, на Бульварной улице. В это время умер отец Николая Степановича. Поскольку верхний этаж пустовал, я устроила в нем свою мастерскую и студию, где преподавали мы с мужем. В этой мастерской впоследствии и был мной написан портрет Николая Степановича…
С осени возобновилось наше знакомство с семьей Гумилевых. Николай Степанович сделал нам официальный визит, а затем мы довольно часто стали бывать друг у друга. Он любил визиты, придавал им большое значение и очень с ними считался…

«Башня» Вяч. Иванова
…Приблизительно в этот период Николай Степанович написал в мой альбом посвященное мне стихотворение, а также акростих в альбом нашей дочери Кати.
…Мысль написать портрет Николая Степановича пришла мне в голову еще весной 1908 года. Но только в ноябре я предложила ему позировать. Он охотно согласился. Его внешность была незаурядная – какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие серые слегка косившие глаза, красиво очерченный рот. В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло…
Во время сеансов Николай Степанович много говорил со мной об искусстве и читал на память стихи Бальмонта, Брюсова, Волошина. Читал он и свои гимназические стихи, в которых воспевался какой-то демонический образ. Однажды я спросила его:
– А кто же героиня этих стихов?
Он ответил:
– Одна гимназистка, с которой я до сих пор дружен. Она тоже пишет стихи…»
Или художница что-то спутала (она поначалу и совсем отговаривалась тем, что не помнит ни подробностей, ни дат), или героиней стихов, не всех, но многих, была отнюдь не Анна Горенко, которая давно кончила гимназию и поступила на юридические курсы.
Однако то, что касается профессиональных вопросов, О. Делла-Вос-Кардовская обрисовала превосходно, характеристика ее точная и лапидарная: «Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины».
Продолжает Гумилев посещать и «башню» Вяч. Иванова, читает перед гостями и хозяином стихи, имеет успех.
Про «башенный» быт в свойственной ему манере вспоминает А. Белый: «Быт выступа пятиэтажного дома, иль «башни», – единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали, пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта – музеик; та – точно сараище; войдешь, – забудешь в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь – днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами; они начинались позднее 12 ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его (в 1909—1910 годах).

О. Делла-Вос-Кардовская. Фотография, 1900-е гг.
Хозяин «становища» (так Мережковские звали квартиру) являлся к обеду: до – кутался пледом; с обвернутою головой утопал в корректурах на низком, постельном диване, работая, не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до – не мог он проснуться, ложась часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиною вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся: обедать: проведший со мною на «башне» два дня Э.К. Метнер на третий сбежал; я такую выдержал жизнь недель пять; возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что – утренней».
А. Белый был одним из постоянных посетителей этого самого «становища», радушного, если дело касалось людей, которые импонировали хозяевам. Кроме него здесь находили пристанище многие: «…мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях «логова»: сам Вячеслав, М. Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С.К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузмин проживал: у него ночевали «свои»: Гумилев, живший в Царском; и здесь приночевывали: А.Н. Чеботаревская, Минцлова, я, Степун, Метнер, Нилендер, в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям «Вячеславом Великолепным»: Шестов так назвал его.

Гумилев. Художница О. Делла-Вос-Кардовская
Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, с о в е т Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Агеев, Юрий Верховский, Д.В. Философов, С.П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух – не двулапый, а четырехлапый, иль Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов, или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железной необходимостью, как восходящее солнце: изо дня в день».
Пожалуй, если А. Белый что и присочинил, то самую малость, а рассеянность профессора Каблукова, одного из прототипов хрестоматийных детских стихов С. Маршака, вошла в анекдоты.
Но занимались посетители «башни» вещами, скорее, скучноватыми. Только лица заинтересованные и достаточно эрудированные могли выдержать лекции по стихосложению, которые читал Вяч. Иванов (первоначально хотели, чтобы лекции читали и другие мастера, но потом от мысли такой отказались). Это был период так называемой «Про-Академии», преобразившейся затем в «Общество ревнителей художественного слова», его называли еще «Академией». Собрания проходили раз в две недели у Вяч. Иванова на «башне».
В. Пяст вспоминает об этом периоде в своих мемуарах: «В квартире на «башне» бывало по вечерам в ту весну тихо и печально, – но царствовала кипучая работа. Появилась большая аспидная доска; мел в руках лектора; заслышались звуки «божественной эллинской речи»: раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, «народов» и «экзодов». Все это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных стихов. Своим эллинистическим подходом к сути русской просодии Вячеслав Иванов, правда, полил несколько воды на мельницу довольно скучных воскрешателей античных ритмов в русских звуках, – вроде М.Л. Гофмана, издававшего тогда книгу «Гимны и оды», ничем не замечательную, кроме того, что вся она была написана алкеевыми, сапфическими или архилоховыми строфами, – без достаточной тонкости в передачи их музыки. Но в общем, лекции «Про-Академии», записанные целиком Б.С. Мосоловым, составили бы превосходное введение в энциклопедию русского стиха…»
Тишина и печаль, упоминаемые мемуаристом, имели причину вескую – совсем недавно скончалась жена Вяч. Иванова. Работа, между тем, продолжалась. Выступал с докладом эллинист Ф.Ф. Зелинский, участвовал в дискуссии И.Ф. Анненский.
Гумилев сближается с такими людьми как А. Ремизов, тот же В. Пяст, Г. Чулков, В. Мейерхольд, а несколько позднее М. Кузмин. Эти новые его знакомства не вызвали отрицательной реакции В.Я. Брюсова, тогда как поддерживавшиеся Гумилевым отношения с Вяч. Ивановым стали причиной брюсовского отдаления. Пришлось объясняться: «Дорогой Валерий Яковлевич, я не писал Вам целую вечность и две вечности не получаю от Вас писем. Что послужило причиной последнего, не знаю, и никакой вины за собой не чувствую.
Я три раза виделся с «царицей Савской» (так Вы назвали однажды Вячеслава Ивановича), но в дионисианскую ересь не совратился. Ни на каких редакционных или иных собраниях, относительно которых Вы меня предостерегали, не бывал…
…Еще раз прошу Вас: не признавайте меня совершеннолетним и не отказывайтесь помогать мне советами. Всякое Ваше письмо с указаниями относительно моего творчества для меня целое событие. Вячеслав Иванович вчера сказал мне много нового и интересного, но учитель мой Вы, и мне не надо другого…»
Однако сам Гумилев чувствовал собственное «совершеннолетие». Он считал, что парижский опыт с изданием журнала почти удался и его следует продолжить в иных условиях. Редакторский пыл не угас, а кажется, напротив, стал еще сильнее. Товарищи по литературе, на помощь которых можно было положиться, поскольку, столь же ярые и молодые, как сам Гумилев, они мечтали о славе, успехе, признании, имели все необходимое – способности, решимость, силы, не имели они лишь одного, денег, как не имел их и Гумилев. Это, во многом, и предрешило судьбу нового журнала.

Вяч. Иванов. Фотография, 1910-е гг.
В издании его не последнюю роль играл А.Н. Толстой: «В следующем году мы снова встретились с Гумилевым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван «Остров». Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй – не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно. Какими-то, до сих пор непостигаемыми для меня путями он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал и печаталась на верже. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову, Гумилев получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же – в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом на брови цилиндре – появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы».
Первый номер «ежемесячного журнала стихов», о чем уведомлял подзаголовок, вышел в июне 1909 года и был воспринят без особого восторга. Похвалы С. Соловьева, чья рецензия была помещена в № 7 журнала «Весы» за 1909 год, сейчас выглядят вовсе не похвалами, а неявной насмешкой. Кроме прочего, рецензент пишет, что Гумилев, у которого встречаются и яркие образы, и литые строфы, злоупотребляет изысканными рифмами: «Так, в трех строфах у него встречаются: бронзы – бонзы, злобе – Роби, Агры – онагры. А через несколько строф далее идут: согнут – дрогнут, былое – алоэ…» Рифмы, извлеченные из единого целого стихотворения, звучат очень забавно.
Но куда занятнее другое. Второй номер журнала, планировавшийся к выходу в августе и, как принято считать, не сохранившийся (выкупил ли его Гумилев из типографии, или журнал пошел под нож, либо распродан на оберточную бумагу за неуплату?), так бы и следовало считать навсегда утраченным, ибо основная часть тиража исчезла, словно растворилась, однако – не странность, и все же, – на этот второй, почти мифический номер в журнале «Аполлон» откликнулся рецензией М. Кузмин: «Г-же Любови Столице было угодно надеть доспехи древней «поляницы». Отчего же скучающей Людмиле не надеть и этого наряда? «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».
На каждой странице «лукоморье», ширяет «растильчивый» «шелом» и т.д., всего не перечесть. Себя величает «исполинской девой», «богатыркой», «каменной бабой», но всегда мы видим барышню, вышедшую в поле и говорящую, какая она была «вся розовая», какие у нее были руки, глаза, волосы, – т.е. прием не только не совсем скромный, но далеко и не художественный.
Так и данный опыт маскарада может только рассматриваться как милый, несколько претенциозный женский каприз.
Гр. А. Толстой ни слова не говорит о том, какой он был солнечный, но подлинный восторг древнего или будущего солнца заражает при чтении его «Солнечных песен». Насколько нам известно, это первая вещь гр. Толстого в таком роде, за которой последовал ряд других, может быть, более совершенных, но в этом запеве так много подлинной пьяности, искренности, глубокого и наивного чувствования мифа, что он пленит любое сердце, воображение и ухо, не закрытые к солнечным русским чарам. Если мы вспомним А. Ремизова и С. Городецкого, то сейчас же отбросим эти имена по существенной разнице между ними и гр. Толстым.
Грань А. Ремизову, более выразившемуся поэту, – это несомненно книжное происхождение его вдохновений, а Городецкий действует совершенно различным приемом быстрого ритма, не дающего нам возможности разобрать, что мы слышим, и скрывающего смысл или часто отсутствие его. Здесь же каждое слово, образ полны самого настоящего значения, и не приходит в голову искать их происхожденья, что дает этой поэме необычайную убедительность.
Н. Гумилев дал изящный сонет, начинающийся с довольно рискованного утверждения: «Я попугай с Антильских островов…» Мил сонет и г-жи Дмитриевой. А. Блок и А. Белый дали кое-какие стихи, особенно первый. Есть стихи гг. Эльснера и Лившица. Но, безусловно, главным украшением книжки «Острова» нужно считать вещи С. Соловьева, высокого вкуса и безукоризненного мастерства. Особенно хорош «Отрок со свирелью».
Признаться, мне бы не хотелось встретить свою фамилию в критическом опусе такого рода. Впрочем, хорошо и то, что со слов рецензента можно узнать и состав журнала, и даже припомнить одну из гумилевских строк, да и звучит этот отклик едва ли не дифирамбом рядом с отзывом того же рецензента на книгу стихов Н. Животова с душераздирающим названием «Клочья нервов» (обе рецензии объединены в общем обзоре).
Деятельность Гумилева-редактора стала предметом и для злой пародии. Некогда учившийся с Гумилевым в одном классе Царскосельской гимназии Д. Коковцев вместе с соавтором (с кем – доподлинно неизвестно, поскольку вещь была подписана только инициалами) создали пьесу «Остов, или Академия на Глазовской улице», высмеяв таким образом и название журнала, и его редакцию, находившуюся именно на Глазовской улице, в квартире А.Н. Толстого, и даже саму «Академию», осененную именем Вяч. Иванова. В пьесе действовали поэт Гумми-Кот (несколько нарочито, но забавно), поэтесса Пуффи, Макс Калошин. Сергей Ерундецкий, Михаил Жасмин и другие. Узнать Гумилева, Тэффи, Волошина, Городецкого и Кузмина особого труда не представляло.
Поэт и по совместительству редактор журнала Гумми-Кот писал экзотические стихи, также легко узнаваемые.
Сегодня особенно как-то умаслен твой кок
И когти особенно длинны, вонзаясь в меня…
В тени баобаба, призывною лаской звеня,
Изысканный ждет носорог…
Вдали он подобен бесформенной груде тряпья,
И чресла ему украшают такие цветы,
Которых в порыве экстаза не выдумал я,
Увидев которые пала бы в обморок ты…
Я знаю веселые сказки про страсть обезьян,
Про двух англичанок, зажаренных хмурым вождем.
Но в платье твоем я сегодня увидел изъян,
Ты вымокла вся под холодным осенним дождем.
И как я тебе расскажу про дымящихся мисс,
Про то, как безумные негры плясали кэк-уок…
Ты плачешь… Послушай! Где цепко лианы сплелись,
Изысканный ждет носорог.
Сама пародия и вовсе не смешна, да и не обидна, поскольку бьет мимо цели. Как реагировал на пародию Гумилев, попалась ли ему на глаза газета «Царскосельское дело», где была напечатана пьеса, кто знает.
Если уж говорить об интеллектуальных играх, лучше обратить внимание на совсем иное. Достойно интереса, укрывшееся от взгляда исследователей, оборотничество: анаграммой названия журнала «Остров» является слово «востро», и это нельзя не учитывать, поскольку журнал делали стихотворцы, у которых слух настроен особым образом, такого рода созвучия они должны улавливать мгновенно. Но, представляется, заметил такого рода буквенную игру только Л. Бакст, автор эскиза обложки. То, как скомпоновано заглавие, – по-видимому, художник хотел передать такие понятия как «компактность», «слитность», «цельность», возникающие сразу же после упоминания слова «остров», – облегчает и движение глаза, благодаря компактности, слитности букв на листе, ведь и для анаграммы эти качества первостепенны. Само же слово «остров» в строке подвластно лишь глазу тренированному.
Что же, по-видимому, больше свободных денег – он дал на выкуп первого номера 200 рублей – у Н. Кругликова, брата известной художницы, не нашлось. А за отсутствием меценатов погиб не только второй номер журнала, но и сама идея его издания.
Молодых литераторов не всегда ожидают удачи. И тут бы следовало вернуться к воспоминаниям А.Н. Толстого и рассказать о судьбе другого гумилевского детища, поэтического журнала, преобразившегося в таковой из театральной афишки, вдруг судьба его сложилась иначе. Увы, это невозможно. Какими-то развернутыми сведениями о журнале, упомянутом мемуаристом, литературоведы покуда не обладают.
Но хотя опыт редакторствования не удался, Гумилев вскоре и не без успеха участвует в новом издательском начинании. Журнал «Аполлон», основанный художественным критиком С. Маковским, объединил вокруг себя людей в высшей степени одаренных. И сам выход первого номера журнала ознаменовал новый период в русском искусстве.
Началось же все с выставки, устроенной в начале 1909 года С. Маковским. Около сорока художников, среди которых были Н. Рерих, Л. Бакст и начинавшие тогда свой путь в живописи К. Петров-Водкин, В. Кандинский, М. Чюрлёнис, дали для экспозиции свои произведения.
Там-то, на вернисаже, и познакомился с Гумилевым С. Маковский, позднее вспоминавший: «Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора «Романтических цветов». Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него – «вцера».
В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих «Страниц художественной критики»). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако за исключением одного – «Баллады»: оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставил автор сборника, этот белобрысый самоуверенно-подтянутый юноша (ему было 22 года)».
Первый номер журнала вышел 25 октября. К этому событию была приурочена и выставка художника Г. Лукомского.
Отмечали оба этих события широко. И. Гюнтер, немец, надолго застрявший на российских просторах и, со всей немецкой обстоятельностью, участвовавший в здешней художественной жизни, вспоминает: «Между прочим, открытие «Аполлона» было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об «Аполлоне» и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать «Аполлон» от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего, я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним – затем занавес опускается.
Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.
Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна».
О том, какую роль играл в этой так называемой «молодая редакции» Гумилев, можно понять со слов С. Маковского: «Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще – к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым.
Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом, была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом – неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок)».
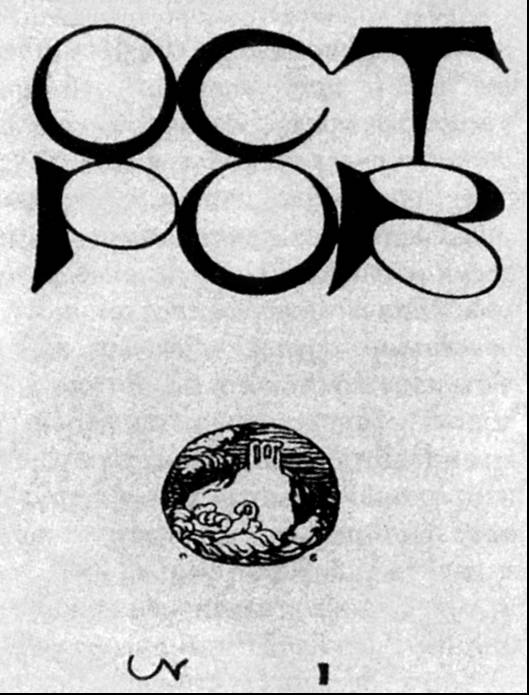
Обложка журнала «Остров»
Все перечисленное рождало у кое-кого ироническую усмешку, а в ком-то и отторжение. Вяч. Иванов утверждал, что Гумилев попросту глуп, необразован, мало начитан (не о таком ли отношении предупреждал В.Я. Брюсов, стараясь убедить Гумилева, что с Вяч. Ивановым не следует поддерживать близких отношений). Впоследствии Вяч. Иванов от большинства своих утверждений отказался, даже написал в каком-то предисловии, что Гумилев «наша погибшая великая надежда».
А тогда Гумилев был еще очень молод, и молодость эта сказывалась в том числе, и в поведении его, вполне юношеском. «…он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Аполлоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М.Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его дон-жуанской предприимчивости…» – утверждал С. Маковский, и не без основания.

Рекламный плакат журнала «Аполлон»
Гумилев не был обделен приятелями, но все больше привлекала его личность И.Ф. Анненского. Общением с ним Гумилев дорожил, сохранилось, например, письмо с приглашением – Гумилев пишет, что у него дома соберутся литераторы, и все они хотят познакомиться с И.Ф. Анненским, так не согласится ли поэт посетить это собрание.
К весне 1909 года относится знакомство Гумилева с О. Мандельштамом, которое со временем перешло в крепкую дружбу. И недаром в письме, адресованном А. Ахматовой через несколько лет после смерти Гумилева, Мандельштам признается: «Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется…»
К весне же 1909 года относится и новая встреча Гумилева с Е. Дмитриевой. Поэтесса начинает бывать на «башне» у Вяч. Иванова. Сближению содействовала и общие занятия. Гумилев, который был не силен не только в старофранцузском языке, но и в обычном французском, попросил помочь в переводе старых французских песен. Е. Дмитриева тогда училась в университете, на романо-германском отделении.
Знакомство произошло на лекции в Академии художеств, Гумилева представили. «Он поехал меня провожать, – вспоминала Е. Дмитриева, – и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Н. С. в альбоме, подаренном мне.
Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. С.
Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель».

О. Мандельштам. Фотография, 1910-е гг.

Е. Дмитриева. Фотография, 1910-е гг.
А в Коктебеле все изменилось, потому что там был М. Волошин, который, как вспоминала Е. Дмитриева, «казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем». И говорила еще, что М. Волошин, это «самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая».
Предстояло сделать выбор. Сам М. Волошин, предложив выбирать, предупредил – если Е. Дмитриева предпочтет Гумилева, то он, Волошин, будет ее презирать. И выбор был сделан.
Е. Дмитриева попросила Гумилева уехать, тот счел это капризом, но уехал. Е. Дмитриева и М. Волошин остались. Она потом говорила, что это были лучшие дни ее жизни. Еще она говорила, что «Капитаны», которые писал в Коктебеле Гумилев, были посвящены ей, что они обсуждали каждую строку.
С. Маковский назвал «Капитанов» стихами талантливыми, но «несколько трескучими», тем не менее, вспоминая Гумилева-поэта, в первую очередь вспоминают об этих стихах.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.