Я. Новикова ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ
Я. Новикова ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ
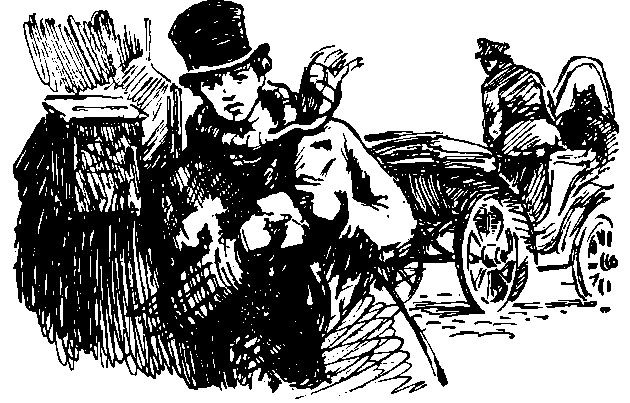
Не хочу стрелять в своих!
Обручев просидел у Чернышевского весь вечер. Разговор шел о «высоких предметах», то есть о крестьянском вопросе, который так волновал их обоих в начале 1859 года.
На другое утро Чернышевский снова погрузился в свою работу.
Неожиданно в кабинет вошла служанка и сказала:
— Пожалуйте в залу, там вас спрашивают Обручев.
«Что такое? — подумал Чернышевский. — Вот уже полгода мы очень дружны с капитаном Обручевым, но не до такой нежной неразлучности. Вчера не предполагали видеться раньше как недели через две. Значит, экстренное дело. А главное, что ж он остался в зале и прислал сказать о себе, а не вошел сам в кабинет? Странно!»
Чернышевский вышел в залу. Опершись рукой на стол, у дивана стоял незнакомый молодой человек в костюме безукоризненно строгой простоты. И сам он показался Чернышевскому человеком очень светского воспитания: так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг к хозяину в ответ на его поклон.
Неожиданный посетитель был стройный человек среднего роста, сухощавый, довольно широкий в плечах, со светлыми, почти белыми, но очень курчавыми волосами, с очень белым, даже бледноватым, но здорового цвета лицом, черты которого были угловаты.
— Извините, — сказал Чернышевский, — служанка назвала мне фамилию моего приятеля господина Обручева— видимо, перепутала… Покорно прошу… — добавил Николай Гаврилович, внутренне смущаясь, что вышел в домашнем виде к незнакомому человеку.
— Служанка не ошиблась: моя фамилия действительно Обручев, — сказал посетитель, садясь и подавая письмо.
Чернышевский взглянул на адрес, разрывая конверт: рука Панаева. Развернул записку — так и есть: «Не найдется ли у нас в журнале работа для г. Обручева, который выходит в отставку, чтобы заняться литературою».
— Я посмотрю, поищу; может быть, найду что-нибудь для вас, но не рассчитывайте на это, скорее нет, — вынужден был сказать действительный редактор «Современника».
Обручев хотел встать и откланяться. Но Чернышевский остановил его вопросом:
— Вы не родственник Николаю Николаевичу Обручеву, которого я ожидал увидеть вместо вас?
Договаривая эти слова, он уже успел упрекнуть себя за этот вопрос: если б он был родственник, то, естественно, Николай Николаевич и рекомендовал бы его, а не явился бы он сам по себе. Но против ожидания посетитель ответил:
— Да, я ему родственник.
— И в хороших отношениях с ним?
— Да!
— Но ведь он знаком и с Панаевым, и с Некрасовым, и со всеми в «Современнике».
— Я знаю.
— Что за диво! Почему же вы не сказали ему, чтоб он познакомил вас?
— Потому что не хотел пользоваться рекомендацией.
— Его? Почему же?
— Не его в частности, а вообще, потому что не находил это удобным.
Чернышевский невольно почувствовал к нему некоторое уважение. Нежелание пользоваться рекомендацией хотя и было необычным, но честным. Новый Обручев заслуживает, чтобы посоветовать ему не делать глупости.
— Вы хотите выйти в отставку, чтобы заняться литературою. Занятие хорошее, если у вас есть беллетристический талант. Быть беллетристом можно и оставаясь на службе. А кроме повестей, ничто не требуется и ничто не выгодно. Собственно журнальная работа — черная работа, которая обременительнее службы; славы она вовсе не дает, денег дает мало. Да и здесь, как на службе, приходится ждать вакансий. Итак, ищите, испытывайте себя и ждите, оставаясь на службе.
— Я не могу этого сделать. Не дальше как через неделю я должен подать в отставку.
— Это жаль. Что ж, у вас вышли столкновения по службе?
— Нет. Но я должен выйти в отставку потому, что служба портит.
Чернышевский не выдержал и рассмеялся. «Служба портит! Это любопытно».
— Где же вы нашли такую службу? В откупах?
— Нет, — отвечал Обручев спокойно, улыбнувшись, — в военном министерстве.
Только теперь Чернышевский понял, откуда в этом штатском такая выправка.
— Интересно. Я знаком со многими служащими в этом министерстве. Признаюсь вам, не замечал ни на ком порчи от службы в нем. Одно из самых чистых министерств, помилуйте.
— Я не говорил, что портит служба именно в этом или каком-нибудь другом министерстве, я говорил, что портит служба вообще. Я хочу остаться человеком свободным.
— Хорошо. Я рекомендую вам оставаться на службе вовсе не так долго — несколько месяцев, в течение которых вы еще не испортитесь, а избежите риска. Служите, пока найдете работу и испытаете себя на ней.
— Это было бы лучше, правда. Но есть особенная причина — я хочу уйти с военной службы из опасения, что придется сделаться убийцей, стрелять в своих, и притом в тех, кто будет стоять за добро против зла!
Обручев сам удивился, что так просто и легко сказал редактору самую сокровенную причину отставки.
Чернышевский, казалось, не слышал этих слов молодого Обручева, продолжал задавать вопросы и отговаривать бросать военную службу. Но если бы Обручев знал, как был поражен Чернышевский и тронут его горячей искренностью, ему бы стало легче. Чернышевскому было ясно, что служба противна убеждениям Обручева, кроме того, что может испортить его хорошим жалованьем и карьерою.
— Позвольте спросить, где вы кончили курс?
— В Николаевской академии Генерального штаба.
— В каком вы чине?
— Поручик гвардии.
— Ищите место на кафедре военной академии. Кафедра и вернее, и спокойнее, и почетнее журнальной работы. У вас остались связи с академией?
— С немногими из профессоров. — Он назвал двух-трех.
— Они руководят большинством совета. Я знаю, там есть вакантные места.
— Мне говорили. Но я не хочу деятельности», противной моим убеждениям.
— Даже и кафедра? Помилуйте!
Они разговорились. Чернышевский стал подробно разбирать каждый пункт предшествовавшего краткого объяснения, по каждой статье доказывал рассудительность своего мнения.
Владимир Александрович Обручев — так звали нового знакомого Чернышевского — слушал терпеливо, спокойно; возражал холодно и коротко; большей частью не оспаривал слов Чернышевского, а только говорил: «ваш взгляд таков: я не могу разделять его», «мой взгляд кажется вам неправилен; я остаюсь при мнении, что он верен».
Чернышевский был верен своей привычке шутить. Обручев принимал шутки с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения, с мягкою, несколько меланхолической улыбкой, которая появилась у него, как только разговор оживился, и уж не сходила с лица его все время. В его глазах, маленьких, серых, светилось кроткое, задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно — живо, выразительно.
Так они протолковали часа два. Когда они расставались, Чернышевский просил его зайти к нему через неделю, заметив, что, может быть, он найдет ему какую-нибудь работу, но что важнее потолковать еще раз.
— Нельзя ли вас сбить с ваших мыслей?
— Это напрасно, — скромно отвечал Обручев.
Да и Чернышевский видел, что напрасно.
— Конечно; но все-таки священный долг опытного человека — не оставлять без назидания восторженного юношу, — сказал Чернышевский с улыбкой.
— Конечно; и юноша обязан не скрываться от назиданий. Зайду.
Беседа окончена. Оба крепко пожали друг другу руки. Дверь захлопнулась.
Редактор не мог работать. Он долго ходил по кабинету, напряженно обдумывая всю встречу. Снова нахлынули сомнения. Уж очень необычный человек!
Наконец он остановился у окна. Никто не видел, как улыбнулся редактор. Улыбнулся и подумал: «Наш!!!»

Александр Серно-Соловьевич.

В. А. Обручев.
* * *
— У вас есть родственник Владимир Александрович. Что он за человек и почему я ни разу не встречал его у вас? — спросил Чернышевский Николая Николаевича Обручева, когда увиделся с ним после появления Владимира Обручева у себя в доме.
— Владимир? Хороший юноша. Еще не установился. Когда установится и образумится, то будет умный и порядочный человек. Теперь он еще слишком экзальтирован, а я все холожу его. Ему это, конечно, не по вкусу. Потому он редко бывает у меня по вечерам, а когда ко мне приходят знакомые, он и вовсе не благоволит посещать нас. Потому вы его и не встречали у меня.
— То есть вы продолжаете обращаться с ним так, как обращались с ним, когда ему было пятнадцать лет, а вам двадцать. Натурально, что он не хочет стоять в таких отношениях при ваших знакомых.
— Что, вы уж с выговором мне? А вы долго с ним говорили?
— Довольно долго.
— Ну как же вы сами-то с ним говорили? Полагаю, так же, как я?
— И то правда. Он хочет выходить в отставку — безрассудство, но, кажется, его не переубедишь; и хочет заняться журнальною работою. Способен он к- этому?
— Да, если захочет.
— Как же, если захочет? Хочет.
Из дальнейшего разговора с Николаем Николаевичем Чернышевский узнал, что Владимир Обручев происходил из старинной служилой дворянской семьи. Его отец находился под влиянием идей декабристов, но все же принял участие в подавлении польского восстания 1830–1831 годов; после этого женился на польке, дочери участника польского восстания и эмигранта Франца Тимовского, служил главным образом в западных губерниях. После Крымской войны в чине генерал-лейтенанта он получил отставку и очень скромно жил возле Ржева Тверской губернии в деревеньке Клепенино, купленной на сбережения. Для вос-питания детей он не жалел никаких средств и сил. Сыновья Владимир и Афанасий закончили 1-й кадетский корпус, затем Владимир из лейб-гвардии Измайловского полка был направлен в академию Генерального штаба. Он закончил ее с серебряной медалью в чине поручика с перспективою служить в гвардии и сделать не меньшую карьеру, чем все ретивое военное поколение Обручевых (среди них были даже генерал-губернаторы!).
Николай Николаевич хорошо знал Владимира, своего двоюродного брата, так как он часто бывал в их семье.
Неожиданное и твердое желание Владимира Обручева — молодого двадцатитрехлетнего поручика «со связями» и перспективами — выйти в отставку казалось безумством, которое грозило ему разрывом с отцом и некоторыми важными родственниками.
Повод, который он выдвигал, — обида по поводу получения не того назначения, на которое рассчитывал, — никого не убеждал.
Николай Гаврилович понял из всех этих рассказов, что, в сущности, молодой Обручев пускался в путь совершенным младенцем. Будь он опытнее, он, конечно, не сказал бы обо всем при первой встрече. Чернышевский вновь вспомнил, как решительно заявил Обручев о нежелании служить в армии.
— Я не хочу стрелять в своих! — как клятва звучали эти слова.
В этом юноше чувствовалась горячая искренность.
Чернышевского поразило также его спокойное упорство в стремлении уйти в отставку — это было явное безрассудство. Но оно проистекало из благородных мотивов, и Николай Гаврилович не мог осуждать его, а мог только сочувствовать ему.
В «Современнике»
Владимир шел домой окрыленный. Он чувствовал себя уже сотрудником «Современника», хотя никто еще не дал ему согласия. Порукой были добродушная улыбка Чернышевского и его теплое рукопожатие. Правда, впереди трудности. О них серьезно говорил Чернышевский. Но жребий брошен. Обручев смело шагал в новую жизнь.
За последние годы в направлении его мыслей произошли большие перемены под влиянием чтения «Современника», «Военного сборника», «Колокола», который изредка доставали офицеры академии. Повлиял на него и социалист Консидеран, два томика которого он прочел с восторгом, близким к его восторженному восприятию поэзии Некрасова.
Володе был по сердцу беспощадный некрасовский приговор ненавистному «барству» и «тиранству» и некрасовское ликование по поводу того, что
…Набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий…
Его, сына дворянина-генерала, глубоко трогали строки о «бесплодной жизни отцов»:
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я…
И он глубоко презирал себя за то, что на правах помещика дважды в год выжимал через денщика с оброчного пьянчужки-портного по десяти рублей, которые, несомненно, доставались портному не дешево.
Владимир Обручев уже отказался от казенного денщика «по ненадобности» и перешел на жительство в «вольной квартире», но от этого не изменилась судьба 125 заложенных и перезаложенных душ в Клепенине, где барщина и в 1859 году неукоснительно отбывалась.
Еще совсем недавно, на рождество 1858 года, Обручев был дома — в Клепенине, имел горячие и резкие объяснения с отцом по поводу своей отставки и грубости отца с крепостными.
Последствием этого были тяжелые домашние сцены, убивавшие его тихую, кроткую мать, разрыв с отцом и отказ от денежной помощи из дому.
Почему он пошел в «Современник»? Потому, что надеялся найти там не только работу, но и ответы на мучившие его вопросы: почему так плохо народу в России, как найти путь к социальной справедливости, как лучше провести реформы, необходимые народу?
«Современник» поможет ему ответить на эти вопросы— так он понял Николая Обручева, любившего этот журнал и связанного с его редакцией.
Внимание и доброта Чернышевского как-то по-особому взволновали Обручева, стало стыдно, что он так мало его читал. И Владимир жадно набросился на статьи своего нового наставника.
Как он не прочел раньше «Критики философских предубеждений»?! Там было много ответов на мучившие его вопросы, в решении которых ему не помог ни его любимец Руссо, ни новый для него автор Консидеран, ни даже Герцен.
После беседы с Чернышевским и более внимательного чтения его статей Обручев почувствовал, что еще больше любит людей труда и «интеллигентный пролетариат», в ряды которого он решил вступить.
Страстно хотелось все понять, знать и осуществить «беспощадный суд» над своей слабостью и нерешительностью.
Работа в инспекторском департаменте по расквартированию войск и доклады о поразительных пороках эмира Бухарского совсем перестали занимать Обручева.
Он с нетерпением ждал новой встречи с Чернышевским. Как и договорились, он зашел через неделю. Николай Гаврилович встретил его приветливо, как старого знакомого, и предложил сделать перевод первого тома «Всемирной истории» Шлоссера. Обручев, в совершенстве владевший немецким языком, охотно согласился. Николай Гаврилович посоветовал изучить и английский язык. Владимир последовал этому совету и взялся за изучение языка.
Только позднее Обручев понял, почему так нужно знать английский язык журналисту России «накануне». По ту сторону океана, где люди говорили по-английски, начались важные события — восстания рабов. Опыт этих восстаний изучался.
Вскоре пришлось Владимиру Обручеву узнать, что такое русская цензура. Чернышевский рассказал ему о всех перипетиях борьбы с цензорами. Открылась еще одна область, мало известная Владимиру. Оказывается, искусство маневрирования в сетях цензуры состояло не только в умелом изложении мыслей, но также в использовании всех неувязок и неразберихи, царивших в цензурном ведомстве.
Дело в том, что никто не отменял старого николаевского цензурного устава. Он был устранен самой жизнью. В стране оказалось очень много недовольных цензурой. Кругом говорили о необходимости новых правил и даже был создан особый комитет по делам печати, но его возглавили ярые реакционеры Адлерберг, Муханов и Тимашев.
Дело с подготовкой правил затянулось. Внутри комитета обнаружились разногласия. Этим-то и пользовались многие издатели. Разрешения на издание того или иного произведения не требовалось, но издателям постоянно грозил штраф, приостановка выпуска или даже закрытие журнала или газеты. Для этого достаточно было, чтобы цензору показалось в статье что-либо «предосудительным».
Издателям «Современника» не раз приходилось откупаться штрафами. Приходилось считаться с опасностью закрытия журнала, а это означало потерю единственной трибуны.
— Подумайте об этом, — говорил Обручеву Николай Гаврилович. Он имел в виду его статью о событиях в Сербии. — Это первый ваш опыт, — улыбался Чернышевский, — и я вижу, что вы сделали все возможное, чтобы читатель вместо слова «Сербия» мог прочесть — «Россия».
Речь шла о статье «Возвращение князя Милоша Обреновича в Сербию», опубликованной анонимно «Современником» в марте 1859 года. Сам Обручев ни за что не решился бы назвать ее своей. Николай Гаврилович так основательно поработал над гранками, что от первоначального текста мало что осталось.
— Надеюсь, не обидитесь? — спросил Чернышевский, показывая Владимиру корректуру, всю перечерканную, переправленную и местами дописанную. Конечно, Владимир не обиделся. Напротив, в этом увидел он наглядный урок. Только под пером Чернышевского статья засверкала публицистическим блеском. Острие статьи было направлено внутрь России, на ее правительственные сферы.
Сама тема увлекла Обручева. Мысль о том, — что демократические завоевания, политические свободы и экономическая независимость Сербии добыты с оружием в руках, не давала ему покоя. Было стыдно за Россию, которая не имела «скупщины», даже подобия парламента, в котором бы власть принадлежала лучшим представителям народа. Он старался пробудить этот стыд и в читателях, говоря, что русский читатель непривычен к таким формам жизни и особенно к низложению правителей народным собранием, в то время как в Сербии «это вещь очень натуральная». Редактируя статью, Чернышевский особенно высмеивал русских либералов, благоговевших перед царской властью, а также подчеркнул благотворность для «австрийских сербов» повторения «сильного потрясения Австрии событиями вроде происшествий 1848 года». Владимир долго удивлялся тому, что цензура не заметила этой деликатной похвалы революции.
Не заметила цензура и того, что статья доказывала преимущества конституционного устройства, при котором представители народа, правильно избранные, решают судьбы страны, что примером Сербии «Современник» хотел увлечь крепостную Россию.
* * *
Летом 1859 года Чернышевский тайно даже от многих сотрудников «Современника» уехал в Лондон для переговоров с издателями «Колокола». Надо было объединить усилия и не допускать разногласий.
Владимир Обручев, конечно, не знал, куда уехал Чернышевский. Ему сказали, что в отсутствие Николая Гавриловича он должен сдавать свою работу Добролюбову. Их первая встреча произошла в редакции. Она была не только деловой, но и теплой. Обручев чувствовал в этом заботу Чернышевского, который просил Добролюбова позаботиться об Обручеве. Навсегда запомнился кроткий взгляд этого высокого молодого человека, удивительно доброго, также отговаривавшего его уходить в отставку. Правда, его аргумент, сказанный как бы вскользь: «Хорошие люди везде нужны», — заставил задуматься, но было уже поздно. Подходило к концу оформление отставки. Очень кстати были и деньги, полученные за переводы по записке Добролюбова 2 августа 1859 года.
Поручик гвардии должен был привыкать к новой жизни русского журналиста-демократа со всеми ее случайностями и трудностями.
В конце августа 1859 года вышла отставка Обручева. Тогда же он снял небольшую комнатку, выглядевшую довольно убого.
На этой квартире его посетил однажды Добролюбов. Он привез ему работу и деньги и, между прочим, нашел, что Обручеву следовало бы переехать. Однако Владимиру пришлось здесь перезимовать.
С Николаем Гавриловичем Обручев сходился все ближе. Бывал у него дома. Там познакомился он с Ольгой Сократовной, женой писателя, со многими интересными людьми. Одним из них был старый знакомый семьи Чернышевских, позднее домашний врач семьи — Петр Иванович Боков. Он был немного старше Володи и был добрейшим человеком. Скоро они стали приятелями.
Потянулись месяцы упорной работы. Отшумело рождество, новогодний праздник. Вслед за январскими морозами 1860 года февральские метели повсюду намели сугробы. Всю эту зиму Владимир помогал Николаю Гавриловичу в его работе над статьей «Леность грубого простонародья». Для нее нужно было перевести статью из «Эдинбургского обозрения». Уже с осени Обручев неплохо переводил с английского, и Чернышевский поручил ему этот перевод.
Обручев хорошо справился с переводом и заслужил похвалу Чернышевского и Добролюбова. Необходимо было заострить смысл принципиальных положений автора, придать им новое звучание, применительно к русской действительности. Статья была снабжена предисловием и заключением, написанными самим Чернышевским. В статье решительно опровергалось мнение о так называемой «лености» трудового люда. Вопрос этот был в те времена важным. Находились «теоретики», доказывавшие пользу подневольного труда. Таким «теоретиком» оказался, например, экономист Горлов. Против него и направил удар Чернышевский. Он подчеркивал «благотворное последствие освобождения» и упрекал реакционеров за «тупые опасения» и «своекорыстные колебания». Крепостники получили еще один удар.
Владимир, правда, знал, что этот удар значительно ослаблен цензурными купюрами. Но был все же горд, счастлив, что по мере своих сил помогал Чернышевскому проводить в печати очень важные мысли о необходимости немедленного и полного освобождения крестьян, творцов богатства России.
Хотя заключение статьи было совершенно изуродовано цензурой, Обручеву стало ясно из рукописи, что Чернышевский верил в неизбежность крестьянского восстания в России «при энергическом характере русского простонародья», если подготовлявшаяся реформа обманет народные надежды.
Обручев смотрел теперь на Чернышевского как на руководителя современного ему общественного движения, к которому сам он примкнул искренне и самоотверженно.
Он теперь не мыслил себе дальнейшей жизни без «Современника», без Чернышевского, Добролюбова и Некрасова.
Всех подбадривал руководитель журнала. Он, беспримерный труженик, всегда находил время для друзей. Чернышевский интересовался всем, что касалось жизни Обручева.
Николай Гаврилович знал, что заработка в «Современнике» ему не хватало, и посоветовал найти уроки. Владимир так и сделал. Вскоре он начал давать уроки французского языка сыну министра двора графа Адлерберга.
Чернышевский первый узнал от Владимира, что его любимая сестра Маша тяжело заболела в деревне. С тревожным письмом матери Владимир прежде всего пошел к Николаю Гавриловичу, который, как лучший врач, сразу определил причину «серьезной болезни» Маши: тоска по людям, стремление к свету, к знаниям, желание вырваться на свободу из старозаветной семьи.
Николай Гаврилович, правда, посоветовал ехать в деревню со «своим доктором», то есть с Боковым.
Пришлось отложить новое серьезное дело, порученное Чернышевским: статью «Китай и Европа». Пришлось также оставить и место гувернера в семье капитана Зарембы и даже занять у него огромную сумму — 500 рублей, чтобы перевезти Машу в Петербург.
Поездка в Клепенино была очень трудной. Генерал не мог простить сыну отставки. Все надежды были на доктора. Владимир, конечно, не представил его как своего приятеля и человека современного образа мыслей. Он был доктором с бойко идущей в гору практикой — и прекрасно сыграл свою роль. Чуткая душа Эмилии Францевны не могла не оценить нежной души и доброты Петра Ивановича, а как женщина она была им очарована, поверила, что поездка в Петербург, перемена обстановки оздоровят Машу, которая не ест, не спит и тает на глазах.
Даже старый грозный генерал Обручев сдался, наконец, и отпустил дочь в Питер, но… под наблюдением матери.
Весь конец зимы и весну 1860 года Владимир занимался устройством Маши в Петербурге. Он нашел квартиру на Васильевском острове, по соседству с Чернышевскими.
Вскоре Николай Гаврилович приехал к Маше и Эмилии Францевне вечером и своим простым, участливым разговором чрезвычайно понравился обеим. Мать Обручева сразу оценила Чернышевского. Она была далека от понимания его роли в жизни тогдашней России «накануне». Но как человек он поразил ее, победил ее прежнюю недоверчивость. Маше Чернышевский привез самое главное лекарство — книги; он ободрял ее, звал к себе:
— Кроме жены и детей, у меня есть и взрослые племянницы, — объяснил Чернышевский.
Вскоре Машу навестила и Ольга Сократовна, повторившая приглашение мужа. Отношения вскоре стали дружескими. Племянницы Чернышевского Евгения и Полина часто приходили к Обручевым.
Каждую неделю теперь они виделись и на «субботах» у Чернышевских. Душою этих «суббот» была милая и веселая Ольга Сократовна, которая стремилась прекратить всякие споры в гостиной и отвлечь гостей шутками, музыкой, танцами, чаем.
Но она не могла, да и не хотела, отвлекать Обручева от Полины. Ей нравилась эта милая пара, оживленно беседовавшая о чем-то своем, каждый день делающая открытия. Она радовалась, глядя на них. О чем только не говорили они друг другу!
Был май 1860 года. Добролюбов собирался ехать за границу лечиться, Николай Обручев и Сераковский получили официальные заграничные командировки, которые хотели использовать для того, чтобы побывать у Герцена и Огарева в Лондоне и у Гарибальди в Италии.
В России создавалась своя «партия действия», — и надо было решительнее привлечь к этому делу редакцию «Колокола» и конкретнее изучить опыт Италии, где развертывались революционные события.
Однажды, оставшись наедине с Владимиром, Николай Обручев сказал ему:
— Мы делаем очень важное для России и очень опасное дело. Можем ли мы рассчитывать на твою помощь, когда она понадобится?
— Как мог ты сомневаться во мне?!
— Я не сомневался, но такое у нас правило— каждый должен идти на дело, зная о его опасности.
— Я готов.
— Уверен в тебе, как в себе, брат, потому и рекомендовал тебя.
— Спасибо за доверие.
— Поздравляю тебя и нас. Нашего полку прибыло. Помни, что ничего нельзя вверять бумаге. Все дела будут вестись изустно. У нас нет ни списков, ни протоколов, чтобы не было материальных улик. Одна неосторожность — и погибнешь не только сам, погубишь людей, нужных России. Помни это, Владимир.
— Буду помнить, Николай.
Затем разговор перешел в самую конкретную сферу: шифр корреспонденции, которая будет идти из-за границы на имя Владимира; пароль для связи; советы присматриваться к людям, восстановить старые связи с офицерами Измайловского полка и в академии, с кем установить связь; изучать студенчество, имена.
Они расстались поздно ночью. Владимир понял, что посвящен в великую тайну. Он был горд и счастлив.
Со времени отъезда Добролюбова, Николая Обручева и Сераковского в Европу, то есть с мая 1860 года, общение с Чернышевским стало еще более тесным. Вместе ждали писем и радовались тому, что Николай Обручев смог быть полезным Добролюбову в Париже, где они вместе жили в Латинском квартале. Знал Владимир и то, что успешно решалась «лондонская проблема».
Надо было терпеливо ждать новых вестей. А вести приходили медленно.
«Письмо из провинции» за подписью «Русский человек», которого с нетерпением ждал Владимир, снова глубоко взволновало его, когда он прочел его не в рукописи, а на страницах «Колокола». Казалось, он видит Добролюбова и слышит его слова: «…Сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей… К топору зовите Русь!»
Лето и осень 1860 года Владимир работал над порученной ему статьей «Китай и Европа». Чернышевский придавал ей большое значение. Обручев засел за книги о Китае. Вот когда опять понадобился английский язык.
В статью о Китае Обручев вложил все, на что был способен.
История Китая, трудолюбие и талантливость китайского народа, движение тайпинов восхитили его. Он проводил в статье бесспорную для него мысль: европейское вторжение только затормозило развитие Китая, стоявшего прежде на довольно высокой ступени материальной и духовной жизни.
Обручев настойчиво подчеркивал «высокую степень цивилизации» Китая и трудолюбие его народа, чтобы лишний раз подорвать господствовавшее представление о превосходстве европейцев над китайцами. Он писал: «Китай — страна, достигшая высокой степени материального и нравственного развития, имеющая право требовать, чтобы никто не оскорблял ее покоя, не задевал ее, как она никого не задевает». Обручев с возмущением осуждал «все мрачные стороны английского вмешательства в китайские дела», а также вторжение Англии на территории других стран, «уступающих ей в силе», осуждал зверства англичан и торговлю опиумом, которая «позорит английскую нацию».
Вместе с тем Владимир обрушивался на безграничный произвол китайских мандаринов. Сравнивая «народные страдания» в Китае с положением русских бурлаков, Обручев прямо наталкивал читателя на мысли о «бедствиях крайней нищеты» русского народа, борющегося за свободу.
Вывод этой статьи фактически звал и Россию к изменению ее феодального строя на европейский, как более передовой: «Мы далеки от безусловного поклонения западным общественным началам; но мы были бы пристрастны, если бы не признали их превосходства перед китайскими. Положение женщины в Европе лучше; и, главное, Европа проникнута жаждой прогресса, желанием идти вперед. Эти два обстоятельства могут служить лучшей меркой развития народа».
Обручев знал, что кое-что в статье сказано в угоду цензуре, но проницательный человек отбросит эти «кое-что», так как они противоречат всему содержанию статьи. Цензура этого не поймет, но лучшая часть читателей «Современника» поймет: европейские порядки все же лучше китайских и русских — феодальных — и за них нужно бороться.
Эта статья была помещена в январском номере «Современника». Впервые Обручев увидел свое имя рядом с Чернышевским («Кредитные дела»), Некрасовым («Плач детей»), Михайловым («Юмор и поэзия в Англии»).
В этом ряду, как автор и как боец, он вступил в незабываемый 1861 год.
Вскоре Чернышевский поручил Обручеву написать ответную статью «Современника» на ожидавшуюся со дня на день реформу. О России, конечно, писать было нельзя. Но Обручев должен был провести аналогию с Россией на примере невольников Америки. Поводом для статьи явилась вышедшая в 1860 году в Нью-Йорке книга Эббота «Юг и Север». Получили ее только к концу года, и Чернышевский упомянул уже о ней мельком. Теперь наступила пора использовать эту книгу полнее. Статью было решено назвать «Невольничество в Северной Америке».
Обручев работал не покладая рук. Из-под пера выбегали торопливые, неровные строчки:
«…беспредельная бедность, тяжелое физическое страдание, крайнее оскорбление всех человеческих чувств, отсутствие каких бы то ни было привязанностей, отсутствие всякой радости, отсутствие всякой надежды на улучшение участи и, наконец, при всем этом кнут плантатора всегда, везде и за все — вот в каких обстоятельствах трудится невольник…»
— Пишу о черных рабах, а перед глазами белые, — говорил Владимир Чернышевскому.
— Только так и быть должно! — улыбался Николай Гаврилович. — Ведь это только наши рабовладельцы белое делают черным.
Владимир волнуется. Что скажет он тысячам читателей самого популярного журнала России?
— Восстание…
Но разве можно говорить о нем прямо? И он пишет: «В обстоятельствах, в которых теперь находится Россия, конечно, едва ли какой-нибудь разряд сочинений может быть для нее интереснее, чем книги, определяющие относительное достоинство принужденного и свободного труда». Обручев не жалеет красок, описывая тяжелое положение невольников в Северной Америке, думая о русских крепостных крестьянах, «освобождаемых сверху». Угнетение невольников он прямо назвал «гнуснейшим из всех человеческих преступлений», а труд угнетенных — «жалким и ничтожным по своим результатам».
С глубоким внутренним волнением Обручев подчеркивает в статье: «Когда имеешь дело с известными людьми, недостаточно быть свободным, а нужно быть сильным, обеспеченным, нужно иметь залоги сохранения свободы. Иначе свобода окажется хуже рабства». Аналогия между ужасным положением формально свободных кули и освобождаемых по реформе 61-го года крестьян не могла не звать на борьбу за ликвидацию труда людей, «обреченных на воловий труд вплоть до самой могилы».
Обручев шел дальше, он обрушивался на всю систему, выносил ей приговор: «И всякая система, которая обрекает его (т. е. человека. — Ред.) на невежество, которое не позволяет ему достигнуть человеческого развития, должна быть названа зверской, бесконечно постыдной».
Отсюда уже логично и убедительно вытекал важнейший для России вывод статьи о неизбежности народного восстания там, где народ обманут в своих ожиданиях: «Неожиданное для всех пламя пожара может вдруг вспыхнуть во всех концах края… рядом с ним начнутся убийства и грабежи, которых свирепость, конечно, будет ужасна, но будет необходимое последствие крайней неразвитости и, главное, крайних страданий народа».
Тут же Обручев подчеркивал справедливость будущего восстания «невольников», ибо они будут драться из-за великой идеи, из-за «священных и существенных прав…» Обручев не надеялся, что цензор это пропустит, но он пропустил.
После того как реформа была объявлена, в мартовском номере «Современника» была опубликована статья Обручева «Невольничество в Северной Америке». Она оказалась как никогда кстати. Ее напечатали следом за «Песнями негров» Лонгфелло в переводе Михайлова.
Мартовский номер «Современника» упорно и демонстративно замалчивал царский Манифест и Положения 19 февраля. «Проницательный читатель» сразу догадался в чем дело. Это был протест против обмана, против игры в «освобождение».
— Говорят, молчание порой красноречивее любого оратора, — размышлял вслух Владимир, шагая через весенние лужи рядом с Полиной Пыпиной.
Подруга молча вскинула глаза. Они говорили яснее тысячи слов.
Владимир Обручев гордился доверием Чернышевского, редакции. Он стал уже постоянным сотрудником журнала. Обручев чувствовал себя в эти дни уже не «либеральным господином» или «черт знает чем», как говорил Чернышевский, а человеком, знающим, что делать.
В глубине подполья
Лучшие годы жизни были для Обручева не только годами работы в «Современнике» под руководством Чернышевского и Добролюбова. Была в них и другая, видимая лишь немногим сторона жизни.
Искренне, с большим воодушевлением примкнул Обручев к тому тайному движению, душой которого был Чернышевский. Разумеется, об этом никто не говорил. Но Обручев твердо знал, что это так.
Знал Обручев и то, что стоит на одной с ним дороге борьбы за добро против зла, делает одно с ним дело.
Николай Обручев конкретно ввел его в это «дело», и он выполнял его, как мог. В Измайловском полку Владимир восстановил свои связи с Григорьевым и другими офицерами. У офицера Тихменева познакомился со студентом Данненбергом, который ввел его в кружок Николая Утина. Восстановил связи с академией Генерального штаба, с офицерами поляками. Владимир Обручев чувствовал себя с ними, как с родными. Польский язык, который он знал с детства, очень пригодился для тайных бесед.
По массе поручений с конца весны — начала лета 1861 года Владимир чувствовал, что «дело» вступало в решительную фазу. В одной из тайных бесед Боков сказал ему, что «наступило время революционных организаторов» и что он, Обручев, является теперь агентом тайного революционного Комитета. Обручев не задавал лишних вопросов, но он догадывался о составе Комитета. Боков сказал, что Добролюбов возвращается в Россию из Италии, что Николай Обручев вернется вслед за ним к концу октября. Вместо них для связи поедут другие. Это нужно и для дезориентации Третьего отделения. Комитет готовит к изданию газету, конечно очень маленькую, но важную для организации всего дела. Для этой цели создаются три типографии. Кроме газеты, будет налажен выпуск прокламаций, обращенных ко всем слоям населения: к крестьянам (она уже написана), к молодежи, к солдатам, к офицерам, к «образованным классам». Обручев должен был ждать посыльного с газетою и разослать ее по адресам, развезти по городу. А пока он должен бывать в университете, у военных друзей, в обществе и сообщать Бокову о настроениях «публики».
В конце разговора Боков не вытерпел и спросил о Маше. Никто, кроме Владимира, не знал, как много значила для Бокова Маша. Каким милым казалось ему ее бледное лицо, как он любил выражение этих грустных серых глаз, таких задумчивых и добрых, как не давала ему покоя эта кудрявая белокурая умная головка, как волновал его ее тихий голос! На правах врача он многое знал о ее болезни, которая уже излечилась университетом. Мария Обручева была в числе пионерок высшего женского образования в России.
От природы очень похожая на брата, да и характером в него, Мария была на три года его моложе, то есть вступала в ту пору, когда ее сверстницы считали необходимым выходить замуж. Но мысли Маши Обручевой были далеки от этого. Ею овладела другая мысль, казалось — несбыточная мечта: стать врачом, лечить болезни и раны своего многострадального народа.
Боков был восхищен ее решением и втайне приписывал кое-что и себе, своему влиянию. Он знал, что по твердости характера она не уступит брату, несмотря на всю свою доброту, скромность, тихий голос и удивительную женственность. Из последней беседы с нею он понял, что отец требовал ее возвращения в деревню, почему и спросил Обручева о ней.
— Положение трудное, — ответил Владимир, когда Боков смущенно опустил глаза, — и я не знаю, как ей помочь. Без согласия отца она не может сдавать экзамен за гимназический курс мужской гимназии, к которому готова, не может начать слушать лекции в Медико-хирургической академии.
— Может быть, я снова могу быть полезен? — спросил Боков.
— Спасибо, Петр Иванович, но в качестве врача нет — отец вам больше не поверит. Да и нужно его официальное согласие.
— Может быть, посоветоваться с Николаем Гавриловичем?
— Я думал об этом, но он так занят последнее время.
— Я имею к нему доступ всегда. Пойдем вместе.
Николай Гаврилович работал так много, что ходить к нему без особенной надобности никто бы не решился. В 1861 году он работал больше, чем всегда. Но сейчас была именно «особенная надобность», и Владимир решился.
Боков действительно провел его сразу в кабинет, маленький, весь заставленный книгами. При их появлении Николай Гаврилович оторвался от корректуры и, как всегда, выслушал их внимательно и доброжелательно. Он не мог сразу решить эту задачу. Лицо его было задумчиво и грустно. Наконец он сказал:
— Случай исключительный и трудный. Но только такие трудности уполномочивают на риск. Вижу только один выход: если генерал не разрешит Марии Александровне учиться, ей остается одно — немедленно выйти замуж за человека, которого примет генерал и который позволит Марии Александровне учиться и свободно располагать собой. Идеальный вариант, если бы она уже полюбила такого человека, а он — ее. Но если этого нет — можно решиться на фиктивный брак. Но это риск, риск чрезвычайный. Любовь — это так хорошо и так важно для обоих супругов.
Сердце Владимира болезненно сжалось. Но если бы он мог знать, как тревожно и с каким волнением забилось сердце Бокова! Никогда, наверное, не решился бы предложить руку дочери генерала Обручева он, безродный «интеллигентный пролетарий», потомок крепостных. Но теперь он, не задумываясь, будет предлагать свою руку и сердце, ни на что не надеясь, а только желая пожертвовать собою ради несравненной Маши и видеть хоть иногда ее глаза не очень грустными. Она была для него единственной женщиной в мире, для которой он был готов на все, даже на муки неразделенной любви.
— Я готов для нее на все, — сказал Боков с таким чувством и убеждением, что Чернышевский и Обручев оба были поражены.
Да! Друг познается в беде. Русский народ всегда так считал, и это подтвердилось снова.
Владимиру стало жаль и Машу и Бокова. Он знал, что она еще никого не любит, а значит, не любит и Бокова.
Разговор с Машей окончился для Владимира неожиданно.
— Если он действительно согласен — я согласна, — сказала Маша внешне спокойно, — но я должна поговорить с ним наедине.
Боков на всю жизнь запомнил этот разговор с Машей. Она плакала. Он впервые видел ее слезы, но это были не только слезы благодарности. Ей было больно сказать ему правду, но она была слишком честна, чтобы не сказать ее. Она никого еще не любит, но постарается полюбить его. А пока она может пойти только на фиктивный брак. Он открывает ей дорогу к образованию, к свободе, она не связывает его свободы ни в чем; даже материальных обязанностей у него не будет. Боков поражен в самое сердце, но он любит ее, и он сказал ей об этом, сказал, что он будет ждать, надеяться и готов на все.
Маша полна благодарности к своему жениху, но внешне она с ним очень холодна, он внешне принимает это за должное, на удивление всех знакомых. Маша с братом уезжают в мае в деревню. Боков приезжает позднее туда же и делает предложение по всей форме. Эмилия Францевна поражена холодностью дочери с этим милым красивым доктором. Она заметила слезы дочери, которые тщательно скрываются. Но доктор явно любит Машу, у доктора хорошая практика, Маша согласна, и Эмилия Францевна не может возражать.
Генерал не заметил ни холодности Маши, ни слез ее. Он давно понял, что неспроста Маша задержалась в Питере. Доктор Боков вылечил ее. Это заметно. Что ж, пусть выходит замуж! Забудет все свои фантазии. Жаль, конечно, что Боков не дворянин, да что делать! Другие, видно, времена пошли. Приданым не интересуется — видно, что любит Машу и обеспечит ее счастье.
Свадьбу назначили на 20 августа — в Клепенине. Владимиру поручено подыскать и устроить молодым в Петербурге новую квартиру: у Володи отменный вкус и чувство изящного. Даже кое-что из приданого Маша поручила купить ему, зная его вкус и доверяя ему в этом больше, чем себе. Суета по случаю предстоящей свадьбы совершенно отвлекла Владимира от работы в «Современнике». Хорошо еще, что двести рублей ему выдали из кассы вперед. Шлоссер лежал без движения. До перевода ли тут!
Но вот долгожданные письма от Чернышевского и от Бокова от 2 июня, в одном конверте. Надо возвращаться к работе над Шлоссером. Чернышевский просит об этом «усердно».
Если Чернышевский напомнил о делах по «Современнику», то Боков дал понять, что Владимир нужен ему как агент Комитета. Обручев покинул Клепенино.
Он приехал все же поздно. Без него уже был распространен первый номер «Великорусса» — подпольной «газеты», изданной в России. Обручев уже читал этот маленький листок — в осьмушку тонкой бумаги.
«Помещичьи крестьяне, — говорилось в «Великорусе», — недовольны обременительною переменою, которую правительство проводит под именем освобождения; недовольство их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут.
Правительство ничего не в силах понимать, оно глупо и невежественно; оно ведет Россию к пугачевщине. Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний…»
Владимир вспомнил, что уже слышал не раз эти слова, особенно: «…патриоты будут принуждены призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы». Он знал, что листок был написан не одним человеком, да, он ясно слышал разные голоса, даже если бы Боков и не сказал ему, что эта программа — результат коллективного творчества, результат многих споров.
— Поэтому, — объяснил Боков, — первый номер — маленький и не полностью раскрывает наши карты. Все сразу нельзя — нужна разведка, проба сил.
В его, Обручева, задачу входило выявить реакцию различных кругов общества в Петербурге и в провинции на поставленные в первом номере вопросы:
1. Нужна ли конституция при монархии или без нее?
2. Может ли нынешняя династия отказаться добросовестно и твердо от самодержавия?
3. Будут ли «образованные классы» готовить формальные требования самодержавию?
На основе ответов на эти вопросы должна была создаваться дальнейшая тактическая платформа Комитета, выпустившего «Великорусе».
Владимир нигде не слышал осуждения «Великоруса». Всюду говорили о необходимости водворения «законного порядка» на основе справедливого разрешения крестьянского вопроса, введения конституции и освобождения Польши. Но возникали споры о том, как решить эти проблемы; выявились партии «умеренных» и «крайних». Первые считали, что нужны только более решительные реформы сверху, что царь способен сделать это, если его убедить и попросить; другие считали, что мирным путем сделать ничего нельзя, что царь ничего не даст народу России и Польши добровольно и Россия стоит накануне «революционных чудес».
Владимира глубоко взволновал отклик Герцена на первый номер «Великорусса». «Колокол» посвятил ему передовую.
«Заводите типографии! Заводите типографии! — говорилось в передовой. — Теперь самое время. Мы с восторгом узнали, что у нас начали печатать в тиши, не беспокоя цензуру, мы видели даже один листок «Великорусса». Это второй, необходимый шаг; везде так шло… Печатайте ручными типографиями, печатайте кой-как, тут не до эльзевировских изданий, имейте букв на пол-листа, чтоб разом можно было спрятать от долгих рук и коротких умов тайной полиции. Нет в Европе страны, где легче заводить типографии, как у нас, — везде теснее живут. Но не нам вас учить, да еще публично, мы ограничимся братским советом: Заводите типографии! Заводите типографии!»
Обручев был горд, что может помочь этому делу. Его радовало также удивительно бодрое, приподнятое настроение Чернышевского. Он ждал Добролюбова, чтобы ехать в Саратов, и был необычайно оживлен. Владимир убедился в этом в конце июля, когда встретил его случайно на улице. Погода была чудесная, располагавшая к жизнерадостному настроению. Оно, видимо, и овладело Чернышевским. Ему было нужно в типографию, потом в Гостиный двор — «за дарами Цереры», попросту за сайкой, — и Обручев предложил сопутствовать ему. Чернышевский все время весело разговаривал и шутил. Он был чем-то внутренне доволен. Владимир никогда не видел его на таком подъеме душевных и физических сил и не знал, конечно, что это их последняя большая беседа.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
В. А. Обручев – ученый, писатель, путешественник
В. А. Обручев – ученый, писатель, путешественник Владимир Обручев появился на свет 28 сентября (10 октября) 1863 г. в Клепенино – деревушке Ржевского уезда Тверской губернии, в имении своего деда Александра Афанасьевича. Дед был военным, дослужился до генерал-лейтенанта. По
В. А. Обручев. Григорий Николаевич Потанин
В. А. Обручев. Григорий Николаевич Потанин Краткий очерк жизни и научной деятельности [1]В прошлом году, 21 сентября, Сибирь праздновала 80-летие путешественника, ученого и общественного деятеля, сибиряка Г. Н. Потанина. В Томске, где живет юбиляр, местное Общество изучения
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ ОБРУЧЕВ
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич Обручев происходил из семьи военных, сохранявшей лучшие традиции русской армии. Он родился 10 октября 1863 года в маленьком имении Клепенино в бывшей Тверской губернии, на Волге. Отец Обручева — пехотный офицер Афанасий
Ирина НОВИКОВА
Ирина НОВИКОВА 35). Ирина НОВИКОВА — Герат, ОБАТО на базе 101-го полка:Медики тогда считались военнообязанными, и мне в 1985 году пришла повестка из военкомата.Но в ней ничего не говорилось о цели вызова.Когда я пришла в военкомат, люди, которые выходили из кабинета
Клара Новикова «В ПОЛИТИКЕ – ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ…» Лев Дуров «Я ПРЕДЧУВСТВОВАЛ ЕГО МУЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ…» Памяти Михаила Евдокимова («Эхо Москвы», август 2005 г.)
Клара Новикова «В ПОЛИТИКЕ – ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ…» Лев Дуров «Я ПРЕДЧУВСТВОВАЛ ЕГО МУЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ…» Памяти Михаила Евдокимова («Эхо Москвы», август 2005 г.) Ксения Ларина. Вот кто бы знал, что программу «Дифирамб» мы будем посвящать памяти этого человека, он не будет сидеть
Композитор и «радийные» мужчины. Владимир Шаинский, Владимир Трифонов, Дмитрий Иванов
Композитор и «радийные» мужчины. Владимир Шаинский, Владимир Трифонов, Дмитрий Иванов Вскоре после первых гастролей, в 1966 году, на Аллу Пугачеву обратил внимание редактор популярной воскресной радиопередачи «С добрым утром!» Владимир Трифонов. Он славился тем, что везде
Основные даты жизни и деятельности Н. И. Новикова
Основные даты жизни и деятельности Н. И. Новикова 1744, 27 апреля — в семье бывшего капитана флота и алатырского воеводы Ивана Васильевича Новикова родился сын Николай. 1755, 12 января — вышел указ об открытии Московского университета, и Новиков записан в гимназию при
Клара Новикова
Клара Новикова Клара Новикова на «MORE SMEHA»Мы с Кларой дружим.Она светлый, ранимый, заботливый человек. Мне очень близко название одной из Клариных программ – «Я смеюсь, чтобы не заплакать».Клара называет своим кумиром итальянскую актрису Джульетту Мазину –
19. Владимир Обручев (1863–1956)
19. Владимир Обручев (1863–1956) Выдающийся русский геолог, палеонтолог, географ, писатель-фантаст ХОЗЯИН СИБИРИ Талантливый горный инженер, он четверть века провел в геологических экспедициях, результатом которых стало немало научных открытий. Возглавляя горное отделение
Клара Новикова «В политике – жестокие игры…» Лев Дуров «Я предчувствовал его мучительный финал…»
Клара Новикова «В политике – жестокие игры…» Лев Дуров «Я предчувствовал его мучительный финал…» Памяти Михаила Евдокимова («Эхо Москвы», август 2005 г.) Ксения Ларина. Вот кто бы знал, что программу «Дифирамб» мы будем посвящать памяти этого человека, он не будет сидеть
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ 1877, 12 (24) марта — в селе Матвеевское бывшего Спасского уезда, бывшей Тамбовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области) в семье крестьянина Силантия Филипповича Новикова и его жены Марии Ивановны родился
Красный партизан Багрицкий. Петлюровец Владимир Сосюра. Большевистский акмеист Владимир Нарбут. 1919–1920
Красный партизан Багрицкий. Петлюровец Владимир Сосюра. Большевистский акмеист Владимир Нарбут. 1919–1920 Во время интервенции, после ухода австрияков и германцев, Одессу поделили на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Границами служили ряды
Глава 4. Издано иждивением Новикова
Глава 4. Издано иждивением Новикова За 13 лет (1779–1792 гг.) в пяти новиковских типографиях было напечатано более 1000 книг и журналов на русском, латинском, французском и немецком языках, что составляет почти 1/3 всей книжной продукции России того времени. Эта цифра окажется еще