IV
IV
Несчастная участь моего дядьки. — Мое последнее свидание с ним. — Бани. — Осмотр белья. — Особенная страсть каптенармуса к крови. — Корпорация барабанщиков. — Размещение кантонистов на зимния квартиры. — Квартирные хозяева. — Отношения их к кантонистам. — Мытье панталон. — Казенная пища кантонистов. — Кража хлеба. — Чесотка и ея лечение. — Бегства кантонистов. — Наказание беглецов.
Дядька мой, по переходе в третью роту, перестал быть ефрейтором, так как там были свои, и ему спороли желтую тесьму с эполет, означавшую его ранг, и он уже не только перестал быть моим дядькой, а скорее я сделался его ментором. Каким образом я подчинил его себе — не знаю, потому что ни усилий, ни стараний на то с моей стороны не было; теперь, переставь быть ефрейтором, он назначался на все работы и, между прочим, ходил на вести к ротному командиру. Обязанность вестового заключалась в том, чтобы находиться в полном повиновении деньщика ротного командира и кухарок его. Как-то, несчастный, бывший мой дядька, состоя на вестях, чистил кастрюлю и неосторожно толкнул вблизи стоявший кувшин с молоком; хотя кувшин уцелел, но содержимое в нем пропало, за что виновному дали 50 розог; но высек его не ротный командир, котораго в то время не было, а ротная командирша; неудовольствовавшись этим, она прогнала его вон и велела сказать фельдфебелю, чтобы прислал другого. Фельдфебель, узнав в чем дело, дал ему еще и от себя 50 розог. Напрасно бедняга доказывал фактически, что он уже высечен командиршей роты — все было напрасно. Вскоре над ним стряслась новая беда, имевшая роковыя последствия. Kypeние табаку считалось проступком уголовным, за который мог наказывать не фельдфебель, а только ротный и баталионный командиры, что в переводе означало: 500 и больше розог. Несчастный Коля, так звали моего бывшаго дядьку, попался с сигарой в руках, за что и был наказан 500 ударами. Страдалец сперва кричал, а потом стонал, к концу же сечения совсем умолк. Я горько плакал не только во время его мук, но плакал и на другой день. Полуживого отнесли его в лазарет; в свободное время я просиживал около него по нескольку часов и, смотря на его раны, каждый раз плакал и упрекал его, зачем он не послушал меня и не бросил курения. Деньги мои все еще хранились у него и их оставалось довольно, потому что он был разсчетлив. Сначала он как будто начал поправляться; я просил его не жалость денег, покупать съестное, что ему угодно, но это не помогло: он стал жаловаться на сильную боль сердца, а месяца через два объявиль мне, что он уже не жилец на этом свете и при этом благодарил меня за все, твердил о своей привязанности ко мне, взял с меня обещание, чтобы я берег себя от наказаний, «иначе, — прибавлял он, — не перенесешь и тебя убьют, как меня убили». Странно, что он не только не бранил своих убийц, но даже не упоминал о них, как будто им так и следовало его убить; он отдавал мне мои деньги, но я их не взял, не ожидая, что он скоро умрет. Прощаясь с ним, я не думал, что не дальше. как через год и меня постигнет такая же катастрофа, и если я останусь жив, то лишь благодаря своей немецкой фамилии и уменью, хотя плохо, говорить понемецки; но об этом речь впереди. Через несколько дней я опять выпросился навестить моего друга Колю но, увы! он уже три дня как был похоронен. Мир праху твоему, мой милый, мой дорогой Коля! ты умер, как умирали мученики, прощая своих убийц. Странное чувство овладело мной, когда я вернулся в лагерь; мне казалось, что я осиротел, когда не стало моего добраго Коли, а при его жизни я не чувствовал себя ни сиротой, ни одиноким, так была сильна моя привязанность к нему; он мне заменял все и всех. После его смерти, многие навязывались ко мне с своей дружбой, и хотя я их не отталкивал, но они сами устранялись, в особенности, когда узнали, что я лишился своего кошелька с деньгами, котораго я даже и не спросил у лазаретных служителей, зная, что это напрасный труд. До настоящаго времени я не был еще ни одного разу высечен формально и по всем правилам, то есть в растяжку на земле, скамье или на воздух, за что обязан был моему дядьке и необыкновенной моей памяти: заданные уроки я никогда не долбил как все это делали; для меня достаточно было прочесть заданный
урок три раза, ложась спать, а на другой день я не только твердо знал его, но даже помнил все запятыя и точки, да и во всех предметах я шел из числа первых, а потому и был избавлен от назначения на работы. Все, так называемые прилежные, обязаны были постоянно ходить в классы, за исключением каникулярнаго времени. Я упомянул, что еще не был ни одного раза формально высечен, тем не менее, по поступлении в третью роту, я каждую субботу испытывал на себе все прелести лозы. Каждую субботу нас водили в баню и каждый из нас после мытья обязан был явиться в костюме праотца Адама каптенармусу, сдать грязную рубашку и получить от него чистую; сдаваемая грязная рубашка тщательно разсматривалась каптенармусом. По положению, на ней не должно было быть ни одной распорки, две тесьмы у ворота должны были быть в целости; кроме того, не полагалось еще кой-чего, хотя бы носивший рубашку и страдал разстройством желудка, что со многими случалось очень часто. Если при осмотре оказывалось что-либо подозрительное, то виновнаго тут же секли в растяжку, на воздухе; особенно доставалось тем, у которых тело было нежное и белое. У проклятаго каптенармуса была какая то страсть видеть на нежном теле рубцы и кровь, и вот благодаря этой-то проклятой страсти, я каждую субботу получал по нескольку розог, единственно за то, что имел белое тело, но я все-таки получал розги не в растяжку, потому что сдаваемыя мною рубашки были всегда в исправности; обыкновенно, каптенармус хватал меня за руку и гонял, как на корде, я делал всевозможныя антраша, чтобы ему трудно было нанести такой удар, какой хотелось, то есть, чтобы брызнула кровь, ибо одни рубцы его не удовлетворяли. Бывало, когда он добьется-таки своего, то долго не дает чистой рубашки, а любуется и смакует говоря: «ишь, как славно! будь ты проклят!» Прошло уже более полвека после всего этого, а я и до настоящаго времени не могу без отвращения вспомнить рожи каптенармуса.
Теперь скажу о корпорации барабанщиков. В них поступали такие кантонисты, которых драли, драли, но, наконец, перестали, потому что они оказывались неспособными от природы ни к какой науке; но находились и добровольцы, так как быть барабанщиком было выгодно. Одиним из существенных условий для барабанщика должно было быть крепкое телосложение; должность их была самая легкая: бить в барабаны утреннюю и вечернюю зорю и при баталионных учениях, дежурить в столовой и всюду где находились кантонисты на работе, но главная их обязанность состояла в том, чтобы крепко сечь, смотреть за розгами, докладывать о их убыли и требовать пополнения. Свободные от дежурства барабанщики по целым дням упражнялись в барабаны, а некоторое время посвящали и упражнению в примерном сечении, ибо это было в своем роде искусство, в коем иные положительно достигали совершенства. Нужно было видеть этих выродков рода человеческаго, когда они секли и распоряжались теми, кто держал растянутую жертву на скамье, или на воздухе. После 50 ударов, пот лился с них градом, а рожи делались красными; тогда их сменяли другие барабанщики, ожидавшие с нетерпением своей очереди насладиться; они во время сечения приходили в какой-то звериный экстаз. Нередко случалось, что экзекутор, превратив свою жертву в бифштекс, говорит: — «Довольно!»
А барабанщики, опьяненные кровью, не могут остановиться и продолжают сечь; тогда за ослушание порят их самих.
В конце сентября, все роты, кроме четвертой, разместились на зиму по деревням. Наша рота квартировала в Каменке и всем нам в отношении пищи было лучше, потому что продовольствовали хозяева, хотя пища и здесь была не казиста, но, по крайней мере, разнообразна; розги же и барабанщики были те же. Для классов и фронтового учения, были отведены самыя просторныя хаты, какия оказались в деревне. Мы находились в полной зависимости от наших хозяев, которые относительно нас изобрели следующую методу: если кантонист чем-нибудь обидит свою хозяйку, последняя брала, обыкновенно, два десятка яиц, а нередко и курицу, и отправлялась с жалобой на обидчика к ротной командирше; последняя, получив хабару и записав имя обидчика, докладывала своему муженьку, который на следующее же утро, когда рота являлась для переклички, отсчитывал виновному сотню, а часто и больше розог; дать меньше розог ротный командир не мог, так как это не позволял ему его ранг. По праздникам и воскресным дням, если погода была хорошая, нас водили в церковь, но от розог даже и святые нас не спасали; правда, в церкви нас не секли, а расплата производилась по возвращении домой. Провинности в данном случае были разныя: во время службы мы обязательно должны были петь целой ротой «Верую», «Достойно» и «Отче наш», и вот некоторые, от слишком сильнаго религиознаго умиления. задирали такого козла, что ушам делалось больно; иные проказники делали это просто для потехи, надеясь на русское «авось пройдет», но не многим это «авось» удавалось; другие, наскучив долгим стоянием, для развлечения, ловили мух на спинах товарищей и т. п. Летом нас водили каждую неделю к Днепру для мытья холщевых панталон, на что мыла не полагалось, а давалось на капральство кусок белой крейды; в обратный путь от Днепра, мы шли без панталон, а каждый развешивал их для просушки на своей спине; другая же пара панталон, имевшаяся у каждаго кантониста, всегда тщательно хранилась в цейхаузе для одних смотров. Обедать и ужинать мы ходили в столовую по-ротно; рота, войдя в промежуток столов, останавливалась, пела молитву, а затем, по барабанному сигналу, в один темп отодвигались скамьи и по такому же сигналу садились и придвигали скамьи. Тарелки, ложки и чашки были оловянныя; в ножах и вилках не было никакой надобности, потому что хлеб подавался ломтями, а обед состоял из борща с салом и ячной каши; на ужин та же каша, только в жидком виде, борща на ужин не полагалось. Эта пища никогда не переменялась, за исключением смотров, тогда в борщ клали мелко крошеную говядину, а каша подавалась гречневая и с маслом. Не помню сколько минут полагалось на обед, но что-то очень мало, почему многие не успевали наедаться, но по барабанному бою нужно было в ту же минуту вставать, кто же этого не исполнял, а таких всегда набиралось много, того за такую провинность дежурный офицер безпощадно сек; той же экзекуции подвергались кантонисты, попадавшиеся в воровстве хлеба; их также было много, чему нельзя удивляться, потому что к подобной краже вынуждал голод; крали обыкновенно корки, во-первых потому, что оне сытнее, а во-вторых, их удобнее было прятать; но при выходе из столовой, в дверях, служители обшаривали каждаго и попавшиеся получали по сту розог.
Среди кантонистов существовали, конечно, разныя болезни, но господствовавшей в батальоне была чесотка или, проще выражаясь, короста, которой ни один вновь прибывший не мог избегнуть. Лечение ея производилось следующим образом: для чесоточных приготовлялась отдельная баня, натапливаемая очень жарко; в предбаннике стояло в котелке лекарство из следующаго материала: куриный помет, синий камень и сера в порошке, размешанные в чистом дегте; этим-то составом чесоточные намазывали один другого. IIo окончании мазки, всех загоняли в баню на самый высокий полок и поддавали пар в таком количестве, что не только вымазанному этой эссенцией человеку было невозможно выдержать, но даже и не вымазанному. Тут происходили сцены довольно смешныя и вместе с тем отвратительныя; от жары и мази, разъедающей тело, кантонисты кубарем летели с полков вниз; здесь их поджидали присмотрщики, принимавшиеся сечь несчастных по чем попало; те бросались опять на полок, но, не выдерживая мучения, снова соскакивали вниз и опять начиналась таже история, продолжавшаяся иногда целый час, после чего, наконец, разрешалось обмыться водой. Я много читал о средневековых пытках и мне кажется, что оне очень схожи с пытками, которым подвергались наши кантонисты.
Беглецов у нас всегда было много; причин к побегу, конечно, находилось множество, при том же и приманка была соблазнительна: на Днепре почти постоянно стояли целое лето плоты и всевозможныя барки, на которыя не только принимали беглецов охотно, но и кормили вволю пшенной кашей, с салом, или свежей рыбой; все это делалось не ради какой-нибудь выгоды, а ради Христа. Многие беглецы так и канули, как в воду, но многих приводили с обритыми головами через год, два и даже больше. Наказывал беглецов всегда сам баталионный командир перед целым баталионом; но описывать процедуру этого наказания я не могу, — потому что прихожу в содрагание от одного воспоминания. Скажу только, что несчастных раздевали донага, а его высокоблагородию выносили стул, чтобы не утомиться от долгаго стояния. Я забыл сказать, что в тех случаях сечения, когда экзекутор приходил в зверский экстаз, он приказывал барабанщикам «бить корешками»; тогда барабанщики обматывали себе руки тонкими концами розог, а корешками наносили жертве удары; экзекутор же выкрикивал «жги его, каналью»! и, действительно, жгли.
Быть может, читатель скажет: что же это такое все секли и секли, а разве не было высшаго начальства? Как не быть, было, да оно же и приказывало сечь, в чем, кажется, и заключалась вся его обязанность
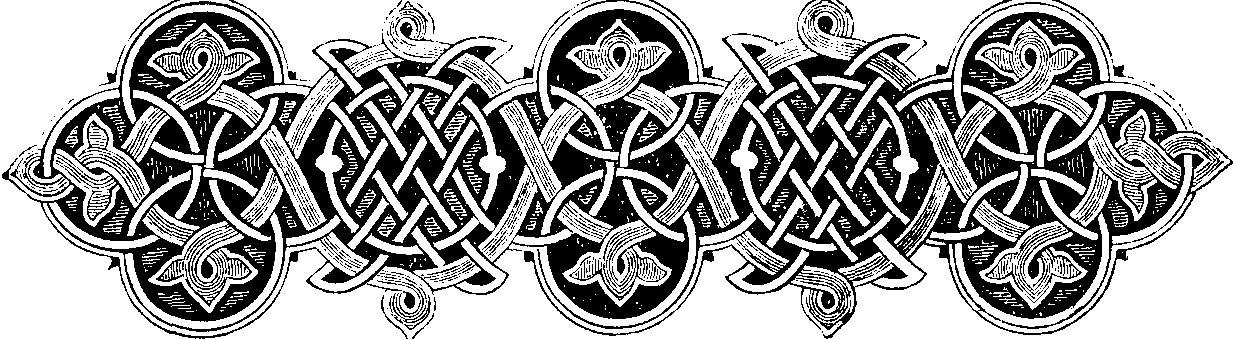
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК