ПОЛИТАНСКИЙ
ПОЛИТАНСКИЙ
Вот уже столько лет прошло, а я все не могу забыть этого маленького, невзрачного человечка и того, что с ним связано, хотя, в сущности, все это так незначительно и сам он так незначителен... А может быть, именно поэтому я о нем и помню?..
Я тогда первый год работал в газете, в шумной и беспечной молодежной редакции. Ей давно уже обещали новое помещение, а пока находилась она во флигельке длинного кирпичного барака, где жили шоферы автобазы со своими семьями, а сама автобаза располагалась напротив, через улицу. Эта улица с наступлением дождей превращалась в болото с искусственными кочками в виде обломков кирпича и танцующих под ногой дощечек — по ним, закатав брюки по колено, поскакивали пешеходы; при этом их мочило дождем, по сторонам рычащие «ГАЗы» и «МАЗы» вздымали тяжелые веера брызг, а внизу густела серая, плотная и, казалось, бездонная грязь. В такие дни добираться до редакции нашим авторам помогал только отчаянный комсомольский энтузиазм.
Я хорошо помню, как в один из подобных дней он пришел к нам в редакцию.
Я бы сказал даже — не пришел, а — возник из полусумрака, наполнявшего нашу комнату. Она выходила на юг, но карагачи, буйно разросшиеся под окнами, даже в летний полдень погружали ее в прохладную мглу. И хотя осень уже наступила, листья еще не успели облететь, хмурое небо сочилось дождем, и сумерки, стоявшие в комнате, казались еще более тусклыми и плотными из-за лампочки, беспомощно светившей под потолком.
Надя Вахромеева с утра отправилась делать отчет с какой-то конференции, Миша Курганов рыскал по городу в поисках жертвы для воскресного фельетона, я в одиночестве правил статью и не слышал ни скрипа двери, ни шороха шагов и поэтому, должно быть, вздрогнул, когда, подняв голову, неожиданно заметил посреди комнаты маленького невзрачного человечка с огромным портфелем в руке. Он улыбался робкой, осторожной улыбкой и, склонив голову несколько набок, наблюдал за мной,— наверное, уже довольно долго, потому что вся его фигурка успела застыть в смиренной позе и ожила не сразу после того, как я взглянул на него.
Только потом я разглядел на его брюках — одет он был аккуратно, во все черное, с галстуком,— потом уже разглядел подчищенные следы грязи, которой они обросли, пока он добирался до нас,— а в самое первое мгновение мне действительно показалось, что он непонятным образом возник прямо из сумерок и сейчас в них исчезнет, и с этой секунды до того самого мгновения, когда он беззвучно затворил за собой дверь, я испытывал какое-то странное чувство, какой-то почти мистический трепет сквознячком пробегал у меня между лопаток, трепет и страх, но тут была еще и другая причина...
Когда я поднял голову, человек весь пришел в движение, весь как-то внутренне просиял, счастливо зажмурился и, делая вместо одного три шажка, просеменил ко мне, и не прямо, а описав дугу. Все так же восторженно и сладко улыбаясь, он схватил мою руку холодной узенькой лапкой.
— Политанский,— тоненько и певуче произнес он, глядя на меня снизу вверх — если бы он был даже на пару голов выше меня, и тогда, мне кажется, он смотрел бы именно так, снизу вверх.— Политанский... Очень рад познакомиться... Очень...
Он долго не выпускал моей руки, он сжимал ее все крепче и сердечней, словно увидел давнишнего друга, но я был уверен совершенно точно, что не встречал его нигде, никогда.
Я предложил ему сесть и с некоторым усилием освободился от его пальцев, чтобы придвинуть стул.
— Что вы, что вы! — почти ужаснулся он, отпрянув назад.— Я и так помешал вам! Ведь у вас такая работа, что если все будут мешать...
Все это, в общем-то, сильно смахивало на розыгрыш, но, приглядевшись к его бледному лицу с тонким носом и бескровными губами, я не заметил на нем и следа усмешки. Напротив, он с таким уважением, даже восторгом смотрел на мой стол, что я и сам невольно уставился на него, но, кроме стопки бумаги, перечерканных листов и заляпанной чернильницы, ничего не увидел.
Мне пришлось усадить его почти насильно.
Кажется, он воспринял это как-то по-своему, придав моему самому естественному движению нелепую многозначительность, и, примостясь, наконец, на краешек стула, с чувством особой доверительности и благодарности ткнулся коленкой в мою ногу.
Потом он сказал, что ему очень нравится наша газета.
Что он регулярно читает нашу газету. Что ему кажется, только очень талантливые люди могут делать такую газету.
Ему было не больше сорока двух — сорока трех, и уже поэтому он не походил на пенсионера, который принес в редакцию мемуары из эпохи русско-японской войны. В нем ничего не было и от изобретателя фотонной ракеты — я уже знал, что те не зачесывают волосы таким жиденьким пробором, волосок к волоску. Скорее всего, все-таки, он походил на графомана, особенно если учесть его огромный портфель.
Он все никак не мог сладить со своим портфелем. То клал его на стол, то запихивал между ножками стула, то прижимал к груди — огромный, потрепанный портфель, вдобавок — страшно тяжелый, судя по звуку, который он производил, когда Политанский опускал его на пол.
Я уже видел перед собой манускрипт, отлично переплетенный в картон, оклеенный дерматином, с фамилией автора на титуле и заголовком в затейливых вензелях, и потом — полтысячи страниц прозы, бисерными буковками, а может быть, это даже лиро-эпическая поэма в гекзаметрах, пока еще только первая часть, а всего задумано двенадцать, или что-нибудь в том же духе. И вот теперь — первая проба, первый риск,— и он сидит передо мной, и у него першит в горле, и он говорит, говорит, говорит, о том, как он любит нашу газету, и он действительно ее любит, и любит нас всех, любит, чтобы его тоже полюбили, и не судили слишком строго.
— Я не поэт,— сказал он, перехватив мой взгляд, брошенный на портфель, и застенчиво хихикнул.— Не поэт, не журналист и вообще не писатель... Ведь чтобы стать журналистом или писателем, нужны большие способности?..
Я пробормотал что-то в том духе, что во всяком деле нужны способности.
— Но в таком ведь — особенно?.. Я читал вчера вашу статью и, между нами, она мне очень понравилась...
Черт возьми!.. Я заскрипел стулом, пытаясь отодвинуться от Политанского, но он подвинулся вслед за мной и положил свою ладошку мне на колено.
— Да, очень понравилась... Знаете, мне очень хотелось бы научиться писать, как вы... Но ведь это так трудно, ведь правда?..
«А что, если ему попросту сказать, чтобы он убирался?» — подумал я. Но он смотрел мне в глаза таким светлым, непорочным взглядом, что я сдержался и на этот раз.
Я сказал, что испытывал, глядя на Политанского, нечто вроде легкого страха. Я не точно выразился: действительно, страх я испытывал, но страх не за себя (смешно было бы его бояться), а за него самого. За то, как он себя ломает, корежит, унижает — и робостью, и сладостными улыбками, и этой неумелой, неловкой лестью, и в конце концов ради чего? Идите и бросьте, хотелось мне сказать, идите и бросьте в первую канаву то, что там лежит у вас в портфеле,— каким бы оно ни казалось вам значительным и великим,— нет и не может быть на свете ничего такого, ради чего стоило бы так унижать себя и измываться над собой!
Я тогда не понимал еще самого главного: ничуть он не корежился, ничуть не ломал себя, это было бы хорошо, если бы ломал, если бы он только притворялся таким робким, боязливым, таким ничтожнейшим из смертных и распластывался по земле из хитрости, из потаенной подлости,— это было бы еще хорошо,— но самое-то главное, что он таким вот и был на самом деле, таким, каким казался — таким он и был!
Но я еще не мог догадаться об этом и только с нетерпением ждал, чтобы он выложил, наконец, то, что там лежало у него в портфеле, и ушел.
— Я принес вам свой первый опыт... (Ага, наконец-то!) Маленький опыт... Но ведь все начинают с малого, ведь правда?..
Я поспешно согласился.
— Если разрешите, я сейчас вам покажу...
— Да,— сказал я.— Да, конечно же!
— Если вы хотите что-нибудь подправить — я буду только рад...
Я почувствовал облегчение: дело двигалось к концу.
— Но учтите, ведь это мой самый первый опыт, самый первый... Первый опыт часто бывает неудачным...
О дьявольщина!
— Да,— сказал я,— бывает. Неудачным. Первый опыт.
— Вот видите,— сказал он,— вы даже сами это признаете... Вот видите...
Честно говоря, я был даже несколько разочарован, когда, порывшись в портфеле, он протянул мне обыкновенный тетрадный листок. На нем скупо и точно, в несколько строк, излагалась информация о молодежном вечере, который состоялся такого-то числа в городском Дворце культуры. Больше ничего...
Спустя пару дней его информация была напечатана, и с тех пор Политанский стал появляться в редакции раза два, а то и три в неделю.
С информациями в нашей газете всегда было туго — все мы мечтали о подвальных статьях, а подписываться под пятью строчками... Политанского это не смущало. В информациях, которые он приносил, не содержалось ничего сенсационного, но они регулярно печатались у нас на третьей, четвертой, а то даже и на первой полосе.
Если я бывал занят, он терпеливо ждал, примостясь на широченном диване, взбугренном выпирающими пружинами и звучащем при всяком прикосновении, подобно органу в Домском соборе. Впрочем, он уже перезнакомился со всеми в нашей редакции и при каждом удобном случае просил, застенчиво жмурясь:
— Зовите меня просто — Саша...
Но мы называли его «Александр Александрович»: самым старшим из нас был редактор, ему едва исполнилось двадцать восемь лет.
Мы были молоды.
Ах, черт побери, как же дьявольски молоды мы были!
Прежде чем встретиться под редакционной крышей, мы жили за тысячи километров друг от друга — в Кишиневе, Москве, Одессе и Южно-Сахалинске. Неизвестно, какой силой вытряхнуло нас из обжитых, комфортабельных гнездышек и швырнуло в самый центр величайшей в мире степи. Летом она превращалась в пыльное пекло, зимой бураны переворачивали автобусы, вокруг чадно тлеющих терриконов кучились шахтерские мазанки времен тридцатых годов, и жалкие прутики вдоль четко спланированных кварталов Нового города обещали тень и прохладу через пятнадцать лет. «В гробу я видел эту романтику!» — повторял Миша Курганов, и мы принимались взахлеб вспоминать томную негу пляжей Ланжерона, молдавские виноградники и московские рестораны, в которых, кстати, никто из нас еще не бывал.
Мы притворялись циниками. Мы жили на частных квартирах, у слободских куркулей, мы поклонялись Хемингуэю и учились у редактора курить трубку. Мы презирали нашу газету; малый формат, три номера в неделю... Мы угрюмо мечтали сделаться когда-нибудь собкорами большой центральной прессы — на Кубе или на Гавайских островах. Мы не ставили ни в грош нашу работу: любой каменщик кладет кирпич на долгие годы — кому нужен вчерашний номер или взятое на прошлой неделе интервью?.. Мы стыдились нашего редактора, который курил трубку и вычеркивал из наших статей самые яростные наскоки на вельможных дураков, лицемеров и бюрократов.
Мы нежно любили нашу газету. При обстоятельном разборе, с нею не могла сравниться ни одна газета на свете. А что было бы, дай нам большой формат?.. Мы уважали своего редактора. Конечно, у него были недостатки, но из всех возможных редакторов он был, в конце концов, самым лучшим. Мы любили свою профессию: представьте себе, чем стала бы наша планета, исчезни на ней в один прекрасный день все журналисты?.. Мы верили, что слово движет горами и правит судьбами. И пока наши квартировладельцы храпели под своими фикусами, мы обдумывали грядущие фельетоны; когда в редакции стихала дневная сутолока, мы писали статьи, сладострастно предвкушая ответный поток жалоб, угроз, протестов и опровержений и, наконец, коротенькие, торжествующие, жирно набранные три строчки: «По следам наших выступлений...»
Мы были молоды, свирепы и непоследовательны. И среди нас появился Политанский.
Он был не похож на обычных наших посетителей — разбитных рабкоров, знающих себе цену комсоргов с угольного разреза, авторов из дальних сел, которые, очутясь в городе, привычно заваливались к нам — громкоголосые, в пропахших бензином полушубках и сапогах, оклеенных липучей грязью.
Политанский снимал калоши у самых дверей, аккуратно задвигал их в уголок — и сразу же за минуту до того азартно балаганящие ребята стихали, и всем нам становилось как-то тяжело и неуютно.
Но он ничего не замечал. Сладостно щурясь, он здоровался, пожимал каждому руку своей маленькой, щупленькой лапкой, и при этом не забывал поздравить с «удивительной, просто талантливой статьей». Потом он присаживался на диван, заменявший нам Домский собор, вслушивался в разговор и хихикал самой незатейливой остроте.
При взгляде на него, само собой рождалось сравнение Политанского с чеховским Беликовым. Но постепенно я понял, что сходство это было больше внешним.
Он редко вмешивался в разговор, но день ото дня становился все смелее, и его тоненький голосок все чаще звучал в редакции. Наши споры возбуждали его, он слушал, поерзывая на месте, временами в его глазах появлялся живой блеск. И когда, наоравшись, мы расходились по своим местам, он подсаживался к кому-нибудь поближе:
— Вот вы говорите, говорите... А я недавно заглянул в столовую, знаете, как там кормят?..
Или:
— А вот, например, автобусы... Попробуйте проехать утром! Ведь люди опаздывают...
Или:
— Представьте себе, в городе нет апельсинов, то есть в городе они есть, но их нет на прилавках... Но я ведь видел своими глазами: несут... А откуда... я вас спрашиваю?..
— А откуда? — громко переспросил его Курганов, подняв голову от стола.
— Из главного гастронома,— сказал Политанский с осторожной улыбкой.— Из главного гастронома... Только не с прилавка, а оттуда, куда нас с вами, дорогой Миша, не пустят...
— А вы видели? — сказал Курганов.— Вы сами видели? Что же вы...
— А что я?..— сказал Политанский.— Что же я?.. Ну кто меня станет слушать?
— Как это — кто? — вспыхнула Надя.— Если наша газета,..
— Да,— сказал Политанский грустно,— да, конечно, ваша газета... Вы не подумайте, я очень люблю вашу газету, это очень хорошая газета. Но — поймите меня правильно — ведь ваша газета не может даже для себя добиться подходящего помещения. Даже для себя...
Мы ему все объяснили в тот раз. Мы ему втолковали, что город строится, что помещений не хватает под детские сады, школы и ясли, что редакция может потерпеть, что автобусный парк за последний год вырос на полсотни первоклассных автобусов, что по столовым мы вскоре проведем рейд. Мы ему все втолковали, мы не выбирали эпитетов, мы называли его и обывателем, и... Но когда он ушел, мы подумали, что ведь и правда, с транспортом у нас плохо, в столовых воруют, из-за чего же мы, в чем не согласны мы с Политанским?..
Но всякий раз мы схватывались с ним, не знаю, почему, что-то нас в нем дружно раздражало — то ли какое-то кислое, нудное озлобление, то ли это «а что я могу», то ли проскальзывающий иногда потаенный намек на то, что он знает нечто такое, чего мы пока не знаем...
А что он знал такого, чего мы не знали?
Мы и сами многое знали, но делали, что могли!
Делали порой прямо после раздраженного спора с ним — так это получилось, например, с Мишей Кургановым...
Надо сказать, Политанский не был обидчив. На другой же день он снова являлся к нам как ни в чем не бывало, пожимал руки, выкладывал очередную информацию и, подсаживаясь к Наденьке Вахромеевой, говорил, глядя на нее снизу вверх:
— Хотите, Надюша, я вам кое-что расскажу?
— Да,— говорила Надя, поджимая свои полные спелые губы.— О чем же?
— Только не подумайте, что я говорю неправду. Честное слово, даю вам честное слово, сегодня я видел вас во сне...
— Какие глупости! — говорила Надя, опуская ресницы и пунцовея до выреза на блузке.— Извините, но у меня много работы.
Политанский возвращался на диван.
Курганов пыхтел сигаретой, пытаясь создать вокруг себя непроницаемый дымовой заслон, рвал и заталкивал в корзину начатые листы, потом сдергивал с вешалки свой кожаный плащ и уходил из редакции. Плащ ему когда-то подарил дядя, и он был очень длинным, широким, истертым, тощее тело Курганова болталось в нем, как язык в колоколе, но отдаленно все-таки Миша напоминал нам комиссара эпохи гражданской войны.
Он уходил на целый день, уезжал на стройку или лез в шахту, а потом обрушивался на меня:
— Где ты откопал такого типа? Я не могу при нем работать!
Надя с наивным ужасом округляла глаза:
— Мальчики, я вчера посмотрела на него — и представила себе такую страну... Политанию. Там сыро, мокро, никогда не бывает солнца и по грязи ползают страшные скользкие чудовища. Политаны... И живут они в пещерах, глубоких, узких, темных пещерах. Вы представляете?..
И вот один из них выползает из своей пещеры и приходит к нам. Бр-р-р!..
Я чувствовал себя виноватым. Хотя — в чем? Забавно: все мы чувствовали себя в чем-то виноватыми перед ним. Не это ли заставляло нас так добродушно относиться и к его появлениям, и к его попыткам, таким неуклюжим, сблизиться с нами?
Но в самом деле, кем он был? Откуда?
Однажды мы, как обычно, всем скопом разбирали статью в свежем номере «Юманите».— «Позвольте мне»,— смущенно попросил Политанский. Он перевел ее всю, без единой запинки, мы слушали его тоненький, готовый вот-вот сорваться от волнения голосок, слушали, удивленно притихнув. У него был очень чистый выговор, а грассировал он с небрежностью почти парижской.
— Мне всегда легко давались языки,— сказал он мне после,— я ведь в школе преподавал...
— Почему же вы ушли из школы?
— Я не мог,— сказал он грустно.— Я очень мучился — и не мог. Дети... Вы ведь знаете, они какие? Они не хотели меня слушать...
Пожалуй, я мог бы и не спрашивать. Я мог бы просто представить себе эту маленькую, напряженно озирающуюся фигурку с журналом в руке — перед бунтующим, неудержимым шквалом насмешек, сарказма, бессмысленного и жестокого озорства крепких, ловких, недоступных длительной жалости ребят... И его голосок, заглушенный, неслышный в общем шуме, его растерянность. Может быть, жалобы директору, доносы — единственное оружие слабого... Унизительные разбирательства... Взаимная, все обостряющаяся месть... Пока, наконец, он не понял, что не родился педагогом. А скорее — пока ему, стараясь щадить самолюбие, прямо не объявили об этом.
Теперь он вел в каком-то Доме культуры выразительное чтение, вел кружок, ставил какие-то пьески. Его черный костюм, который он носил с такой аккуратностью, ботинки, пальто, галстучек в белую крапинку, туго повязанный на шее,— все это было потерто, зачищено до блеска, и портфель, в котором носил он книги по декламации, томики классиков с закладочками, репертуарные сборнички,— портфель тоже был старым, кожа на нем потрескалась и облупилась.
Кажется, у него была семья — жена, дети,— наверное, была, и к нам он ходил потому, что хоть и жалкие гроши, но что-то он получал за свои информашки,— и все-таки, мне кажется, не ради информашек только ходил он, не ради них просиживал на диване и час, и два, и три, не ради них заговаривал с каждым,— не мог ведь он не чувствовать того легкого презрения, которое сквозило в нашем обращении с ним, и все-таки он ходил, и однажды я подумал, что, наверное, чувствовал себя вот так и я, когда, студентом, забредал в столовую без копейки в кармане, чтобы, делая вид, что читаю газету, как бы в увлечении, забывшись, как бы между прочим, съесть пару кусков хлеба, кем-то оставленных на тарелке.
Но мы были молоды. Мы сами штопали свои свитера захватывающих дух расцветок, мы занимали у машинисток на обед и снимали угол или комнату на двоих у куркулей, присчитывающих за ночное освещение. И если мы все-таки терпели Политанского, то причиной этому были никак не его поношенные штаны.
Мы были молоды, злы и лишены всякой сентиментальности. Но мы жалели его — той брезгливой, виноватой жалостью, которая возникает у здоровых людей к уроду или калеке.
Иногда мне вдруг хотелось наорать на него. Взять и трахнуть кулаком по его сутулой, съежившейся спине. Вывести его из себя. Чтобы он выпрямился, развернул плечи, оскорбился, наконец, чтобы в его глазках на мгновение хоть вспыхнули гордость и ярость.
— Слушайте,— сказал я ему однажды,— чего вы боитесь?
Узенький лобик его пересекли тонкие частые морщинки, он испуганно — снизу вверх — посмотрел на меня.
— Боюсь? — пробормотал он удивленно.— Я ничего... Ничего не боюсь...
— Боитесь! — сказал я.— Вы умеете сердиться? Негодовать? Ну вот взять и стукнуть по столу так, чтобы с него соскочила чернильница?
— Вы чудак...— Он зажмурился и рассмеялся меленьким, рассыпающимся своим смешком.— Ну на кого же мне, как вы говорите, злиться?..
Я пожалел, что затеял этот разговор.
Однако Политанский вскоре сам вернулся к нему.
Кончался рабочий день, я уходил из редакции.
— Можно мне проводить вас немного? — спросил он, когда мы спускались с крыльца.
Тянулась глухая, зябкая осень, сплошным туманом висел дождь, мы скакали с кирпича на кирпич по расплывшейся улице с остовами возводимых домов. Когда мы выбрались на улочку посуше, с тротуаром, Политанский сказал:
— Знаете, я ведь не забыл о ваших словах. Я долго думал... Действительно, вы правы, я, наверное, очень робкий...
На этот раз я молчал. Я боялся вспугнуть его каким-нибудь неловким словом. И он молчал тоже. Грязь со смаком чавкала у нас под ногами, ее жирные брызги шлепались на портфель, который Политанский тащил, едва не волоча по земле.
— Знаете,— сказал он наконец, — вы очень молоды... И вы, и ваши товарищи. Да. Вы родились... Вы живете в другое время. Вы...— Он остановился и настороженно осмотрелся. На улице никого не было, только вдали, сквозь туман дождя, скользили чьи-то зыбкие силуэты, пропадая за углом.
И вот я чувствую на щеках его дыхание, но говорит он так тихо, что я едва разбираю слова, и у меня все плывет, плавится перед глазами, только зрачки Политанского, огромные, черные зрачки летят на меня.
— Вам этого не понять... Но ведь это же было, было... Я ведь так хорошо помню... Когда снова приходит ночь, и я стою у окна и жду. И так вторую ночь, и третью, и пятую. Я уже могу спать только днем, ночью я лежу, не смыкая глаз, или стою у окна. Я даже сидеть не могу, я стою и жду, и мне хочется, чтобы скорее это случилось, потому что я уже не могу ждать... Чтобы только скорее... Вы понимаете? Рядом со мной жил врач... Этажом выше — секретарь райкома... И вот их... Вы понимаете? И мне уже хочется самому пойти туда и сказать: ведь я ни в чем не виноват, зачем же вы меня так мучите, зачем заставляете столько ждать?..
Мелкие капли бегут по его лицу, серому, как дорога. В глазах зияет тоскливая пустота.
— И вас...
— Нет,— говорит Политанский,— меня не тронули.
Он кажется еще меньше, чем всегда,— Политанский,— маленький, съежившийся, дрожащий от внутреннего холода человек. Я смотрю на него, но почему-то представляю себе другое: представляю себе того секретаря райкома, почему-то в такой кожанке, как у Миши Курганова,— врача, мне кажется, почему-то курил он трубку, как наш редактор, и был так же мягок, деликатен и русоволос... Я представляю себе их и еще кого-то, и внезапное озлобление охватывает меня:
— Но вас-то... Но вы-то!..— почти кричу я, и Политанский хватает меня за лацкан пальто, и озирается по сторонам, и шепчет задушевным шепотом:
— Ради бога... Я прошу вас... Тише, ради бога, тише!
Быстро и незаметно на город падают вязкие сумерки, мерцающие огни загораются в окнах, сырость заползает в рукава, сочится за воротник, а мы все ходим по узенькой улочке, до угла и обратно, до угла и обратно.
— Да,— говорит Политанский,— да, конечно, вы правы, я сам это знаю. Столько несправедливого есть на свете. Столько... Я ведь знаю, я ведь вижу. Наш директор, например... Он тащит к себе из Дома культуры мебель, ковры, а нам нужны декорации, и у нас их нет...— И с неожиданным смешением горечи, жалобы и удивления произносит: — Меня ведь так много обижали...
Какой он маленький, наш Политанский... Маленький, невзрачный, беззащитный... Да, его обижали много, часто, замечая и не замечая,— случайные встречные в автобусах, затирая жесткими спинами; ученики в бушующем классе; коллеги-учителя, посмеиваясь над ним; мы сами... Даже теперь, когда идет он рядом со мной и мне хочется обнять его, отогреть, защитить, как брата,— даже теперь я обижаю его жалостью, хотя он и не замечает этого, хотя он сам этого просит... И снова и снова я взрываю себя, свою мокрую, жалкую жалость, и снова я говорю:
— О дьявольщина! Кому нужны информации, которые вы нам носите? Кому? Напишите о чем-то стоящем, ну хотя бы о своем кружке, например, о том, что у вас нет декораций, а директор — хапуга и скотина!
— Но чего я добьюсь? — говорит он грустно.— Меня уволят, и все останется по-прежнему... Чего я добьюсь?
— О дьявольщина! — рычу я опять.— О дьявольщина. Политанский! Вы говорите — несправедливость... Но ведь самая-то главная несправедливость — это что хапуга и мерзавец смело ходит по этой вот улице, а вы трясетесь и говорите мне: «Тише!» Даже если вы ничего не добьетесь, как вы говорите, вы добьетесь самое меньшее — того, что скажете мерзавцу, что он мерзавец, и почувствуете себя человеком! Разве это так мало для вас — почувствовать себя человеком?
— Нет,— говорит он и ежится,— нет, это не мало... Ах, это совсем не мало...
— Так в чем же дело? — говорю я.— Так в чем же дело? Ну, хотите, для первого раза напишите о чем-нибудь другом, а об этом напишу я сам и докажу вам, что такое — наша газета! Наша газета! — говорю я. — Наша газета! — И на миг я вижу, как мы сидим у редактора в кабинете, на летучке,— на обычной, еженедельной летучке, которая всякий раз затягивается на добрых три часа,— как мы дымим сигаретами, как мы вскакиваем,
перебивая друг друга, как мы хохочем — я вижу на мгновение всю нашу боевую когорту — толстяка Толмачева, тихого Кима, медлительного и точного Габдуллу, всегда готовую вспылить или вспыхнуть Наденьку Вахромееву, неунывающего остряка Леву Цыпкуса, пронзительно-ядовитого Мишу Курганова, спокойного, умного и осторожного нашего редактора, который старше и опытней нас всех, которому двадцать восемь лет,— я вспоминаю все это и верю, что когда мы все вместе — мы, наша газета, несмотря на свой малый формат,— мы непобедимы!
— Вы знаете, что такое — наша газета? — говорю я.— Наша газета?..
— Хорошо, я подумаю...— говорит он, помолчав. Я подумаю.— Он чувствует мое недоверие.— Я подумаю,— говорит он.— Нет, правда же, я подумаю. И может быть, что-нибудь напишу... Только не требуйте от меня, чтобы я сразу... Но я подумаю...
И через два дня снова кладет мне на стол короткую информацию.
Но однажды...
Я теперь уже не помню, с чем именно это было связано, что, собственно, так повлияло на Политанского,— да это и не важно, в конце концов. Может быть, наш разговор под дождем, может быть, насмешливые взгляды Наденьки, может быть, вся атмосфера нашей редакции, в том числе и два выбитых Мишиных зуба,— тогда Политанский особенно явно почувствовал, что нельзя и дальше оставаться как бы вместе с нами — и отделываться информашками на подверстку и застенчиво-сладостными улыбочками из угла дивана.
А случилось вот что.
Некоторую часть своего рабочего (да и не только рабочего) времени Миша Курганов посвящал прогулкам вдоль двора, на который выходили задние двери одного из крупнейших в городе магазинов. Кроме грузовых машин, сюда часто подъезжали «Москвичи» и «Волги». Пока Миша разговаривал с шоферами и угощал их отличными болгарскими сигаретами «Дерби», в машины крупными партиями грузили дефицитные продукты. Когда «Волги» и «Москвичи» элегантно разворачивались, Миша провожал их долгим взглядом и запоминал номер. Вскоре от дежурства во дворе Миша перешел к более интимному знакомству с администрацией магазина и ее широкой и разнообразной деятельностью. Он убедился, что номерные знаки — только деталь, частность, хотя и бросающаяся и глаза. То, что в глаза не бросалось, а совсем наоборот,— находилось где-то между пятью и десятью годами тюремного заключения, если верить уголовному кодексу, который Миша Курганов из профессионального любопытства не преминул полистать. Однако директор магазина был уверен в себе и в своей популярности среди номерных знаков, поэтому, тронутый видом Мишиной шинели образца восемнадцатого года, он, разумеется, с глазу на глаз — ласково и в то же время деловито предложил Мише взятку, предложил так, что Курганов только спустя час после беседы сообразил, о чем, собственно, велась речь. Однако для неотразимого фельетона ему не хватало кое-каких фактов, и он как раз об этих фактах размышлял, когда поздним вечером какие-то странные личности, то ли в самом деле пьяные, то ли притворявшиеся пьяными, подкараулив его у самого дома, выбили ему два зуба и вдобавок порвали знаменитую комиссарскую шинель. Миша не заметил в темноте нападавших, но запомнил, что деловитый и заботливый директор популярного магазина между прочим намекал на какие-то неприятности, которые иной раз случаются с молодыми фельетонистами.
На другой день трубный клич «К оружию!» грянул над редакцией. Телефонные трубки касались рычажков, чтобы сейчас же взлететь к чьим-нибудь губам. Двери хлопали, едва не срывая косяки. Мы стягивали силы «легкой кавалерии», поднимали ОБХСС, дружинников, общественных контролеров. Миша Курганов плевал розовой слюной и высвистывал «Марсельезу».
Среди всего этого шума, звона и рыка потерянно слонялся Политанский. Он все порывался сходить в аптеку за кровоостанавливающей ватой и раздобыл где-то — специально для Курганова — две пачки невиданных японских сигарет. В этот день он принес информацию о лекции на тему «В человеке должно быть все прекрасно», состоявшейся в каком-то клубе, но даже не протянул мне, а сунул в ящик стола, бормотнув: «Как-нибудь потом вы посмотрите...» Он пытался выразить сочувствие потерпевшему и принять участие в грозной суете, но всем только мешал, и все-таки не уходил, испуганно и робко появляясь то в машбюро, то в кабинете редактора, где по всем правилам военного искусства разрабатывался план разведки боем и следующего за ней генерального сражения.
Мне, как и всем, было не до него — ни в тот день, ни назавтра...
А потом он пришел к нам опять и с медлительностью, в которой ощущалась некоторая торжественность, достал из портфеля лист бумаги стандартного формата и молча положил передо мной.
Он бы не был, однако, Политанским, если бы утерпел, пока я дочитаю до конца. Поерзав на стуле, он сказал, едва я пробежал несколько строк:
— Видите, я все-таки решился.
Да, он действительно решился.
То есть, если бы я не знал Политанского, я и внимания бы не обратил на эту заметку — ежедневно мы получали десятки подобных,— но в том-то и дело, что я знал Политанского, знал, чего она стоила ему.
В заметке не было ни слова о директоре Дома культуры. В ней просто говорилось, что кружковцы — ребята с завода горно-шахтного оборудования — поставили своими силами пьесу, и вот теперь у них нет ни декораций, ни костюмов. И все. Конечно, даже не косвенный, а прямой упрек дирекции тут содержался, но столь робкий, столь нерешительный, что гневной инвективой здесь и не пахло. И все-таки... Все-таки!..
Я вычеркнул три первых абзаца, в которых толковалось о значении самодеятельности вообще, придумал хлесткий заголовок и положил материал на машинку.
Политанский разгуливал по редакции в тот день почти не сутулясь, разговаривал со значительным и несколько таинственным видом, и на него посматривали удивленно, а когда он выходил в соседнюю комнату — посмеивались и острили. Он и вправду был немного смешон, особенно, когда, остановившись около Курганова, дописывавшего фельетон, советовал, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть через плечо:
— Вы их покрепче, Миша, покрепче! Вы их разделайте как следует!.. Подумайте, бесстыдство какое!
Он постоял перед Наденькой, помолчал, и когда она, нетерпеливо дернув плечиком, посмотрела на него, заложил руки за спину и сказал:
— Вот так, милая Надюша, вот так!
— Что с ним творится? С нашим Политанским? — встревоженно спросила она, поймав меня в коридоре.
— Надо верить в людей, старушка! — ответил я злорадно.— Надо верить!
Когда принесли отпечатанную на машинке заметку, Политанский прочитал ее раза три с первой строчки до последней.
— Вам нравится, как написано? — спросил он.
— Гораздо лучше, чем все, что вы приносили раньше.
— Да,— сказал Политанский.— Да. Я и сам это чувствую.— Он нахмурился.— Знаете, что он мне ответил, когда я ему сказал, что нам требуются костюмы и декорации? Он мне сказал: «Не морочьте мне голову всякими пустяками!» И это после того, как мы полгода работали, и ребята прибегали на репетиции прямо со смены, даже не успев поесть... Вы понимаете?.. И он говорит: «Не морочьте мне голову всякими пустяками!». Ведь это же безобразие? Ну, как вы думаете, это не безобразие?
— Я думаю, что это безобразие.
— Вот именно! И он — знаете, на что он надеется? Он надеется, что Политанский все стерпит! Что Политанский и его ребята все стерпят, а он по-прежнему будет себе крутить танцы и перевыполнять план! Вы понимаете?
«Политанский негодует» — вот как назвал бы я этот день. Даже прилизанные его волоски как-то поднялись хохолком на затылке, и было оскорбленное что-то, взъерошенное и серьезное в его фигурке, и только заметив посмеивающиеся взгляды вокруг, он на секунду подбирался, как вспугнутая улитка, и тут же снова — и еще громче и сердитей — начинал негодовать, и голосок его, и без того тонкий, резал всем уши.
Правда, его несколько покоробил заголовок, он долго не сводил с него глаз, и я ощущал, какая жестокая борьба разгорается в нем в ту минуту — жесточайшая!
Ведь в самом деле, я превосходно понимал, как, может быть, воспримут эту маленькую заметку там, в небольшом коллективе, где он работал. Как, может быть, его директор, хам и хапуга, но — перевыполнение плана! — на хорошем счету у начальства, как он обрушится на него, обвинит в доносительстве, наушничестве, подрыве авторитета и черт знает в чем еще,— или даже не обвинит, а — еще хуже — начнет строить всякие козни, мстить мелко и умело, а потом не столь уж трудно будет изобрести предлог и подвести его под, скажем, сокращение штатов; как вся жизнь его может перевернуться опять — и из-за чего? На сей раз из-за заметки, которую написал он сам... Ведь вот на что он шел и понимал, на что идет, и я понимал тоже, и даже не на другой день, когда он появился, чтобы забрать свою заметку, а в тот самый раз, когда он только принес ее, когда перечитывал ее вновь и вновь и все застревал на заголовке и слегка поеживался весь, поеживался и мутнел глазами,— а тот раз уже мне захотелось отдать ему заметку обратно.
Но я слишком верил в газету. Я верил в газету, и мне все мерещился тот Политанский, который вошел в нашу редакцию два месяца назад,— жалкий, маленький, невзрачный человечек, пришибленный, раздавленный своей немощью, слабостью, ничтожностью,— он мерещился мне рядом с тем Политанским, которого я теперь видел,— и я сказал ему что-то про заголовок, и он согласился со мной даже без всякого спора, согласился, почти устыдившись накативших внезапно на него сомнений, и только спросил:
— А когда она появится, моя заметка?
— В воскресенье,— сказал я.— Через три дня.
Собственно, вот с этого-то места и должен был я
начать свой рассказ. О том, как он появился у нас в первый из трех дней, встревоженный, озирающийся, весь налитый беспокойством, и от каждого слова, от каждого взгляда весь он вздрагивал, как будто по раскрытой, сочащейся сукровицей ране внезапно проводили наждаком.
— Я хочу попросить у вас обратно мою заметку,— очень тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.
— Зачем? — сказал я.— Что случилось?
— А если меня уволят?..— сказал Политанский совсем тихо.
— И прекрасно,— сказал я.
Он посмотрел на меня тупым, затравленным взглядом.
— Вы смеетесь надо мной,— без всякого выражения сказал он.
— Наоборот. Если директор задумает вам мстить, он выдаст себя с головой. Тогда-то и вмешается наша газета.
— Не надо,— сказал он устало.— Ничего не надо. Лучше просто верните мою заметку.
— Стыдитесь, Политанский! — закричал я, вскакивая со стула.— Стыдитесь!..
— Да,— сказал Политанский,— я вас понимаю, и мне стыдно. Но и вы меня тоже поймите. Я сегодня не спал всю ночь. Сначала я заснул, а потом будто меня разбудил кто-то — потом я проснулся и до утра не смыкал глаз.
Я ничего не могу делать из-за этой заметки. Я очень прошу вас — верните мне ее.
— Да что вы такое, в конце-то концов, написали? Что вашему кружку нужны декорации и костюмы? Ну разве вы не понимаете, что это пустяк...
— Все равно,— сказал Политанский,—верните, не мучьте меня...
— Конечно,— вмешалась Надя,— верните заметку товарищу Политанскому, как-нибудь уж мы обойдемся и без этой заметки.
— Правильно,— сказал Политанский,— правильно, Наденька. А я вам принесу что-нибудь другое... Для замены...
Но Миша Курганов свистнул сквозь прореху во рту, и Политанский замолк.
Он все-таки не взял обратно заметку в тот день. Когда он уже держал ее в своих руках, и мы, уже не обращая на него внимания, как бы не замечая его, заговорили о наших делах,— он вдруг сказал, обращаясь ко всем сразу:
— Так вы думаете, это не будет иметь дурных последствий?
— Будет,— сказал Миша.— Будет обязательно. Директор даст вам то, что вы просите. Это и будет самым дурным последствием вашей заметки. Но лучше возьмите ее. И пусть ребята играют без костюмов и декораций.
Политанский помолчал, колеблясь, и неуверенно положил заметку на мой стол.
Когда на другое утро я подходил к редакции, он уже стоял у двери, дожидаясь. Лицо его не то что пожелтело,— оно потемнело, землистый покойницкий оттенок лежал на его щеках, нос заострился, глаза глубоко запали. Молча прошел он следом за мною в нашу комнату и, не садясь, глухо сказал:
— Я прошу вас ни о чем не говорить, не уговаривайте — верните мою заметку.
— Она уже заслана в типографию,— сказал я.— Поздно. Я не могу вам ее вернуть.
— Все равно,— сказал он.— вы не хотите мне ее вернуть.
— Да,— сказал я,— не хочу.
— Отдайте мою заметку,— сказал он, тяжело дыша.
— Не отдам,— сказал я.
— Как это — не отдадите?..
— А вот так: не отдам — и все. Возьму — и не отдам. Понимаете? Не отдам!
Он опешил.
— Послушайте,— забормотал он,— послушайте... Вы мне... Я вам... Вы должны мне вернуть... Или обещать...
— Я обещаю, что не верну вам этой заметки.
— Послушайте...— сказал Он. Голос у него вздрагивал.— Послушайте...
Я был жесток в ту минуту. Мне хотелось привести его в ярость. В ярости человек забывает о себе. Обо всех «зачем» и «что получится». Я хотел, чтобы он хоть раз ощутил вкус этого чувства. Оно требует повторения.
Но я увидел Политанского в таком состоянии лишь на следующий день, в последний из трех, в день субботний.
Меня вызвал к себе наш редактор.
В кабинете сидел Политанский.
Теперь он был бледен, глаза его сверкали злым, колючим огнем. Он поглаживал по голове маленькой своей лапкой, хоть волосы у него и без того лежали гладко, волосок к волоску. Но по этому движению, по дрожанию его кисти я видел, как он возбужден.
— Слушайте,— сказал редактор,— я ничего не понимаю... Товарищ жалуется, что вы его заставляете... Издеваетесь над ним... Что он не хочет...
— Да, не хочу! — крикнул Политанский, соскакивая с кресла.— Я честный человек, и вы не имеете права...
Он покраснел. Кулаки грозно сжались. Но в глазах — я это отчетливо видел — корчился страх.
Он ушел из редакции с заметкой в портфеле. Но в его походке не было торжества. Он уходил, сутулясь больше обычного, быстрым, крадущимся шагом, спрятав голову в плечи,— я наблюдал за ним сквозь окно, когда он пересекал двор, заплывший грязью,— я видел его тогда в последний раз. Больше он никогда не появлялся в редакции.
— Уполз обратно в свою Политанию,— сказала Надя.
...Я ни разу не встречал его в городе, хотя, наверное, он здесь жил, ходил по тем же тротуарам, мимо тех же домов, Я не видел его ни разу все эти годы, но почему-то не могу забыть о нем, почему-то иногда мне нет-нет, да и покажется, что вот он мелькнул где-то на улице, в толпе... Что вот он рядом, совсем рядом... Может быть, во мне самом.
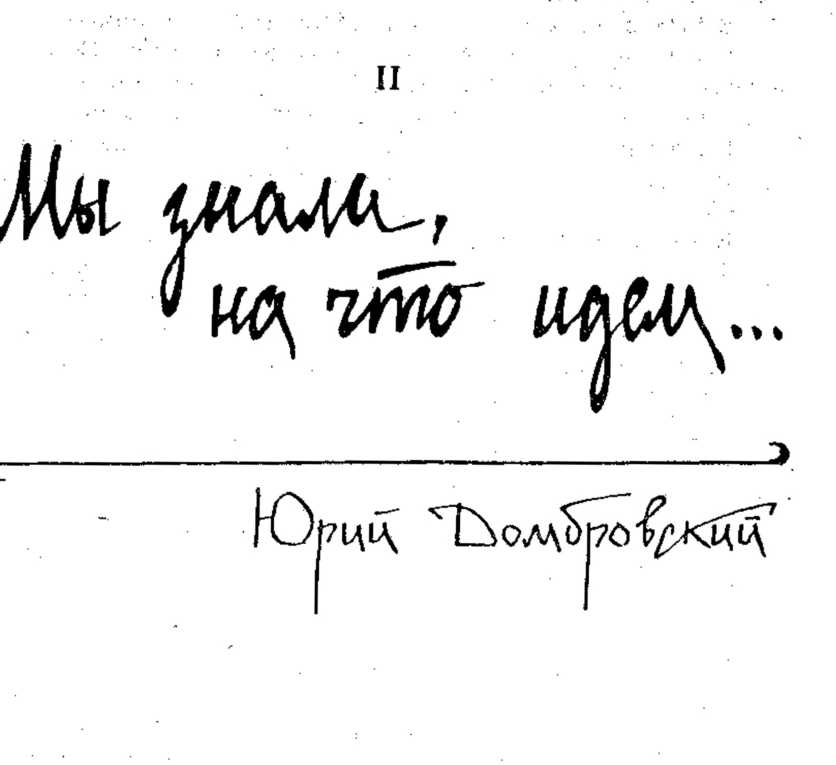
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.