XIII НОЯБРЬСКАЯ ДРАМА
XIII
НОЯБРЬСКАЯ ДРАМА
1 ноября 1836 года Пушкин читал у Вяземского свой новый роман «Капитанская дочка». «Много интереса, движения и простоты», сообщал на другой день Александру Тургеневу Вяземский. Сын его, Павел Петрович, в то время шестнадцатилетний юноша, никогда не мог забыть того «неизгладимого впечатления», какое произвела на него «Капитанская дочка» в чтении самого автора.
Это было действительно крупнейшее литературное событие. Народился первый русский роман европейского значения. Пушкин со свойственной ему чуткостью к большим течениям современной литературы дает в своей хронике опыт художественного воссоздания русского прошлого на основе романической поэтики Вальтера Скотта, но с учетом национальных особенностей своей темы. Для создания большого эпоса о народной революции в России XVIII века он воспринимает основные конструктивные черты новейшего западного романа и сразу достигает высоты его лучших образцов. Помимо самого основателя жанра, Пушкин прекрасно знал и его обширную «школу», хотя и не во всем признавал ее достижения. «Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей, — писал Пушкин в 1836 году, — но как они все далеки от шотландского чародея». И все же некоторые исторические романы двадцатых годов, как «Обрученные» Манцони и «Хроника времен Карла IX» Проспера Мериме, заслужили его хвалебную оценку.
Превосходный роман Мериме наиболее отвечал повествовательной манере Пушкина. В нем не было избытка декоративной живописи, столь характерной для «Собора парижской богоматери», ни изысканности «Сен-Мара» Виньи, ни археологической перегруженности Вальтера Скотта. Но зато с замечательной силой здесь было развернуто на материале событий Варфоломеевской ночи искусство концентрировать изображение, очерчивать сложную ситуацию в нескольких строках и выражать целый характер в одном слове.
Опыт новейшего европейского романа вел Пушкина к углубленному раскрытию родной старины в сжатых и четких зарисовках. Принцип предельного лаконизма и высшей выразительности лег в основу «Капитанской дочки».
Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных средств и большей эмоциональной насыщенностью. Как и в отношении Байрона или Шекспира, здесь имело место глубокое преображение образца. В «Капитанской дочке» интимно-исторический рассказ сочетается с русской политической хроникой и дает широкую картину эпохи в ее домашних нравах и государственном быту: вымышленные образы, герои фамильных записок, неизвестные представители провинциальных семейств соприкасаются с такими фигурами, как Пугачев, Екатерина II, оренбургский губернатор Рейнсдорп, пугачевцы Хлопуша и Белобородов (по планам в состав персонажей вводились еще Орлов и Дидро).
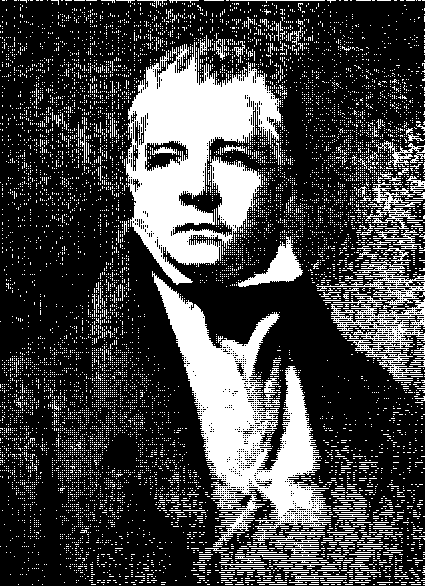
Вальтер Скотт (1771 — 1832).
«Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста» (1830)
Мастерски взят основной тон повествования, с первых же строк увлекающий читателя Пушкин высоко ценил Вальтера Скотта за его дар раскрывать прошлое без малейшей торжественности — «домашним образом». Именно к этому он стремился в своем изображении русского XVIII века, ставя себе задачей показать его не на высоких подмостках классической трагедии или официальной истории, а сквозь черты патриархальной семейственности с ее теплотой и наивностью. Отсюда ряд исполненных прелестного юмора черт старинного быта (гувернера Бопре выписывают из Москвы «вместе с годовым запасом вина и прованского масла») и благодушно комических сцен в гостиной Гриневых и в столовой Мироновых (где офицеров берет под арест комендантша с помощью Палашки, относящей шпаги в чулан). Жанровые изображения «внутренних помещений» с деталями русских лубочных картинок здесь предшествуют широкому историческому полотну. Медовое варенье Авдотьи Васильевны и мотки оренбургской шерсти Василисы Егоровны подчеркивают тот характер «семейственных записок», на который неоднократно указывает читателю автор. В этом духе выдержано и спокойное заглавие повести, заимствованное из офицерского романса и нисколько не возвещающее основную трагическую тему и грозный рост развертывающихся событий. Эта же нота звучит и в эпилоге («потомство их благоденствует в Симбирской губернии…»).
Из такого идиллического обрамления фамильной группы бурно выступает картина крестьянской революции XVIII века. Отдельные эпизоды — приступ, мятежная слобода, пловучая виселица, казнь Пугачева — дают в резких фрагментах ощущение политического события в его грандиозном целом. Пушкин снова проявляет себя замечательным историческим портретистом, с исключительной экспрессией и сжатостью рисующим героев прошлого. Незабываемый внешний облик Пугачева выступает в двух-трех штрихах: «Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза». Длинные седые волосы и полинялый мундир времен Анны Иоанновны дают полное представление о наружности генерала Рейнсдорпа. Та же выразительность в портретах Хлопуши, изувеченного башкирца, Екатерины, та же характерная сжатость в «жанровом» изображении яицкого войска и кочевых наездников. Пейзаж здесь намеренно снижен и упрощен: «печальные пустыни, пересеченные холмами», крутой берег Яика, киргизские степи, овраги Бердской слободы, «бедные мордовские и чувашские деревушки». Точные этнографические описания воссоздают скудные черты унылой и бедной природы восточных окраин России.
Тщательное изучение материала и темы сообщает исключительную убедительность главным характеристикам. Несмотря на критическое отношение Пушкина к крестьянской революции (в этом вопросе он не мог преодолеть в себе писателя-дворянина и подняться над воззрениями своего класса на пугачевщину, как на «бунт бессмысленный и беспощадный»), он дает все же верную и глубоко сочувственную характеристику самого Пугачева, изображая его одаренным, смелым, умным и великодушным вождем народного движения; личность его вызывает в Гриневе сильнейшее влечение и «пламенное желание» спасти его. Пушкин-художник здесь явно преодолевает политика и публициста. Чувствуется, что поэт сжился в своих долголетних раздумьях с этим мощным народным образом, к изучению которого он обратился еще в годы своей ссылки и о котором тогда уже творчески мыслил (еще в декабре 1826 г. он говорил М. Н. Волконской, что задумал сочинение о Пугачеве). Долгий труд вызвал прочную симпатию к герою. Невозможно переоценить то глубокое сочувствие, с каким написан Пушкиным великолепный исторический портрет предводителя народной вольницы, обреченного дворянской Россией на смертную казнь, церковную анафему и моральное ошельмование.
С таким же мастерством обрисован представитель другого слоя старой России — капитан Миронов. Незаметный и чуть смешной в обычном быту, он вырастает перед лицом военной опасности в героя долга и присяги: он выполняет свои обязанности не только честно и беззаветно, но умело и искусно. Все комические черты образа сразу отпадают, когда на валу осажденной крепости перед нами выступает во весь рост старый вояка, ясно понимающий стоящую перед ним задачу и безошибочно разрешающий ее. «Докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!..» Он проявляет подлинный героизм в критический момент сражения, когда идет на вылазку и верную смерть во главе гарнизона, готового бросить ружья. Пушкин в его лице воздает высокую хвалу тем скромным армейцам, которые, по замечательной характеристике В. О. Ключевского, «не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века» и вместе с русскими солдатами самоотверженно вынесли на своих плечах дорогие лавры знаменитых полководцев.
В образах молодых офицеров, вовлеченных ходом событий в крестьянскую революцию — Гринева и Швабрина, — Пушкин стремится разрешить издавна привлекавшую его проблему деклассированного и мятежного дворянина — декабриста Якубовича, Дубровского и, наконец, ряда исторических лиц, замешанных в пугачевском движении, — Шванвича, Башарина, Буланина, исторического подпоручика Гринева. Если в художественных образах и романическом действии эта сложная проблема, вызывавшая к себе и в самом Пушкине противоречивое отношение, не нашла окончательного разрешения и четкой формулы, то в «Капитанской дочке» она поставлена с замечательной широтой и проведена с глубоким жизненным драматизмом.
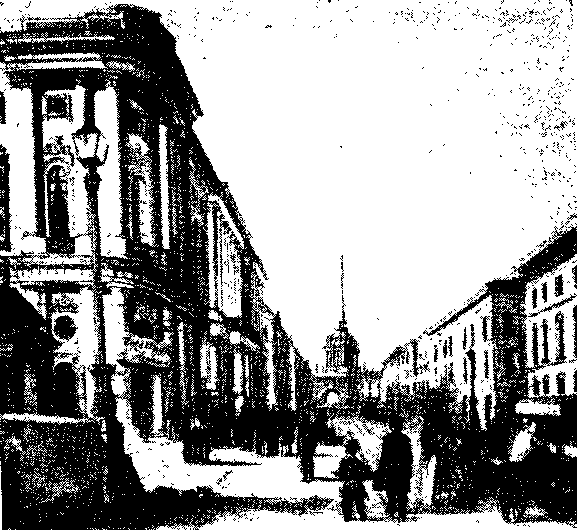
Вид Невского проспекта с Полицейского моста.
Старинная литография.
На всем протяжении романа эта основная тема окрашивается обычным для Пушкина восприятием родной истории сквозь события и образы собственной родословной. Отставка в 1762 году старика Гринева, служившего при Минихе, соответствует хронике рода Пушкиных, как и общая оппозиция к авантюристам и фаворитам эпохи императриц. В этом разрезе молодые поручики Белогорской крепости — Гринев и Швабрин — являют два типа русского дворянства — преуспевающий и приниженный, беспринципный и морально стойкий, «гвардию» и «армию» (как возвещает эпиграф к первой главе). У Гриневых незначительное поместье и бедное симбирское дворянство в прошлом, Швабрин — петербуржец, человек «хорошей фамилии и имеет состояние». Недоросля Петрушу обучают стремянный Савельич и парикмахер Бопре, его будущего соперника — профессор элоквенции и придворный поэт Тредьяковский. Гриневу милы простодушные мещанские романсы, Швабрин распевает арии французских опер. Но Гринев остается верен присяге и непоколебим в своем отказе служить мнимому Петру III, бывший же гвардеец служит только успеху и переходит с мгновенной поспешностью на сторону победившего Пугачева. «Проворен, нечего сказать!» заключает о нем попадья.
Таково новое противопоставление Пушкиных Орловым. Благородные и просвещенные Гриневы, способные оставить потомству увлекательные мемуары, обречены силою исторических судеб на материальную деградацию. Небольшое симбирское поместье елизаветинского премьер-майора в третьем поколении принадлежит уже «десятерым помещикам». Это последний иронический штрих, внесенный Пушкиным в столь волновавшую его картину упадка старинных исторических родов. На их долю еще остается преданность старых дядек («Савельич — чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести», писал Пушкину Одоевский в конце 1836 г.), их еще предпочитает ловким гвардейцам скромная Марья Ивановна. Блестящую галлерею пушкинских героинь завершает эта солдатская внучка и капитанская дочка, отражая в своем глубоко народном облике живые черты привлекательной и смиренной девушки Маши Борисовой, пленившей Пушкина осенью 1828 года в глухих Малинниках.
Для раскрытия подлинно народных истоков изображаемых событий и придания им соответственного освещения Пушкин обращается к излюбленному своему материалу — русскому народному творчеству. Высоко ценя фольклорную окраску вальтер-скоттовских сюжетов, он вводит в эпиграфику и в текст романа отрывки из солдатских и свадебных песен, сентиментальные романсы, калмыцкую сказку и, наконец, бурлацкую хоровую в знаменитой сцене, где зловеще звучит «простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице».
Одна из главных идей «Капитанской дочки», выраженная в словах Андрея Гринева — «пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести», открывает путь от романа к жизни его автора; она глубоко вводит в последнюю жизненную драму Пушкина. С каждым годом все сильнее сказывалась потребность поэта «бежать из Петербурга». Двор, царь, III отделение, цензура, церковь, министерства — нерасторжимым кольцом сомкнулись вокруг рабочего стола писателя, на котором не переставали расти рукописи о Вольтере, Радищеве, Пугачеве, вызывающие столько настороженности и вражды в официальных кругах. Тяжелым стоном звучит одно из последних стихотворений Пушкина: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит!..» Лейтмотив долголетних переживаний поэта приобретает здесь исключительную силу:
Давно, усталый раб, замыслил я побег…
Но осуществить его было нелегко. Пушкин был скован сложными отношениями с кредиторами и ростовщиками, своим придворным званием, государственной службой, великосветским бытом, «вниманием» Бенкендорфа и «ласками» Николая. Эта цепь оказалась нерасторжимой.
В каменной пустыне Петербурга, среди сплотившихся и тщательно замаскированных врагов только неутомимый творческий труд еще поддерживал Пушкина. Закончив «Капитанскую дочку», он продолжает усиленно работать, подготовляя к печати новые выпуски своего журнала. Предстоял выход четвертого тома «Современника». Незаметно и без шума Пушкин строил большое культурное дело и находил некоторую отраду от житейских невзгод в сочувствии его планам друзей-писателей и наиболее просвещенного круга читательской аудитории.
4 ноября 1836 года этот углубленный труд поэта-редактора был грубо прерван подлым ударом из-за угла,
Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. В тот же день несколько знакомых передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же гнусные дипломы на имя Пушкина.
Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды..
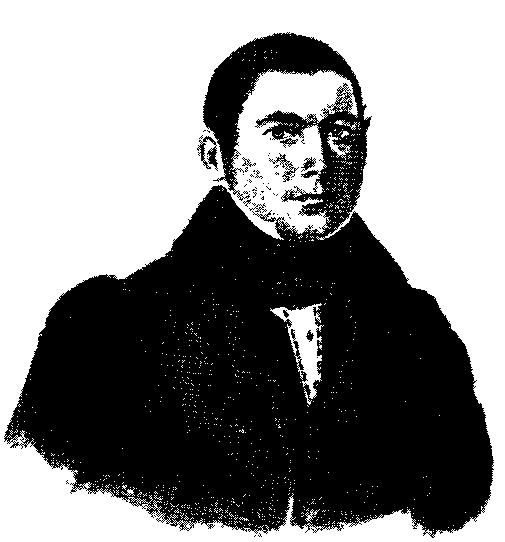
П. А Плетнев (1792–1862).
С портрета акварелью Градовского.
Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты.
(1827)
Но это оскорбление, нанесенное не только ему, но и его жене, необходимо было во что бы то ни стало отразить. Ему сразу стали ясны намеки, расшифрованные его биографами лишь через девяносто лет: скрытое указание на благосклонное внимание к его жене Николая I, заключенное в наименовании «достопочтенного гроссмейстера ордена Д Л. Нарышкина», то-есть мужа известной любовницы Александра I[82].
О такой безошибочной расшифровке поэтом политических намеков пасквиля свидетельствует письмо, написанное им через день после получения дипломов, 6 ноября 1836 года, министру финансов Канкрину. В нем Пушкин заявляет о своем твердом решении вернуть царю «сполна и немедленно» полученные от него сорок пять тысяч. При этом он просит министра не доводить дела до сведения Николая, который может простить ему весь его долг, что поставило бы Пушкина «в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости».
Через несколько дней Пушкин поделился со школьными друзьями — Яковлевым и Матюшкиным — своими последними неприятностями. Он показал им полученную анонимку: «Посмотрите, какая мерзость..»
Яковлев, около пяти лет управлявший типографией императорской канцелярии и разбиравшийся в сортах бумаги, тщательно рассмотрел подметный пасквиль, написанный на добротном и плотном листке без водяных знаков, и дал заключение: «Бумага иностранной выделки, а по высокой пошлине, наложенной на такой сорт, она должна принадлежать какому-нибудь посольству».
Вывод этот был целым откровением для Пушкина. Экспертиза Яковлева сыграла огромную роль в развитии дальнейших событий. Опираясь на нее, Пушкин сделал все неизбежные умозаключения: оскорбительный диплом исходил из голландского посольства, автор его — барон Геккерн. Этого мнения поэта уже ничто не могло поколебать. «Вид бумаги» фигурирует первым аргументом в официальном обвинении Пушкиным нидерландского представителя.
Но если материальный анализ оскорбительного патента указывал на голландского посланника, общественная молва связывала имена д’Антеса и Натальи Николаевны. Восстановить задетую честь мужа можно было, по тогдашним дворянским представлениям, лишь дуэлью. Пушкин послал вызов д’Антесу.
Повод для поединка оказался недостаточным. В тесном кругу заинтересованных лиц решено было добиться отказа Пушкина от вызова. Старый Геккерн, Жуковский, Загряжская, наконец, и приглашенный Пушкиным в секунданты Сологуб напрягают все усилия для предотвращения кровавой встречи. Д’Антес заявляет, что его ухаживания относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине, действительно без памяти влюбленной в него и даже, по слухам, ставшей с начала осени 1836 года его невестой. Под давлением окружающих поэт соглашается, наконец, взять обратно свой вызов.
Во время этих переговоров подлинным другом поэта показал себя Жуковский, действовавший с большим умом, сердечностью и тактом: «Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления…» На одно из таких устных заявлений последовал ответ, замечательно выражавший отношение историка Пугачева к современному обществу и народу: «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то о невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, это мнение того низшего класса, в наши дни единственного подлинно русского, который осудил бы жену Пушкина»[83].
Но поэт не мог не реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшедшего он считал посланника Геккерна, по его мнению, автора анонимного пасквиля. Поскольку конфликт с д’Антесом был ликвидирован, Пушкин решает получить сатисфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля: «представитель коронованной главы», он был заклеймен прозвищем «сводника» и уподоблялся развратной старухе.
Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь: обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. «Тем временем, — заключал он, — я удостоверился, что анонимное письмо исходило от г. Геккерна, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».
Столь важное обвинение иностранного дипломата вызвало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя.
Это был второй прием Пушкина Николаем I. С памятной беседы в сентябре 1826 года прошло десять лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики — всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как «первый дворянин» своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической реакции, он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Государево око — III отделение — твердо считало Пушкина «великим либералом, ненавистником всякой власти». «Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах, — констатировал вскоре один жандармский документ, — а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных». Отзыв, не лишенный проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту.
В беседе 23 ноября Пушкин вне всякого сомнения повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безыменных писем для его собственной и для жены его чести и настаивал на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и в случае подтверждения подозрений Пушкина обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не предпринимать новых шагов без «высочайшей» санкции. Об этом можно судить по тому, что после беседы а Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Геккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным.
В эти тревожные месяцы Пушкина ожидала радость встречи со старинным другом — Александром Тургеневым. Он вернулся в Петербург 25 ноября «из Парижа через Симбирск» и 27-го присутствовал на премьере «Ивана Сусанина».
«Я был вчера на открытии театра, — писал 28 ноября Тургенев своему брату Николаю, — ставили новую русскую оперу «(Семейство Сусаниных» композитора Глинки, и все было превосходно: постановка, костюмы, публика, музыка и балеты. Двор присутствовал почти в полном составе. Ложи были украшены нарядными женщинами. Я нашел Жуковского в добром здоровье… Вяземский менее грустен. Пушкин озабочен одним семейным делом…»
Но эта мучительная озабоченность не мешала все же поэту живо интересоваться художественными событиями, продолжать обычную для него творческую жизнь. Личная драма не в состоянии была поколебать внутренний строй гениальной натуры. Разговор Пушкина в то время поражал замечательными прозрениями и высокой образностью. Встречавшаяся с ним в конце 1836 года графиня де-Сиркур (урожденная А. С. Хлюстина) писала через год Жуковскому: «Его дар угадывать все, что он только мысленно мог себе представить, так же поразил меня, как и то поэтическое направление, какое бессознательно принимала обо всем его мысль; разговор его обнаруживал ту зрелость, которую я не находила даже в его самых лучших стихах; я покинула его, предсказывая ему безграничное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца…»
В эти последние недели своей жизни Пушкин отдается культурным впечатлениям, интенсивно живет художественной современностью. Выдающееся событие — нарождение русской национальной оперы — привлекает его пристальное внимание. Он подробно беседует с бароном Розеном[84], автором либретто «Иван Сусанин», о драматической стороне композиции и даже берет у него текст оперы для детального изучения и анализа. Он посещает В университете лекции о русской литературе, восхищая своим присутствием студентов и профессора. Плетнев поднялся на кафедру «в воодушевленном состоянии», по свидетельству одного слушателя. «В дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавою головою, огненными глазами и желтоватым нервным лицом». Пушкин сел на задней скамье и внимательно прослушал лекцию. В заключение, говоря о будущности русской литературы, Плетнев назвал Пушкина. «Возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя». Петербургское студенчество гордилось великим поэтом и было в восхищении от личного знакомства с ним.
Особенно ценны были для Пушкина встречи с «европейцем» Александром Тургеневым. «Он как-то особенно полюбил меня, — сообщал вскоре Тургенев о поэте, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные…» Пушкину был приятен этот старый друг его семьи, которого он знал с малых лет. Они посещают вместе театр, Академию наук, общих друзей, бывают друг у друга, поднимают и решают в своих беседах интереснейшие проблемы исторического и общекультурного значения. 15 декабря Тургенев до полуночи засиделся у Пушкина. Обсуждали «Слово о полку Игореве»; Пушкин «в словах песнотворца» чувствовал тот «дух древности», который неопровержимо утверждал в его глазах подлинность памятника.
«Он хочет сделать критическое издание сей песни, вроде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей, — пишет Тургенев брату о своих беседах с Пушкиным, — но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом…» Замечательна эта стойкость литературной позиции Пушкина: накануне смерти он продолжает борьбу с реакционными литературными течениями в лице Шишкова, против которого стал вооружаться еще на школьной скамье. Через четверть века словно продолжаются речи и споры, прозвучавшие летом 1811 года в петербургском кружке Дмитриева.
Вступивший в литературу в самом разгаре битв за обновляющийся русский язык, Пушкин остается до конца его организатором и хранителем. «Есть у нас свой язык; смелее!..» писал поэт в годы своей южной ссылки. Незадолго до смерти он высказывает тревогу за дальнейшую судьбу родной речи: «Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется». Восхищаясь богатством «прекрасного нашего языка», Пушкин признавал, что извлёк из него небывалую силу и перековал поэтическое слово: «Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо».
Тургенев заинтересовался новыми, еще не напечатанными стихами своего друга. Пушкин раскрыл тетрадь и прочел одно из своих последних произведений — «Памятник». Слушателю запомнилась строфа:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит..
Новый год Тургенев встречал вместе с Пушкиным у общих друзей Вяземских. Здесь собрались Карамзины, Мещерские, Строгановы, Пушкины, сестры Гончаровы, Жорж Геккерн. Торжество было облечено в обычную форму тогдашних петербургских вечеров, которую Пушкин так любил и которую не раз запечатлел в своих строфах, — много цветов, много света, нарядных уборов, красивых женских лиц. «Картина светской жизни тоже входит в область поэзии», говорил Пушкин. Графиня Строганова была та самая Наталья Кочубей, которой он увлекался в беспечные лицейские годы, — его «первая любовь», напоминавшая о прекрасной заре жизни, о робких встречах у синего мраморного обелиска в честь Кагульской победы; этот памятник был им воспет некогда в его царскосельских «Воспоминаниях» и недавно снова бегло зачерчен в «Капитанской дочке». Портрет самой Натальи Строгановой был дан в знаменитом описании Татьяны на петербургском балу:
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою…
На этот раз Пушкин мало беседовал с вдохновительницей своих ранних элегий и поздних онегинских строф.
Он был озабочен и грустен. «Вот наступает новый год, — писал Пушкин в конце декабря своему отцу, — дай бог, чтоб он был для нас счастливее предыдущего». Еще не миновал годовой траур по скончавшейся матери. «Семейная история», о которой говорил весь город, становилась непереносимо мучительной. Наталья Николаевна ускользала от него и впервые сама переживала драму. Чтобы рассеять мрачность друга, внимательный и чуткий Тургенев читал письмо, только что полученное от брата Николая; это напоминало первую петербургскую молодость, «Арзамас», «Вольность», «Деревню», «Зеленую лампу». Но семейная драма омрачала все и придавала воспоминаниям неизбывную горечь. С Пушкиным чокались, старались рассеять его задумчивость, желали счастливого года.
Ему оставалось жить меньше месяца
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ДРАМА В ТУАЛЕТЕ
ДРАМА В ТУАЛЕТЕ Ну, а как же обстояли дела в моем клубе? На этот вопрос мне, признаться, не так-то легко ответить… В общем, клуб я постепенно отремонтировал, привел в порядок. И теперь он весь блистал. Блистали вымытые окна. Блистали начищенные полы во всех комнатах. В
20–21. Драма
20–21. Драма I. «Ты от любви изнемогаешь…» Ты от любви изнемогаешь, А всё еще взирая в даль, Сменить на радость уповаешь Свою покорную печаль, И, всё еще борясь с судьбою, Не в силе примириться ты, Что грубо гибнут под косою Твои любимые цветы, Что эта молодость и нежность И
Домашняя драма
Домашняя драма Похоже, что Лонгинов основательно запомнил последние строки той пушкинской эпиграммы, о которой он извещал Воронцова.Думаете, «полуподлец»? Нет, другая эпиграмма – «Сказали раз царю…» Предполагаю, что она сочинена годом ранее той, более
Драма Сицилии
Драма Сицилии С падением Пантеллерии поднялся занавес над драмой Сицилии.Еще до объявления войны были приняты меры военного характера с целью укрепления оборонительных сооружений острова. Как только начались военные действия, я послал маршала Эмилио де Боно (который
Драма на охоте
Драма на охоте День шел за днем, а герцог словно забыл про Бенвенуто. Никаких новых заказов не было, реальный заработок давали только ювелирные работы, а мастер хотел заниматься скульптурой. И тут вдруг блеснула надежда. Королева французская — Екатерина Медичи — послала
Драма идей
Драма идей 1Он волновался.И не только потому, что впервые выступал перед столь высокой аудиторией. Он понимал, что вместе с ним держит экзамен сама генетика.Дело в том, что, хотя законы Менделя были «переоткрыты» еще в 1900 году, вокруг них не стихали дискуссии. Одни ученые
«Драма „Институтки“»
«Драма „Институтки“» Есть на свете песни, которые, кажется, были всегда. Включишь диск с записью «Мурки», «Бубличков» или «Институтки», и каждый слушатель, независимо от возраста, скажет: «Да-а. Старинная вещь. Еще моя бабушка пела ее под гитару…»Это срабатывает эффект
ДРАМА БЕЗ МОРАЛИ
ДРАМА БЕЗ МОРАЛИ Легко, однако, восхищаясь вечно ценными качествами хогартовских гравюр, качествами, благодаря которым они остаются истинным искусством и в нынешнем столетии, забыть, что современники художника интересовались совершенно другим: узнаванием знакомого,
Драма — это материя
Драма — это материя Исходя из своей собственной философии, я полагаю, что произведения литературы и искусства так же отражаемы, как и явления материального мира.Думаю, что создания человеческого гения в области литературы и искусства — такой же объективный мир, такие же
Драма и власть
Драма и власть То, что наша Драма вышла на сцену после революции с известным опозданием из-за примата режиссера, и обусловило ее положение как чего-то вторичного на сцене.Кроме того, в нашем тоталитарном обществе, как могла Драма уйти от бдительного внимания руководства?
Драма замыкающих
Драма замыкающих ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ СПАСТИТот, кому приходилось маршировать в пехотной колонне, знает, что труднее всего приходится замыкающим. Все ошибки, издержки смены темпа, сбоя шага в первых рядах доходят до замыкающих в многократно усиленном варианте.
Драма ты лги я
Драма ты лги я Не прошло и нескольких часов, как натыкаюсь на «ты» у Ридара (см. выше).(Пью чай с израильским лимоном, который мне прислали Никитины из своего садика. Мог ли думать Гоша, который жил в двух шагах от садика на Малой Садовой, что под старость будет сидеть под
88. Магілёўская драма
88. Магілёўская драма На дзень народзінаў Аляксандра Салжаніцына я паслаў яму віншаваньне і неўзабаве атрымаў ліст у адказ. Адносіны тады паміж інтэлігенцыяй і ўладамі ўсё пагаршаліся, і Аляксандр Iсаевіч суцяшаў, што ўсё будзе добра. Што ён глядзіць у будучыню з