Глава десятая. ЭПИДЕМИИ И МЯТЕЖИ
Глава десятая.
ЭПИДЕМИИ И МЯТЕЖИ
«Мороз и солнце — день чудесный!» 1830 год начинался знаменитым стихотворением Пушкина, просиявшим со страниц литературного альманаха «Царское Село». 1 января в Зимнем дворце был устроен особый «бал с мужиками» — тысячи петербургских жителей заполнили царскую резиденцию. Давка была страшная, полиция следила, чтобы во дворце находилось не более четырёх тысяч человек одновременно, а в залах лакеи, разливающие чай, сами размешивали сахар ложечками — чтобы никто не позарился на «сувенир»![235]
Возвышенная картина единения с народом: императрица и фрейлины — в сарафанах, мужчины — в полной военной форме. Толпы расступаются перед Николаем и тут же смыкаются за ним. Повсюду гремит музыка, в дворцовой церкви служат молебны. На праздник сходятся до тридцати двух тысяч человек. Во дворце можно оставаться до полуночи, но намного раньше императорская чета удаляется в Эрмитаж, на ужин в окружении куда более скромной компании из пятисот персон…
Через три дня в Зимнем — костюмированный бал: его участники представляют богов и богинь Олимпа, причём богинь изображают мужчины, а богов — женщины. «Старый, исключительно уродливый и подслеповатый» граф Лаваль — в числе трёх граций, толстяк Станислав Потоцкий — «богиня Диана»… Ещё через несколько дней — бал у Нессельроде. Император, по замечанию современников, «великолепен», императрица и великая княгиня «выглядят дивно»: «молодые, красивые, весёлые, смеющиеся»[236].
«Я не припомню зимы в Петербурге, которая была бы более наполнена балами, празднествами и удовольствиями, — писал Бенкендорф генерал-фельдмаршалу Дибичу. — Мы наслаждаемся здесь истинною радостью, в целой Европе — внушительным положением, а внутри — спокойствием и доверием к правительству… Теперь мы свободны от каких-либо помех, сильнее более чем когда бы то ни было в мнении всех народов; ничто не мешает отдаться с последовательностью улучшениям, новым реформам, в которых нуждается Россия. Это будет прекрасным плодом четырёх лет войны и напряжения, которыми началось царствование нашего повелителя»[237].
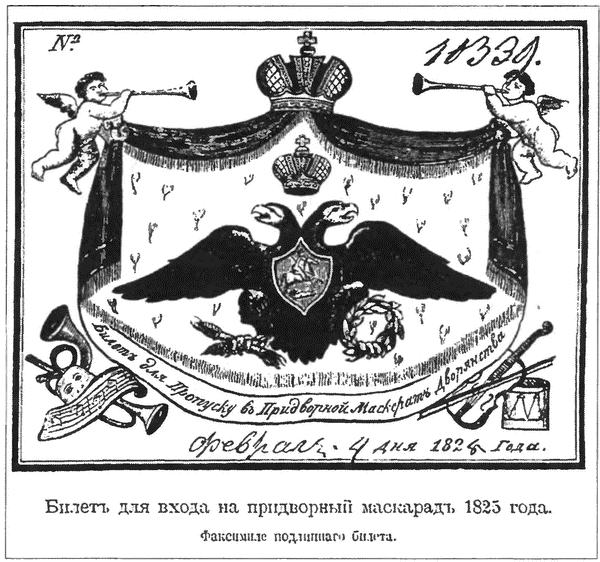
Бенкендорфу вторит в своём дневнике супруга австрийского посланника (и внучка М.И. Кутузова) 25-летняя светская львица Долли Фикельмон: «В прежнее царствование нравы были строже, удовольствия, особенно в последние годы, были так редки, что на всей общественной жизни лежал оттенок большей серьёзности, большей степенности. Сейчас всё постепенно становится более розовым, более радостным. Императрица — само счастье, веселье, призыв к всеобщему развлеченью. Император, молодой, красивый, окружён дамами, которые ловят его взгляды, жаждут их. Восхищение, галантность, смех и танцы ныне стали девизом». Впрочем, следом благоразумная Долли записывает и предостережение: «Это только начало, посмотрим через два года, чем сие обернётся для общества»[238].
Предостережение стало сбываться весной, когда появились неприятные вести о подступившей к южным границам холере. В апреле страшная и непонятная болезнь была принесена из-за тёплых морей в Молдавию и Бессарабию, чуть позже — на нижнюю Волгу.
Болезнь иного рода начала своё распространение на другой имперской окраине, в Царстве Польском. В мае 1830 года Николай прибыл сюда на открытие первого в его царствование сейма — польского парламента. Цесаревич Константин называл это конституционное учреждение «нелепой шуткой», да и сам император в частной беседе признался, что хотя и понимает, что такое монархическое и что такое республиканское правление, однако «не может взять в толк, что такое конституционное правление». Он видел в нём «непрерывное жонглирование, для осуществления которого нужен фокусник». Особенно поразила Николая просьба одного из польских министров о деньгах для покупки парламентских голосов: тот считал вполне нормальным сулить и давать деньги, должности, награды и обещания ради привлечения на свою сторону большинства[239]. Однако внешне все приличия соблюдались, и в своей речи 16 мая Николай объявил, что «с неподдельным удовольствием видит себя окружённым представителями народа» и что «поправки, которые они найдут нужным сделать к проектам законов, будут встречены благоприятно»[240].
Одновременно за фасадом торжества конституционализма уже звучали ясные голоса оппозиции. Сопровождавший Николая Бенкендорф отмечал, что в Царстве Польском становятся всё недовольнее самовластием Константина, что надежды поляков на перемены к лучшему исчезли, что даже многие русские из окружения цесаревича приходили доверять главе Третьего отделения «свои жалобы и общий ропот». Да и сама палата депутатов не проявляла особенного желания к «конструктивному сотрудничеству». Николай чувствовал себя в Польше вдвойне неловко — и за себя, и за своего неуживчивого старшего брата. Константин управлял Польшей как хотел — то есть никак.
В итоге встреча конституционного монарха с народными избранниками закончилась, как замечает Бенкендорф, «миролюбиво, но довольно холодно». Холодность была обоюдной — поляки разуверились в том, что Николай обуздает Константина. Неудивительно, что надежды их всё больше обращались к собственному Тайному военному обществу.
В июле, по окончании манёвров под Красным Селом, Николай повелел устроить особенно роскошные балы с приглашением дипломатического корпуса. «Никогда ещё императорские празднества не были так великолепны и оживлённы, — писал французский посол Бургоэн. — Потом уже, сближая числа, можно было видеть, что во время этих самых празднеств происходили в 800 милях оттуда кровавые июльские дни»[241]. В те дни Париж был покрыт баррикадами и над ними развевались трёхцветные знамёна, напоминавшие о временах Робеспьера и Дантона. Восставшие штурмовали Лувр, и командующий королевскими войсками маршал Мармон писал королю Карлу X: «Это уже не волнения. Это революция!»
Революция пробушевала «три славных дня», и в итоге Карл X отрёкся от престола. 28 июля (9 августа по европейскому календарю) 57-летний Филипп Орлеанский присягнул на верность конституционной хартии. Он стал королём Луи Филиппом — королём, выбранным и провозглашённым парламентом. То есть, с точки зрения Николая, «ненастоящим».
Проблему, вставшую перед европейскими правителями, объяснил в своём дневнике историк Погодин: «Что сделают дворы? Вот узел. Признать Орлеанского значит признать власть народа. Не признавать — так война, и кто ручается за успех?»[242]
Николаю поначалу показалось, что «Франция намеревается снова броситься в революционные случайности», а значит, возвращается эпоха больших европейских потрясений, эпоха опустошительных, сродни Наполеоновским, войн. Так смотрел на вещи и Константин. Он писал из Варшавы в привычном пессимистическом тоне: «Мои мрачные предвидения оправдались, начинается новая эра, и мы отброшены на 41 год назад. Сколько трудов, сколько крови, сколько сил потрачено только для того, чтобы привести к торжеству принципы, которые составляют основу принципов наших врагов»[243]. Вдобавок вскоре Бельгия, воспользовавшись ситуацией во Франции, провозгласила свою независимость от Нидерландов. Николаю пришлось определяться с тем, какова должна быть его политика в Европе. Чтобы разобраться с собственными мыслями, он написал — исключительно для себя — записку-исповедь («Ma confession»), в которой приводил в порядок представления о внешнеполитической ситуации.
«Географическое положение России, — начинал «Исповедь» император, — до такой степени благоприятно, что в области её собственных интересов ставит её в почти независимое положение от происходящего в Европе; ей нечего опасаться; её границы удовлетворяют её; в этом отношении она может ничего не желать, и, следовательно, она ни в ком не должна возбудить опасений…» Политику Австрии и Пруссии Николай считал не соответствующей духу Священного союза 1815 года, призванного гарантировать мир в посленаполеоновской Европе. Эти страны слишком многое делали ради своей выгоды против общей (как её понимал Николай). Они, например, не договариваясь с Россией, признали нового французского короля, возведённого на трон революцией; признали независимость Бельгии от Нидерландов. «Господи Боже, неужели это союз, созданный нашим бессмертным монархом?!» — восклицал Николай.
Российский правитель сделал печальный для себя вывод: после революций 1830 года Россия занимает в Европе «положение новое, одинокое», «но почётное и достойное». Император решил так: «В минуту опасности нас всегда увидят готовыми лететь на помощь союзникам, которые снова вернулись бы к прежним воззрениям, но в противном случае Россия никогда не принесёт в жертву ни своих денег, ни драгоценной крови своих солдат». Священный союз, по мнению Николая, должен сохраняться не ради частных политических споров, а «для торжественного мгновения, которого никакая человеческая сила не может ни избежать, ни отдалить — мгновения, когда должна разразиться борьба между справедливостью и силами ада. Это мгновение близко, приготовимся к нему, мы — знамя, вокруг которого в силу необходимости и для собственного спасения вторично сплотятся те, которые трепещут в настоящем времени»[244].
Уходил в небытие прежний принцип Священного союза «вмешиваться, не спросясь». «Мы признали самый факт независимости Бельгии, — говорил Николай, — потому что его признал сам нидерландский король». Точно так же русский император признал французского короля после того, как это сделали в Лондоне, Берлине и Вене. «Это решение есть горькая пилюля, которую я обязан проглотить», — писал Николай Константину. При этом он сильно опасался, что революционная Франция вновь отправится завоевывать соседние территории — дабы исправить «несправедливость» Парижского мирного договора 1815 года (вернувшего Францию в донаполеоновские границы) за счёт Пруссии и Австрии. Николай, как прежде Александр, верил в то, что «силы зла», начав революцию в одной стране, не преминут «экспортировать» её в соседние страны и по всему миру.
Но совсем другая большая беда обрушилась на империю.
Двадцать восьмого августа министр внутренних дел Арсений Закревский доложил Николаю, что холера вторглась в Центральную Россию. Эта «индийская зараза» неотвратимо поднималась по Волге: от Астрахани к Царицыну, от Царицына — к Саратову. Города и веси пропахли хлоркой — самым доступным средством борьбы с болезнью. О холере тогда знали мало, не могли даже решить — заразна ли она, путали с чумой и бороться пытались по примеру чумных эпидемий: заставы, карантины, окуривания. Помогало это плохо, и Закревский был вынужден признаться царю: «Язва-холера пожрала уже множество народа, а быстрое распространение ея по разным направлениям угрожает дальнейшими бедствиями»[245]. Николай направил Закревского в Саратов — главнокомандующим по борьбе с нашествием холеры. Но Саратов быстро оказался «в тылах» наступающей эпидемии. К середине августа холера воцарилась в Казани, а потом прогнала знаменитую Нижегородскую ярмарку («Бедная ярманка! Она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!» — А.С. Пушкин).
В двадцатых числах сентября холера и смерть появились в Москве. Из города началось массовое бегство жителей: в первые недели, пока город не оцепили, каждый день за заставы выезжало по нескольку тысяч человек. Мужики, возвращавшиеся из Москвы, кричали встречным путникам: «Мор!»
На общем паническом фоне совершенно потрясающим оказалось обращение императора Николая, присланное московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Голицыну: «Я приеду делить с вами опасности и труды». «Родительское сердце не утерпело, — напишет растроганный Михаил Погодин. — Европа удивлялась Екатерине Второй, которая привила себе оспу, в ободрительный пример для наших отцов. Что скажет она теперь, услышав о готовности Николая делить такие труды и опасности наравне со всеми своими подданными?»
Утром 29 сентября 1830 года Николай стоял в Успенском соборе Кремля и внимал слову Филарета, митрополита Московского: «Цари обыкновенно любят являться царями славы, чтобы окружить себя блеском торжественности, чтобы принимать почести. Ты являешься ныне среди нас, как царь подвигов… чтобы трудности препобеждать. Такое царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели христианской. Царь небесный провидит сию жертву сердца твоего, и милосердно хранит тебя…»
«Нельзя описать восторга, — сообщает Погодин, — с которым встретил его народ, тех чувствований, которые изображались на всех лицах: радость, благодарность, доверенность, преданность…» Умный либеральный скептик, князь Пётр Андреевич Вяземский, тогда же записал в дневнике: «Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке. <…> Здесь нет никакого упоения, нет славолюбия, нет обязанности. Выезд царя из города, объятого заразою, был бы, напротив, естественен и не подлежал бы осуждению, — следовательно, приезд царя в таковой город есть точно подвиг героический. Тут уже не близь царя близь смерти, а близь народа близь смерти!»[246]
Александр Сергеевич Пушкин, отделённый от Москвы полутысячей вёрст и четырнадцатью карантинами, отозвался на поступок Николая восклицанием «Каков государь! Молодец!», а потом и стихотворением «Герой»:
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор…
Срочно вызванный из отпуска Бенкендорф оставил подробные воспоминания о пребывании Николая в Первопрестольной: «Холера… с каждым днём усиливалась, а с тем вместе увеличивалось и число её жертв. Лакей, находившийся при собственной комнате государя, умер в несколько часов; женщина, проживавшая во дворце, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно посещал общественные учреждения, презирая опасность, потому что тогда никто не сомневался в прилипчивости холеры. Вдруг за обедом во дворце, на который было приглашено несколько особ, он почувствовал себя нехорошо и принуждён был выйти из-за стола. Вслед за ним поспешил доктор, столько же испуганный, как и мы все, и хотя через несколько минут он вернулся к нам с приказанием от имени государя не останавливать обеда, однако никто в смертельной нашей тревоге уже больше не прикасался к кушанью. Вскоре затем показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее как на другой день всё наше беспокойство миновалось…»
Николай провёл в Москве восемь дней — все в постоянной деятельности: «Государь лично наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей; беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях и только, устроив и обеспечив всё, что могла человеческая предусмотрительность, 7 октября выехал из своей столицы»[247]. По дороге император и свита подали ещё и пример законопослушности, проведя 11 дней в Твери, в карантине. (Всего в карантинах на Московском тракте находилось до двенадцати тысяч душ[248].)
Двадцатого октября Николай прибыл в Царское Село, 25-го — в Петербург. Император привёз с собой просьбу короля Нидерландов о помощи: ещё в Москве пришли неутешительные новости о победе революции в Бельгии и готовности французов использовать свои войска для поддержки нового государства в войне против Нидерландов. Николай говорил, что он «не против Бельгии, а против революции, которая всё приближается». Он заручился поддержкой Пруссии в деле борьбы за сохранение «старого порядка» в Европе и приготовил шестидесятитысячную армию для вторжения. Дипломатический циркуляр трёх держав Священного союза напоминал Франции о их праве поддерживать оружием порядок в Европе и уничтожать во всякой стране общего врага, то есть революцию[249]. Франция в ответ стала готовить свои вооружённые силы. Надвигалась угроза общеевропейской войны.
Всё переменила начавшаяся 17 ноября 1830 года революция в Польше. Восстание готовилось давно, а угроза того, что русские войска наводнят Польшу перед походом на запад, ускорила решимость заговорщиков. Польские офицеры подняли восстание в Варшаве. Цесаревич Константин чудом избежал смерти — в какой-то момент его отделяла от убийц только дверь кабинета, закрытая на задвижку, — и бежал куда глаза глядят. (Можно ли представить, заметил Вяземский в дневнике, чтобы Николай бежал из Петербурга 14 декабря 1825 года?[250])
Через неделю Николай читал отчаянные письма старшего брата: «Вот мы, русские, у границы, но, великий Боже, в каком положении, почти босиком; все вышли как бы на тревогу, в надежде вернуться в казармы, а вместо сего совершили ужасные переходы. Офицеры всего лишились и имеют лишь то, что на них надето… Я сокрушён сердцем; на 51 ? году жизни и после 35 ? лет службы я не думал, что кончу свою карьеру столь плачевным образом. Молю Бога, чтобы эта армия, которой я посвятил шестнадцать лет жизни, одумалась и вернулась на путь долга и чести, признав своё заблуждение прежде, чем против неё будут приняты понудительные меры. Но это было бы слишком хорошо для века, в котором мы живём, и я сильно сомневаюсь в осуществлении моих желаний».
Николай отозвался на восстание предложением о примирении — со всеми, кто «возвратится к долгу». «Ещё не поздно изгладить минувшее; ещё есть время предупредить бесчисленные бедствия, — гласил его Манифест от 12 декабря. — Кто не замедлит отречься от преступного, но минутного завлечения, того Мы не смешаем с упорными в злодействе. Обитатели Царства Польского! Внемлите увещевания Отца, повинуйтесь велению Царя вашего»[251]. Константину же он писал: «Моё положение тяжкое, моя ответственность ужасна, но моя совесть ни в чём не упрекает меня в отношении поляков, и я могу утверждать, что она ни в чём не будет упрекать меня, я исполню в отношении их все свои обязанности, до последней возможности; я не напрасно принёс присягу, и я не отрешился от неё; пусть же вина за ужасные последствия этого события, если их нельзя будет избегнуть, всецело падёт на тех, которые повинны в нём! Аминь»[252].
В семейном архиве князя Паскевича сохранилась «Солдатская песня» некоего «Сиянова», сочинённая на злобу дня:
Взбеленясь от злого нрава,
Царства русского жена
Расходилась вдруг Варшава —
Бунтовщица издавна…
Захотелось ей развода,
Быть чтоб полной госпожой,
Да разводы, брат, не мода,
На Руси у нас святой[253].
Николай, хотя и готовил войска к выступлению, ещё пытался погасить конфликт при помощи тех поляков, на которых, как ему казалось, можно было положиться. Не признавая официально нового польского диктатора, поддержанного сеймом, — Иосифа Хлопицкого, — он, тем не менее, начал переговоры с его представителями, прибывшими в Петербург. Встречи были частными, в Аничковом — а не в Зимнем — дворце. Там император в сердцах выговаривал одному из посланников, Езерскому: «Ведь вам же хорошо было! Конституцию, которую я застал, я уважал и хранил без изменения. Приехав в Варшаву на коронацию, я сделал столько добра, сколько мог сделать. Быть может, и было что-то нехорошее, но я тут ни при чём. Надлежало войти в моё положение и иметь ко мне доверие. Я желал, чтобы всё было хорошо, и желание своё, в конце концов, осуществил бы… Наконец, я не могу оправдать революции, нападение на дом моего брата с намерением лишить его жизни…»
Николай думал, что Польша восстала только против дурного управления Константина и его сподвижников, и ещё надеялся водворить порядок, поскольку оставался коронованным польским королём. В первые дни восстания даже иронизировали: «Польский король Николай воюет с русским императором Николаем».
Но восставшие исправили эту ошибку. 13 (25) января 1831 года они объявили Николая низложенным: «Всему миру известно наше терпение. Обещанные под присягой двумя владыками и столь часто попираемые свободы освобождают обе стороны и польский народ от верности. Сказанные, наконец, самим Николаем слова, что первый же выстрел с нашей стороны всегда будет сигналом к гибели Польши, не оставили нам никакой надежды на исправление нанесённых обид, не оставили нам ничего, кроме благородного горя. Таким образом, народ польский, на сейме собранный, заявляет: он является независимой нацией и имеет право тому корону польскую отдать, кого её достойным сочтёт, на кого рассчитывать будет, кто приведённый к присяге веры твёрдо и без ущерба соблюдёт обещанные присягой свободы».
Польские деятели восстания требовали не справедливого управления, а восстановления границы России и Польши там, где она проходила до 1667 года (а значит, присоединения к Польше Украины до Днепра, включая Киев).
На «Постановление о детронизации» Николай ответил манифестом:
«13-го сего месяца, среди мятежного противозаконного сейма, присваивая себе имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома нашего прекратилось в Польше и что трон, восстановленный императором Александром, ожидает иного монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятв, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений; настало время употреблять силу против не знающих раскаяния, и мы, призвав в помощь Судию дел и намерений, повелели нашим верным войскам идти на мятежников…»[254]
Вслед за объявлением манифеста стотысячная армия под командованием Дибича-Забалканского вступила в пределы Царства Польского.
И пошли с крестом, молитвой
Мы мятежницу карать…
(Из «Солдатской песни», 1831)
Через месяц, в середине февраля, русские войска были готовы вступить в Варшаву. Сражение у стен польской столицы, при Грохове, было почти выиграно Дибичем, но в решающий момент наступление русских войск, готовых ворваться в Варшаву «на плечах» отступающего противника, было неожиданно для всех остановлено. Такой осведомлённый человек, как Бенкендорф, считал, что Дибича остановил Константин, который пожалел своих бывших подданных-поляков и именем старшего брата императора приказал «прекратить резню»[255]. Момент был упущен, Дибичу пришлось перегруппировывать и отводить войска, а «резня» только продлилась на многие месяцы.
Возмущённый и потрясённый Николай писал Дибичу: «Потеря 8 тысяч человек и никакого результата! <…> Я во всех ваших распоряжениях не усматриваю ничего такого, что бы давало надежду на сколько-нибудь удачное окончание кампании…»[256]Жёсткими и холодными стали и письма Николая Константину, бросившему армию после Гроховского сражения: «До сих пор мне ничего не оставалось, как представить вам полную свободу принять то или иное решение и восхищаться вашими решениями… Теперь положение дел изменилось. Дальнейшее ваше пребывание в армии было бы неприлично, и что ещё важнее, оно было бы опасно. Оставайтесь там, где вы находитесь теперь». Константин просился в армию, Николай его не пускал…[257] Фельдмаршала Дибича ждала отставка, Константина — приличествующая великому князю опала. Однако оба они избежали монаршего гнева самым печальным образом. И того и другого, с разницей в две с половиной недели (29 мая и 15 июня), унесла на тот свет холера.
В Польшу помчался спаситель-Паскевич. Он прибыл к войскам в ночь с 13 на 14 июня и немедленно начал готовить наступление. И именно 14 июня, в воскресенье, в Петербурге появились два первых больных холерой.
Через два дня в столице началась эпидемия. Один из очевидцев событий Александр Васильевич Никитенко записал в дневнике: «Холера, со всеми своими ужасами, явилась… Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности». В Петербурге болели тысячи, из которых умирал каждый второй. При этом столица днями изнывала от страшной жары. Как записывал Бенкендорф, «духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено, как бы на далёком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблёкла от страшной засухи; везде горели леса, и трескалась земля»[258]. А ночами… «При красном мерцающем свете смолящих факелов, с одиннадцати часов вечера тянулись по улицам целые обозы, нагруженные гробами, без духовенства, без провожающих, тянулись за городскую черту на страшные, отчуждённые, опальные кладбища».
Двадцать первого июня Николай на всякий случай набросал своё завещание. В тот же день в столице страхи и страсти вырвались в народное возмущение. Тайна холерной заразы толкала доведённых до отчаяния жителей искать понятных объяснений. Люди не верили в способности докторов. Их били, считая «отравителями». Медицинские кареты ломали, чтобы «освободить» больных. Искали злоумышленников, возможно, поляков: поймав человека с подозрительным флаконом, заставляли тут же пить содержимое. Содержимым часто были хлорка или уксус, рекомендованные как спасительные средства дезинфекции… Василия Перовского, адъютанта Николая, отправленного из Петергофа в столицу «на разведку», чуть не убили за то, что при нём был флакон одеколона.
Пиком эпидемии стал холерный бунт на Сенной площади Петербурга 22 июня (Сенная считалась в то время «форумом русских рабочих»[259]). Там толпа устроила жестокий погром больницы. Бенкендорф рассказывал об этих печальных событиях так: «Все этажи в одно мгновение наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти»[260]. Войска были поставлены «под ружьё» и окружили площадь, но в дело не вступили. Император Николай примчался из своего петергофского карантина и смог остановить погромы силой своего нравственного авторитета.
Потомки пытались говорить о каком-то гипнотическом влиянии императора, упрощали сцену до анекдота: мол, император рявкнул «На колени!» — и все опустились перед ним на колени, и бунт кончился… Но сохранились слова, которыми император убедил и утихомирил многотысячную толпу: «Обратясь к церкви Спаса, он сказал: Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы его жестоко оскорбили! Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне… За ваше поведение в ответе перед Богом — я! Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами!"»[261].
Очевидец событий, князь Меншиков, подтверждает случившееся: царь не гипнотизировал толпу, он призывал её к покаянию — через собственный пример («В ответе — я!»). В описании Жуковского, сделанном по рассказам очевидцев, народ опустился на колени в невольном порыве: когда царь «обнажил голову, обернулся к церкви и перекрестился», то обернувшаяся с ним «толпа, по невольному движению, пала ниц с молитвенными возгласами»[262]. Не просто на колени, а ниц, то есть лицом к земле, но не перед императором, а перед Богом!
Моральное воздействие императора было подкреплено полицейскими мерами. Как записал в дневнике московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков, получавший описания событий от брата Константина: «До 2000 человек взято и посажено в крепость крикунов, бывших в суматохе на Сенной, многие из них и невинны, до сего времени следственная комиссия… не приступила ещё к делу, отчего все родственники заключённых, и особенно взятых по одному токмо подозрению, ропщут»[263].
Порядок в городе был восстановлен, но с холерой боролись ещё долго. Лишь в середине июля Николай сообщил новому польскому наместнику Паскевичу: «Здесь всё тихо, и в порядке… Болезнь, слава Богу, столь же скоро исчезает, как страшно скоро разлилась»[264].
Холера бросилась на Новгородские военные поселения и там привела к бунту, стоившему русской армии больше жизней, чем штурм Варшавы. Как писал в своих записках Бенкендорф: «Холера и слухи об отраве послужили… лишь предлогом. Военные поселяне дали волю давнишней своей ненависти к начальству и бросились с яростью на офицеров и врачей… всякий, кто не мог спастись скорым бегством, был беспощадно убиваем»[265]. Восставшие отправили к Николаю депутации с докладами об истреблении «изменников и отравителей». Николай, оставив супругу на последнем сроке беременности «и в смертельном беспокойстве по поводу этой отважной поездки», бросился к бунтовщикам. Правда, к его приезду бунт удалось потушить. Император «предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лиц ему не было видно: все преступники лежали распростёртыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда. Государь приказал вывести из рядов главных виновников и предать их немедленно военному суду. Всё было исполнено с слепой покорностью»[266].
В день возвращения императора в Царское Село случилось радостное событие — 27 июля Александра Фёдоровна родила Николаю третьего сына. Его нарекли Николаем и тем как бы закрепили преемственность нового для дома Романовых имени. (Сыном великого князя Николая Николаевича тоже будет великий князь Николай Николаевич — с приставкой «младший»; в Первую мировую войну он будет главнокомандующим русской армией.)
«После всех испытанных напастей, — заметил Бенкендорф, — это радостное событие было первым проблеском и как бы началом новой, лучшей эпохи в его жизни. В прошедшем всё было омрачено печалями и бедствиями, над будущим висела, казалось, такая же чёрная туча. Война в Польше, бунт в западных губерниях, страшная смертность в столицах, мятеж на Сенной и в военных поселениях — всё это мало обещало хорошего. И вдруг всё изменилось; с каждым курьером стали приходить одна за другой добрые вести»[267].
Одной из самых приятных вестей стало принесённое князем Суворовым, внуком легендарного полководца, известие о взятии Варшавы. Польская столица была обложена войсками Паскевича в начале августа. Главнокомандующий передал осаждённым обращение Николая I, в последний раз обещавшего амнистию при условии добровольной сдачи оружия и подчинения императорской власти. Депутаты сейма отвергли предложение: «Поляки подняли оружие за национальную независимость в тех пределах, какие издревле отделяли их от России; народное правление ожидает извещения… в какой мере Его Величеству Императору благо-угодно исполнить их желание».
Русские полки шли на штурм Варшавы с песнями (к примеру, такой: «Ах, на что было огород городить, ах, на что было капусту садить…»). 26 августа, в годовщину Бородинского сражения, Варшава пала. Это совпадение дало название пушкинскому стихотворению «Бородинская годовщина», вызвавшему столько споров и среди друзей, и среди потомков:
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.
...
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг её волненья пали —
И Польши участь решена…
Двадцать шестого сентября прекратилось последнее организованное сопротивление польских мятежников. Паскевич стал светлейшим князем Варшавским. «Ах, зачем я не стоял за тобой по-прежнему в рядах тех, кои мстили за честь России; больно носить мундир — и в таковые дни быть прикованным к столу, подобно мне несчастному», — писал растроганный Николай своему «отцу-командиру»[268].
Пришёл октябрь 1831 года. «Бедствия, целый год тяготевшие над Россией, миновали, — писал Бенкендорф. — Не было больше ни войны, ни бунтов, ни холеры. Государь, прежде разделив с Москвой угрожавшую ей опасность, пожелал теперь снова видеть древнюю столицу в ту минуту, когда с восстановлением мира и спокойствия исчезли все опасения»[269]. Он прибыл в Кремль 11 октября. Здесь, в Оружейной палате, к подножию трона Александра I были брошены трофейные польские знамёна и хартия, некогда пожалованная Александром Царству Польскому. «Покойница Конституция» — назвал её Николай и приказал хранить в особом ковчеге «как памятник великодушию нашего Александра I и польской благодарности…»[270].
Заодно на арсенальном дворе Кремля было сожжено 1578 из двух тысяч печатных экземпляров той «русской конституции», которую мятежники нашли в архивах русской варшавской администрации, перепечатали и пытались распространять. Этсут проект Уставной грамоты готовился в последние годы либеральных порывов Александра и тогда же осел в бумагах императорского представителя в Польше Николая Николаевича Новосильцева. Николай был более чем недоволен тем, что поляки распространяют конституционные идеи близких к брату Александру либералов. «Печатание этой бумаги, — признавался он Паскевичу, — крайне неприятно; на 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут и презрят, но 10 оставят в памяти, обсудят — и главное не забудут. Это пуще всего меня беспокоит… Вели… стараться достать елико можно более экземпляров сей книжки и уничтожить, а рукопись отыскать и прислать ко мне…»[271]
Манифест 14 февраля 1832 года «О новом порядке управления и образования Царства Польского» гласил: «Злосчастия миновались: Царство Польское, снова Нам подвластное, успокоится и процветёт среди восстановленной в оном тишины, под сенью бдительного Правления». По повелению императора Николая Польша лишалась Конституции 1815 года, парламента, армии и вообще становилась частью России с губерниями вместо традиционных воеводств. На её территории была расквартирована армия Паскевича, которая и в последующие мирные годы именовалась «действующей»[272].
Польское восстание стало для Николая наглядным примером того, к чему приводят парламент и конституционная монархия. В завещании сыну Александру, написанном в 1835 году (когда доносили, что на царя во время его поездки в Германию готовится покушение), император прямо велел: «Не давай никогда воли полякам; упрочь начатое и старайся довершить трудное дело обрусевания сего края, отнюдь не ослабевая в принятых мерах»[273]. Полякам в том же году было сказано: «При малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город, я разрушу Варшаву и уж, конечно, не я отстрою её снова… Поверьте, господа, принадлежать России и пользоваться её покровительством есть истинное счастье»[274]. И тем не менее в 1835 году Николай обратился к киевскому губернатору Александру Дмитриевичу Гурьеву (сыну министра финансов): «Ты знаешь, что я после польского возмущения до поляков небольшой охотник; но если по предубеждениям и по страсти я увлечён буду на принятие каких-нибудь мер несправедливости против них, то обязанность твоя немедленно предостерегать меня»[275].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Эпидемии века
Эпидемии века 13 мая 1988 года ряд высших учебных заведений и компаний нескольких стран мира подвергся атаке вируса Jerusalem, уничтожавшего файлы при их запуске. Сообщения о зараженных компьютерах поступали из стран Европы, Америки и Ближнего Востока.В ночь с 2 на 3 ноября 1988
Глава десятая
Глава десятая В погоне за разгадкой тайны Столичное управление ФБР Уехав домой пораньше, часа два спустя после того, как позвонил Джону Каллохену из столичного управления ФБР, Джеймс Вулрич весь оставшийся день пробыл в своей квартире в Вашингтоне. К счастью,
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 1.Кирпич к кирпичу… Так и жизнь наша. Укладываем мы свои кирпичики едва ли не со дня рождения один к одному — то массивные, то почти крохотные, то хотя и большие, но легковесные, как крымский туф-камень, а порой и вовсе никуда не годные — за что позднее до
Глава десятая
Глава десятая Левитан даже во время самой напряженной работы не переставал замечать все происходящие вокруг изменения. Он с грустью уловил и наступление той поры, когда сквозь пышную зелень и щедрый солнечный жар вдруг неожиданно ощущается еще отдаленная, еще незримая,
Мятежи
Мятежи Аннексия, даже приветствуемая частью населения, нередко находящейся на содержании врага, не может не вызывать тревоги у соседних государств или не возбуждать недовольства в самой аннексированной стране. Очень скоро становится понятна цена утраченного, и
Глава десятая
Глава десятая Рынок Шоле. — Прибытие в Париж в новой должности погонщика волов. — История капитана Вилледье.Оставив Нант, я шел двое суток, не останавливаясь ни в одной деревне; я и не чувствовал в этом никакой надобности, так как запасся достаточным количеством
Глава десятая
Глава десятая , в которой читатель перенесется из жесткой реальности романов середины XIX века в «прекрасную эпоху», которую можно считать вторым рождением романтизма. В противовес натуралистическим картинам Флобера, Золя и Мопассана, искусство la belle ?poque предлагает
Глава десятая
Глава десятая В Уормвуд-Скрабс меня провели в «приемную», должным образом внесли в тюремные книги, записав самую раннюю дату моего освобождения — 1989 год и самую позднюю — 2003 год. Всю одежду и личные вещи у меня отобрали, после ванной выдали тюремную одежду и отвели в
Глава десятая
Глава десятая Состав бразильской сборной, которой предстояло выступать в чемпионате мира в Чили, за четыре года претерпел незначительные изменения. По состоянию здоровья ушел в отставку наш тренер Висенте Феола, его место занял Айморе Морейра, брат Зезе Морейры, который
Глава десятая
Глава десятая Декабрьским утром 1868 года Золя отправился на завтрак к Гонкурам. Они жили на бульваре Монморанси, и добираться к ним нужно было поездом. Зима уже установилась, и Золя с наслаждением вдыхал свежий морозный воздух, думая о предстоящем визите. В Отейле он будет
Эпидемии
Эпидемии В истории человечества особенно любопытную страницу представляют эпидемии безумий.Совершенно так же, как всякие другие заразные эпидемии, многократно на разных материках появлялись эпидемии безумия. Целые государства страдали злостно навязчивыми идеями в
Мятежи времен якобитов
Мятежи времен якобитов История якобитов, то есть сторонников католической линии Стюартов, сегодня является частью шотландской культуры. Посещающим Эдинбург туристам рассказывают о романтических подвигах более чем трехсотлетней давности, а в магазинах с сувенирами
Глава десятая
Глава десятая Жорж Санд не помнила, что именно играл Шопен в ту тревожную ночь. Она утверждала, что то была прелюдия, но забыла, какая. Поэтому биографам трудно было установить это. Все искали шествующих монахов и особенно «капли дождя». Кто называл шестую, си-минорную
Глава десятая
Глава десятая Однажды вечером, спустя несколько недель после того как в лагере Патнем появился Уильям Д., я услышала доносящиеся из леса звуки сигнальных барабанов. У них нет ничего общего с маленькими барабанами и там-тамами, которыми пользуются пигмеи-танцоры. Бой
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Постыдная битва в Бабуговской станице. — Варварство начальника округа. — Чеченский старшина Майри-Бийбулат.В 1858 году в Бабуговской станице некоторые из абазинских казаков, по правилам свято ими чтимого гостеприимства, приняли на ночлег нескольких из