Бешеный колобок
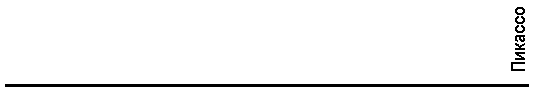
Бешеный колобок
Вы спали в кровати Пикассо?
Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы очей не сомкнете. Квадратная низкая кровать — в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни. Слева дверь в ванную. На полу длиннорукий палас его работы. Под лампой на тумбочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами, она помнит, как когда-то прогибалась под ним.
Не топлено. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие простыни вонзаются в спину и икры.
Очень широкая эта кровать.
Пикассо не был большого роста. Что он, катался по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок?
Вы по нескольку раз бегаете в горячий душ согреваться. Как страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная нетрезвая темнокожая мировая ночь спит, ворочается, темнеет, проборматывает во сне вздохи чужого языка. Дышит рядом с вами. Разметавшись, спят Парижи, небеса и инстинкты.
Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без ног скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода.
Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливается на мгновение раньше, и свет зажигается на миг раньше, чем вы ее нажали. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и уговариваете себя сами, что это от холода.
Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.
На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.
Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он снимал крышку пополам боками вверх, так что получались крылья.
Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский…
Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.
Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой, в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.
В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.
Пикассо был полугол, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.
Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.
Его глаза торчали навыкат, вылезали изо лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.
— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.
Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со щучьей загадочной улыбкой.
И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «шевроле». Млели белые купальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.
Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».
Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.
В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими «черными дырами» были Блок, Лермонтов, Шопен, «белыми» — Шекспир и Эйзенштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.
Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.
Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал: «А не видели ли вы, маэстро…»
Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»
Чревоугодник, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожняя мастерские других художников, он присоединил их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.
С особым смаком он показывал керамику. Томилась пепельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Это искус нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков.
Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.
Пикассо жаждал знать все.
Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.
— Они же не умеют слушать стихи в театре, — бурчал он.
Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.
Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии, — еще! еще! — жаждал вобрать в себя всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.
Осыпается небо.
Я привез снег в Антиб.
Темные зеленые рощи изумленно ежились, как крупной солью пересыпанные снегом.
Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. Его слова были окутаны паром. Пар исходил не только из губ его и ноздрей, пар шел изо всех пор его горячего тела, гневного столба его жизни, все тело его клубилось на морозе.
Так же под ярким синим небом, отходя от неожиданного снега, дымилась разомлевшая земля. Пар шел от мокрых скамеек, дымились и остро, пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов, ошпаренных снегом и потом солнцем. Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес.
В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его.
Не подозревая, что они ему позируют, внизу, под горой, млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как Ватерлоо старинной гравюры, бездонная загадка существования, история.
А надо всем этим слева от меня торжествовал, крякал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком как будто мыльной белой пены вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый и отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами.
Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе.
Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял столб пара. Пар рассеялся. Пикассо не было.
Я обернулся через двадцать лет.
Отношения с Жаклин сохранились. Я дважды приезжал погостить к ней в Антиб. Будто надеялся встретить там Пикассо.
Она становилась все неадекватнее. Наркотики уже не спасали.
Потом разнесла себе лицо выстрелом из пистолета.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Колобок
Колобок Колобок — персонаж одноименной русской народной сказки. Обычно Колобок предстает нам в виде небольшого желтого цвета сферического по форме хлеба, но говорящего человеческим языком, как и все другие сказочные персонажи.Старик и старуха «метут по амбарам» и
БЕШЕНЫЙ ТЕМП
БЕШЕНЫЙ ТЕМП Подписание договоров с арендаторами проходило как по маслу. Едва запустив этот процесс, мы совсем скоро сдали буквально каждый квадратный метр.К сожалению, того же нельзя было сказать о ходе работ. Мы действовали в предельно жестких временных рамках. Еще до
Езжу как бешеный
Езжу как бешеный Несмотря на переезд в новую квартиру, и Лили и Маяковский в тот год крайне мало бывали в Москве. Маяковский отсутствовал целых пять месяцев. Вернулся из Крыма в конце августа, а осенью снова несколько раз отлучался из столицы. Письмо, которое он прислал
Глава 12 Бешеный Пес Колл
Глава 12 Бешеный Пес Колл После завершения «сицилийской вечерни» в Америке не осталось ни одного босса, способного соперничать с Лаки Лючано в могуществе и влиятельности. Он по праву гордился собой, но не стал от этого высокомерным и заносчивым. Напротив, Лаки никогда не
Колобок Александр Конаныхин, «Всероссийский биржевой банк»
Колобок Александр Конаныхин, «Всероссийский биржевой банк» Судьба Александра Конаныхина напоминает сказку про Колобка. Еще в начале 1990-х годов он стал одним из самых богатых людей России и одним из первых бизнесменов, бежавших из страны. За ним охотились бывшие