Миллион раз
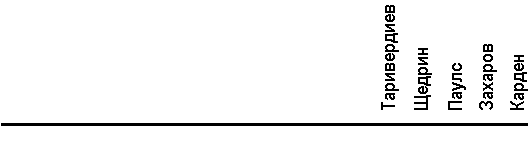
Миллион раз
Серебрянейший композитор, брат мой,
какой непоправимою бравадой
смыкается со строчками моими
паническое пианино.
И плачем мы. И светит воск с огарка
на профиль гениального сайгака.
И слышится в стремительных стаккато:
«Тоска такая…»
Прости, мой друг, мне этот мадригал.
Я по твоей подруге тосковал.
Блистательный Микаэл Таривердиев, для нас Мика, светский лев, загорелый красавец, которого сегодня даже зовут сексуальным символом, был кумиром интеллигентной Москвы эпохи 60-х.
Его изящная, трогательная нота пленяла среди бетонных блоков. Страстью его музыки была поэзия. Еще до знакомства со мною он написал цикл на мои стихи. А позднее, когда нас познакомила Соня Давыдова, большинство моих текстов стало его романсами. Он был деспотичен и требователен не только к певицам, которые стонали, обожая его. Мельчайшая зазоринка колола его в стихах. Так, написав музыку на мои стихи «Тишины», он не был доволен концовкой. «Тихие языки» в последней строке чем-то смущали его. Во время записи и на концертах он изводил меня, заменяя эпитет. Он пел то «желтые», то «красные», уж не помню какие еще языки. Потом успокоился на «тихих».
Эта тихая запись оглушила меня на его похоронах.
Прелестная, изысканная мелодика «Семнадцати мгновений», как конфетка в обертке шлягера, была проглочена всей страной. И может быть, кого-то исцелила.
Я был, мягко говоря, не шибко богат тогда, стрелял у знакомых. Меня не печатали, приходилось перебиваться переводами с языков народов СССР, но все уходило на застолья с переводимыми представителями народов. Именно тогда Володя Высоцкий помог мне продать «Золотого Дали». А может быть, сам свои деньги дал за него.
Мика корил меня. «Надо писать песни. Нельзя быть целкой в бардаке», — повторил он свою любимую присказку.
— Но ведь ты уже написал песни на мои стихи…
— Но это не песни — это романсы, — обиделся мой друг. — Песни должны иметь коммерческую музыку и текст. Вот сейчас я пишу для сериала, где наш супершпион совершает подвиги в логове врага. Куплю яхту. Художник должен жить красиво. Родион тоже пишет песни.
Родион Щедрин был его другом-соперником. Мика страстно ревновал, когда тот поставил меня на водные лыжи.
Мы крепко дружили с Майей и Родионом.
Я до головокружения люблю его 3-й концерт для фортепьяно с оркестром, с космическими вспышками в клавиатуре, люблю его фуги, когда он взлетает, нажимая на скоростные педали органа. Чего бы ни касался Родион Щедрин — он великий мастер. Он может быть одет в джинсовку, в водительскую кожанку, в литой костюм, костюм для виндсерфинга — все равно под этой суетной экипировкой просвечивает облегающая сильный торс прозодежда Мастера — консерваторский фрак, отливающий черным металлом, — звонкие латы рыцаря искусства.
Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русый композитор в это время замыслил «Поэторию» по моим стихам. Куски стихов моих он монтировал так же коллажно, как потом стриг фрагменты Бизе для своей «Кармен-сюиты». Я мог бы повторить на память всю его «Кармен-сюиту» с ее фантастическими «деревяшками».
«Поэторию» нашу тоже постоянно не разрешали к исполнению. Великие палочки Г. Рождественского, Е. Светланова, И. Гусмана, Ю. Темирканова вопросительно замирали — разрешат? не разрешат?
Одна великая балерина утверждала, что наши дирижеры не имеют яиц. «Ну, правда, у этого (она назвала знаменитое имя) — одно, у этого — два, зато у Темирканова — три!»
При первом исполнении «Поэтории» в Большом зале, разрешающий телефонный звонок последовал всего за несколько секунд до звонка в зрительном зале. Еще бы! Щедрин в «Поэторию» ввел церковные колокола, «Матерь Божию», хоры. Лет за 20 до разрешения торжеств тысячелетия Крещения Руси свел песнопение с концертной музыкой, ввел впервые в консерваторский зал авангардную пожарную сирену — так что публика во время репетиции ринулась к выходу, считая, что случился пожар, — а это, может быть, и было пожаром?
После эмиграции Эрнста Неизвестного имя его было запрещено, но Щедрин оставил стихи о нем в «Поэтории», дуря голову начальству, что речь идет о неизвестном лейтенанте Эрнсте. Публика все понимала. Бостонский фестиваль пригласил на исполнение Эрнста, как героя «Поэтории».
В тяжелые дни, когда имя мое было не принято упоминать, Родион демонстративно процитировал мои стихи в съездовском докладе.
Когда Таривердиев стал действующим Секретарем Союза композиторов при Щедрине, он сделал это во имя святого — для того чтобы побороть завистников и ретроградов. Все искупала беззащитная трогательная нота его!
«Надо писать песни».
Я пал. Как-то на пари я написал для Раймонда Паулса песенку «Барабан». Элегантный Паулс был тогда безумно популярен, и песня в исполнении Н. Гнатюка мгновенно стала шлягером.
Я проснулся утром и услышал шуршание за окном. Это был шорох не листьев, это шелестели купюры. Во всех ресторанах страны играли «Барабан». В матрасе и подушках шуршали купюры.
Тогда тутошние композиторы страшно обиделись. Какой-то Паулс, наглый латыш отнимает у них авторские! Обиделись, пошли жаловаться председателю Гостелерадио С. Г. Лапину. Тот был человек жесткий, хотя и рафинированно образованный.
Пришедшие выдвинули против Паулса обвинение: «Коварный прибалт совершил идеологическую диверсию. Он замаскировал в песне „Барабан“ мелодию… гимна Израиля!» В составе группы ходоков были люди разных национальностей. Но доходы — это святое. Один из композиторов умел играть на рояле. Он и сыграл Лапину, умело и остроумно передернув мотивчик этой песни в израильский гимн. Ничего общего у этих мелодий не было, но никто не знал гимна Израиля, думаю, и Лапин тоже. Но тогда Израиль был главный идеологический враг. Все от ужаса оцепенели. Песня была немедленно запрещена по всей стране.
Интересно, что те же люди потом пытались запретить «Юнону и Авось», но теперь уже за мотивы христианства.
Тут мы с Раймондом обиделись и назло врагам, и на радость народам сотворили «Миллион алых роз». Благо у меня были подобные стихи, а у Паулса прелестная мелодия. Мы отдали эти розы победоносной Алле Пугачевой.
После «Роз» я перестал писать песни. Попробовав себя и в этом жанре, как в спорте достиг результата, а дальше стало скучно. И хотя иногда берут мои стихи и кладут на музыку, как случилось со стихотворением «Плачет девочка в автомате», но делают это без меня.
Работая над оперой «Юнона и Авось», я понял, как каторжно работать с театром. А началось с того, что Марк Захаров пытался увлечь меня сделать оперу по «Слову о полку Игореве». Вместо этого я дал ему прочесть мою поэму «Авось!» о любви сорокадвухлетнего графа Рязанова к шестнадцатилетней Кончите. Долго выбирали композитора. Счастливый выбор Захарова пал на Алексея Рыбникова. Мощная музыка соединяла обрядовые мотивы и достоевский «рок». Название «рок-опера» было запрещено тогда, мы написали: «современная опера».
Пришлось вписывать целые арии и сцены. Блистательны были Николай Караченцов, Александр Абдулов и Елена Шанина, первая исполнительница героини. Конечно, оперу не могли разрешить. Виной были политические параллели, Америка, Россия, христианские мотивы, секс, рок и прочая чушь. Да еще Казанская Богоматерь пела при помощи ультразвука! Не помогла помощь Щедрина, Солоухина и других авторитетов. Может быть, нашими союзниками были дети из высших сфер? Помню, как нас окончательно запретили на Московском управлении культуры. Все резервы помощи были исчерпаны. Мы вышли на Кузнецкий подавленными.
— Андрей, у меня на примете есть еще кое-кто, который может помочь, — сказал неуверенно Захаров.
— Поехали!
Такси затормозило у Елоховского собора. «Зайдем», — предложил Марк. Мы поставили свечки у иконы нашей героини — Казанской Божьей матери. Я купил три образка нашей Матери-заступницы. И отвез их Караченцову и Шаниной.
Наутро оперу разрешили.
Может быть, Марк ночью и звонил кому-то. Но, как писал поэт: «Какое здесь раздолье вере!»
Смысл оперы сам меняется со временем. Вначале зрителям виделись сталинские лагеря, афганские гробы, летящие по небу, невыездные, стремящиеся в Америку, запретные секс и любовь. А теперь Караченцов играет нового русского, вылезающего на заокеанский берег.
Будучи в Париже, я рассказал Пьеру Кардену об опере, прокрутил пленку — тот был покорен. Театр был невыездной тогда. Не только подпольные рокеры, но и большинство лидеров труппы — хотя бы «растленный» Абдулов. Но Карден обратился прямо к Андропову, и всех сразу выпустили. Может быть, опять это было заступничество Богоматери.
Париж был покорен стихийным темпераментом Караченцова. В театр «Эспас-Карден», построенный Карденом когда-то для Жанны Моро, слеталась мировая элита. Ресторан «Максим» стал нашей столовкой.
Когда-то Карден пригласил меня встретить Новый год в его «Максиме».
— Но у меня нет смокинга, Пьер.
— У вас есть смокинг.
Вороное сияние одело мои плечи. Но где дома, в Москве, напялишь смокинг? Лишь однажды я надел его с джинсами на вечеринку.
Через пару лет в Париже был прием в «Максиме» после премьеры «Юноны и Авось».
— Но я не захватил смокинг из Москвы, Пьер.
Второй смокинг повис на моей вешалке.
На следующий год неуемный Пьер повез оперу в Нью-Йорк. Опять прием, но уже в нью-йоркском «Максиме». И опять я без смокинга. Третий бесполезный смокинг теснит мой гардероб.
Но через пять лет нашлось применение.
Американцы — снобы. Для получения своей премии «Камен уэлш» они требовали быть в смокингах. Их менеджер разговаривал со мной как с больным: «Вы видите, напротив есть магазинчик, там все наши лауреаты — и музыкант, и математик — берут напрокат смокинги. И вы можете, это недорого…» Я возмутился: «Мы в Москве ежедневно ужинаем. И непременно в смокингах». И патриотично извлек свой карденовский прикид.
Кутюрье отнюдь не портной, не толстосум. Я думаю, он нисходит к истокам Библии. Может, единственная ошибка Бога исправляется художниками одежды.
Звери созданы Богом в меховых шубах. И только голый, мерзнущий человек вынужден исправлять несовершенства Создателя. Каждое платье, джинсы, фрак — это укор и вызов Богу. Карден создает красоту не в галерее — он делает из толпы произведение искусства.
Явившись нищим итальянским студентом в Париж, начав работать у Кокто, он основал империю Кардена, став Пьером I. Он — французский Дягилев.
Он предложил раскрасить Эйфелеву башню, чтобы та не выглядела ржавым каркасом. Став членом Академии Бессмертных, прежде всего скроил им изысканную прозодежду. И спроектировал Меч Бессмертия. «Ах, эта чиновничья мода — застегивать пиджаки на три-четыре пуговицы, — сказал он мне. — Я никогда не пойду на этот стандарт». Его летящие лацканы застегнуты на одну пуговицу.
Он выпустил в Париже мой первый большой диск. Трижды предоставлял свой зал под мои вечера. Да и первая моя выставка видеом состоялась в «Эспас-Карден».
Влюбившись в «Юнону», Пьер предложил поставить ее на берегу Средиземного моря, чтобы настоящий корабль приставал к берегу и при настоящей луне шли любовные сцены. «Весь элитный мир я приглашу на премьеру». И он бы сделал это. Таков взгляд поэта. Ведь на парижские спектакли, не понимая русского, прилетали самолетами из Милана, Лондона, Нью-Йорка.
Когда выходили на поклоны после премьеры в театре Пьера Кардена, вся сцена была усыпана ковром из цветов. Это были орхидеи. Актеры шли по тысячам орхидей.
Это, конечно, не миллион роз. Но все-таки.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Пролог. Проблема на миллион
Пролог. Проблема на миллион Цифры способны заворожить кого угодно. Те, кто занимается математикой, склонны охотнее других людей наделять цифры смыслом.В 2000 году ведущие математики мира собрались в Париже, чтобы оценить состояние своей отрасли знаний. Это было событие
Миллион на монаха
Миллион на монаха Это несколько странное заглавие ставится мною над моим рассказом лишь потому, что под таким ярлыком числилось в свое время в Московской сыскной полиции ловкое и весьма оригинальное мошенничество, о котором я и намерен рассказать. Является ко мне
Миллион по трамвайному билету
Миллион по трамвайному билету Тут в ход событий вторглось новое обстоятельство: в июле мои неугомонные родители затеяли переезд — на этот раз из Октябрьского (Башкирия) в Клинцы Брянской области, совсем рядом с родиной моего отца Новозыбковом. Приезжают. Встречаю их на
Как заработать миллион
Как заработать миллион Мы с Наташкой решили заработать — сколько можно клянчить деньги у родителей! К тому же на эти деньги мы наконец-то сможем купить собаку! Вот мы и пошли собирать такое лекарственное растение — тысячелистник, его полно на поле за сеткой. Не знаю,
Миллион алых роз
Миллион алых роз Подарки Марине Краснер — особая тема. Дима её очень любил и готов был доказывать свою любовь постоянно. Кроме того, это было время, когда его финансовое положение давало возможность осуществить любое, самое запредельное желание.…Самолет в той канадской
МИЛЛИОН НА МОНАХА
МИЛЛИОН НА МОНАХА Это несколько странное заглавие ставится мною над моим рассказом лишь потому, что под таким ярлыком числилось в свое время в Московской сыскной полиции ловкое и весьма оригинальное мошенничество, о котором я и намерен рассказать.Является ко мне как-то
7. Ноги на миллион
7. Ноги на миллион Её появление на съёмочных площадках берлинских киностудий сопровождалось крошечными скандальчиками. Мария эпатировала кинематографическую публику, распуская слухи о собственной бисексуальности (что было правдой), часто одеваясь в мужские костюмы,
Миллион долларов за минуту
Миллион долларов за минуту Когда я жил в «Челси», я заработал больше всего денег за постановку коммерческого телеклипа для компании «Ройял краун кола»[3]. Мне предложили снять его, наверное, потому, что заказчику понравился конкурс в «Отрыве»; там я смонтировал одно за
Первый миллион
Первый миллион К 1914 году Жан Пол успел окончить Калифорнийский университет в Беркли[281] и Магдален-колледж[282] в Оксфорде. Выпускник вернулся в Оклахому, чтобы заняться семейным бизнесом. Отец назначил ему зарплату в 100 долларов в месяц. Уязвленный таким подходом, Пол решил
Как украсть миллион
Как украсть миллион Четверть века спустя после описываемых здесь событий за один рубль давали 0,51 доллара США. На обработке льна рабочий в среднем получал ежемесячно 12 рублей, хлопка — 14, в пищевой промышленности — 15, горнодобывающей — 17, бумажном производстве — 18,
Пугачевщина («Миллион алых роз»)
Пугачевщина («Миллион алых роз») Дубовцева: «Тем временем я, вдохновленная первой песней с Вознесенским, пошуровала еще по мелодиям того же фильма. Паулса потом упрекали: вот, мол, хитер, — но он, если честно, и понятия не имел, что у меня запись всей музыки к фильму и я
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН Сегодня в виртуальном пространстве Интернета без труда можно найти подписанные псевдонимами либо же (что чаще) никем не подписанные разоблачения истинной сути предпринимательской деятельности Леонида Черновецкого, благодаря которой он и заработал к 1992
28. Миллион наличными
28. Миллион наличными Предложение Вестингауза выглядело фантастично. Тесла даже не поверил своим ушам. Прибыв на Пятую авеню в окружении толпы советников, Вестингауз попросил у Теслы показать ему патенты – все, какими Никола располагает. Тесла достал из сейфа несколько
Миллион бесплатных рекомендаций
Миллион бесплатных рекомендаций Самостоятельно разработав новую стратегию маркетинга, Артур поставил первые экземпляры “Наутилуса” в “Канзас Сити Чифс” и “Бостон Ред Соке”. За короткий период двадцать две или двадцать восемь футбольных команд НФЛ и все, кроме
«Лотто миллион»
«Лотто миллион» Примерно 1995-й год, конец. Телевизор в один из редких периодов жизни, когда он появляется, гад, в нашем семействе. Птичка автора этих строк Салаватова Г. его смотрит и видит «Лотто Миллион»: выигрыш, который обещают, составляет два миллиарда рублей.— Два