СПОР ГРОЗНОГО И КУРБСКОГО. ИВАН IV КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОЛЕМИСТ
СПОР ГРОЗНОГО И КУРБСКОГО. ИВАН IV КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОЛЕМИСТ
Побег Курбского, несомненно, был крупным событием в политической истории того времени: среди детей боярских, которые и тогда, и позднее искали себе убежища в Великом княжестве Литовском, лица столь высокого ранга не встречалось. Однако в биографии царя побег Курбского стал важной вехой еще и потому, что заставил его взяться за перо для создания одного из своих главных сочинений — Первого послания Курбскому.
Нет сомнения, что побег боярина сильно задел царя, ведь в течение длительного времени его связывали с Курбским близкие, интимные отношения. Это не вызывало и не вызывает сомнений у исследователей, однако характер «близости» царя и его боярина нуждается в уточнении. Нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что Курбский когда-либо принадлежал к числу членов «ближней думы» — тесному кругу главных советников царя. Все, что мы знаем о «службах» Курбского, говорит о нем как о выдающемся полководце, военный талант которого царь, несомненно, ценил. Сам Иван IV, однако, вовсе не был воином, и его с князем Андреем не мог объединять общий интерес к военным делам. Есть основания полагать, что дружба царя и князя была дружбой двух книжников, погруженных в богословские размышления, среди которых не последнее место занимал вопрос о судьбах православного мира и роли, которая в этих судьбах была предназначена России.
В их размышлениях было много общего. Подобно царю, Курбский был готов защищать православную догматику от приверженцев «ложных учений»: находясь в Великом княжестве Литовском, он упорно выступал в защиту православия и против «латинян» — иезуитов, и против протестантов. Его так же, как и царя, наполняла печалью картина упадка православных царств, покоренных инославными завоевателями, подвергающими гонениям живущих под их властью православных — печальный образ состояния современного ему православного мира с большой силой был обрисован князем Андреем Курбским на страницах его послания старцу Псково-Печерского монастыря Вассиану, написанного незадолго до бегства боярина в Литву. Этой картине упадка, запустения и угнетения в послании противопоставлялся образ «Святой Руси» — единственного оплота истинной веры. «Вся земля наша Руская, — писал Курбский, — от края и до края яко пшеница чиста верою Божиею обретается: храми Божий на лицы ея подобии частостию звезд небесных водружены... Со Иеремиею (имеется в виду библейский пророк. — Б.Ф.) реши милосердие Господне должно есть: земля наша наполнена веры Божия и преизобилует яко же вода морская». У Курбского не вызывало никаких сомнений и то, что в походах на соседние государства царь служит миссии утверждения и распространения православия. Эти его взгляды получили четкое отражение в «Истории о великом князе Московском», написанной уже в эмиграции, в среде, где такие взгляды никак не приветствовались.
Детям боярским, отъезжавшим в то время в Литву, приходилось не только нарушать клятву верности своему государю, но и переходить из «своей» православной страны в «иной» мир, в котором хотя и жили православные, но власть находилась в руках правителя «иной» веры и свободно действовали еретики — «иконоборцы». Преодолеть такой барьер было тем труднее, чем более сознательно воспринималось человеком такое противопоставление. Ясно, что князю Курбскому должно было быть особенно трудно решиться на подобный шаг, и лишь крайность могла побудить его к этому решению.
Такой крайностью стали, судя по свидетельству Курбского, гонения, обрушившиеся на него со стороны царя: «Коего зла и гонения от тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл еси! И коих лжей и измен на мя не возвел еси».
Однако на вопрос, в чем именно состояли эти гонения, ответить нелегко. На протяжении 1561 — 1563 годов князь Андрей регулярно получал воеводские назначения (он, в частности, участвовал в походе на Полоцк 1563 года), а затем занял важный пост наместника Юрьева Ливонского, то есть главы всей русской администрации на территории Ливонии. Если даже считать это назначение известным актом немилости, так как Курбский тем самым лишался возможности общения со своим государем, то эта немилость совсем не была такого рода, чтобы заставить князя бежать в Литву.
Некоторый дополнительный материал для решения вопроса дают два послания Курбского старцу Вассиану. Одно из них было написано, по-видимому, осенью 1563 года, а другое — сразу после бегства воеводы за рубеж. В первом из этих посланий князь, не называя царя по имени, резко порицал его за жестокость. Правители, писал он, призываются к власти, «да судом праведным подвластных разсудят и в кротости и милости державу правят» (едва ли не дословное повторение того, что говорил молодому царю Сильвестр о его обязанностях), а теперешний правитель, царь, свирепее «зверей кровоядцев» и замышляет «неслыханные смерти и муки на доброхотных своих». Однако основное свое внимание в послании Курбский посвятил обличениям духовенства, которое накопляет богатства, угодствует перед властью и не обличает ее «законопреступные дела». Сопоставление со вторым посланием показывает, что резкая критика духовенства появилась на устах у Курбского не случайно. В этом втором послании Курбский прямо писал о себе, что «многажды в бедах своих ко архиереом и ко святителем... со умиленными глаголы и слезным рыданием припадах», но не получил никакой поддержки, а некоторые из них «кровем нашим поострители явишася». Эти упреки производят странное впечатление, когда речь идет о Курбском. Разумеется, высшее духовенство можно было упрекать в том, что оно не всегда пользуется своим правом «печалования» по отношению к опальным, но если бы Курбский был в опале, он не мог бы занимать высокий административный пост. За что же тогда он мог упрекать церковных иерархов? Дело разъясняет другой фрагмент послания, где говорится, что некие духовные лица «православных не устыдешася очюждати, еретики прозывати и различными... шептании во ухо державному клеветати».
Не имело смысла обвинять в ереси перед «державным», то есть перед царем, обычного воеводу, не выходящего за рамки своей воинской службы. Иное дело, если обвинение адресовалось такому высокообразованному человеку, как Курбский, охотно обсуждавшему с духовными лицами богословские вопросы (так, со старцем Вассианом он обменивался духовными книгами и, в частности, направил ему послание с предостережением не доверять так называемому «Никодимову евангелию»).
Следует учитывать при этом, что если взгляды царя и боярина на роль России в мире были весьма близки, то существенно различным было их отношение к разным группировкам в среде русского духовенства того времени. Уже к 50-м годам относятся свидетельства о связях молодого царя с обителью преподобного Иосифа Волоцкого — Иосифо-Волоколамским монастырем. В начале 60-х годов XVI века эти связи стали особенно тесными. Игумен монастыря Леонид сопровождал Ивана IV в походе на Полоцк, а возвращаясь из похода, царь посетил Иосифов монастырь, где его встретил старший сын. Под тем же годом в официальной летописи отмечено, что царь «понудил» Трифона Ступишина стать архиепископом в завоеванном Полоцке, так как тот был «постриженник... Иосифа игумена Волотцкого», а в декабре 1563 года царь особой грамотой освободил огромные владения монастыря от всех основных налогов.
В отличие от Ивана IV, Курбский, как видно из «Истории о великом князе Московском», был почитателем старца Артемия, осуждение которого он считал несправедливым, и врагом «вселукавых мнихов, глаголемых осифлянских», которых князь Андрей обвинял в накоплении богатства и угодничестве перед светской властью. Не было бы ничего удивительного в том, что осифлянские старцы обвинили его в ереси. В этом случае стало бы понятно, какого рода заступничества князь искал у святителей и других духовных лиц. Отрицательный результат его ходатайств поставил Курбского в очень тяжелое положение, и этим, думается, следует объяснять его решение о бегстве.
Такое решение Курбскому было принять тяжелее, чем многим из его современников, и он, как представляется, остро нуждался в оправдании своего поступка. Вероятно, именно это побудило его сделать то, чего другие беглецы не делали, а именно написать грамоту царю, в которой воевода возложил на царя ответственность за то, что с ним произошло.
Хотя Курбский провел всю жизнь в военных походах на службе царя и был покрыт «ранами от варварских рук в различных битвах», царь пренебрег его заслугами, «воздал злая возблагая» и подверг его гонениям, так что в конце концов, как заявляет князь Андрей, он «всего лишен бых и от земли Божия тобою туне отогнан бых». (Стоит отметить наименование здесь России «Божьей землей» — именно поэтому изгнание из нее стало таким большим несчастьем для Курбского.) Далее в послании говорилось, что Курбский не станет молчать, но будет «безпрестанно со слезами вопияти» против царя самому Богу.
Если бы Курбский ограничился этим, его письмо, может быть, не вызвало бы отклика и было забыто. Князь, однако, начал свою грамоту с утверждения: то, что случилось с ним, лишь частный случай того, что происходит в России с «сильными во Израиле» — боярами и воеводами. Они покорили «прегордые царства», «у них же прежде в работе были праотцы наши», они взяли «претвердые... грады ерманские», а за это царь воздал им лживыми обвинениями «в изменах и чародействе», притеснениями и казнями. И не один Курбский, но души казненных царем и люди, заточенные им в тюрьмы, «отмщения... просят». И Курбский выражал надежду, что за совершенные царем деяния он ответит на том свете перед «неумытным (неподкупным. — Б.Ф.) судией» — самим Христом. Таким образом, в послании в самой резкой форме были высказаны обвинения царю в несправедливости и беспричинной жестокости по отношению к окружающей его знати.
Однако дело не ограничилось и не могло ограничиться чисто политическими высказываниями. Для Курбского Иван IV был не просто государем его страны — России, но правителем «Божьей земли», на которого самим Богом возложена была миссия по утверждению и распространению в мире православия. Начав истреблять воевод, «от Бога данных ти на враги твоя», царь изменил своей миссии. Поэтому и свое послание Курбский начал с обращения к царю, который был некогда «пресветлым в православии», «ныне же... сопротивным обретеся». Смысл этих слов станет понятнее, если учесть, что «сопротивный» — в древнерусских текстах — это один из эпитетов дьявола. («Избави их... козни супротивного» — читается, например, в службе преподобному Сергию Радонежскому.) Пиры царя со своими сподвижниками в том же тексте названы «трапезами бесовскими», а «синклит» (советник) царя, который «шепчет во уши ложная царю и льет кровь крестьянскую яко воду», — Антихристом по своим делам. В той политической ситуации, которая сложилась в России весной-летом 1564 года, появление такого письма стало для царя серьезной неприятностью, тем более что были все основания опасаться, что Курбский вовсе не ограничится посылкой грамоты самому Ивану IV, а будет стараться распространить ее списки и в России, и за ее пределами.
К этому времени у царя сложились напряженные отношения со значительной частью правящей элиты, и распространение письма Курбского вряд ли могло способствовать их улучшению. Еще более важное значение имело другое обстоятельство. Летом 1564 года царь, несомненно, уже обдумывал те меры, осуществление которых позволило бы ему преодолеть противодействие знати и овладеть всей полнотой власти в государстве. Распространение письма Курбского могло побудить подданных к неповиновению и серьезно затруднить исполнение этих планов.
Следовательно, необходимо было дискредитировать Курбского (и его возможных единомышленников) в глазах общества, показать порочностьего взглядов и противопоставить этим порочным воззрениям правильные (с точки зрения царя) взгляды на личность самого Ивана IV и характер его власти. Не случайно написанный им ответ Курбскому имел весьма громкое название: «Благочестиваго великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси и послание во все его Великия Росии государство на крестопреступников князя Андрея Михайловича Курбского с товарыщи о их измене». Однако наряду с этим существовали и иные мотивы, побуждавшие царя взяться за перо. В Первом послании Курбскому ярко проявились характерные особенности личности царя Ивана, которые можно обнаружить и в других текстах, вышедших из-под его пера. Рассмотрим эти тексты с точки зрения оценки их автора как политического полемиста.
Среди множества литературных памятников, возникших в России в конце 40-х — 50-х годах XVI века, не удается обнаружить сочинения, которые можно было бы атрибутировать царю (за исключением, вероятно, некоторых пассажей в царской речи на Стоглавом соборе 1551 года). Для начала 60-х годов положение выглядит иначе. Так, в присяге на верность, которую члены будущего регентского совета принесли царю Ивану летом 1561 года, читаем их обязательство действовать в будущем «по душевной грамоте и по розрядной грамоте, какову грамоту он, государь наш, написал о розряде сыну своему царевичу... Ивану». «Душевная» (или духовная) «грамота» — это завещание, но что же такое «разрядная грамота»?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к сохранившемуся тексту завещания Ивана IV. К началу 60-х годов XVI века давно определилась форма, по которой писались завещания московских государей. Их содержание, по существу, сводилось к распоряжениям о разделе между наследниками казны, а также владений и статей доходов. В завещании же Ивана IV, помимо прочего, мы читаем также обширные наставления сыновьям о том, как им следует строить отношения друг с другом и управлять своими подданными. Очевидно, именно такого рода наставления, первоначально еще не включавшиеся в текст завещания, имелись в виду в присяге 1561 года. Трудно сказать, каково было конкретное содержание таких наставлений в их первоначальной версии, но есть основания думать, что уже тогда они представляли довольно сложный в литературном отношении текст, в котором конкретные советы и указания, изложенные точным канцелярским языком своего времени, перемежались наставлениями нравственными, написанными литературным, книжным языком и включавшими в себя обширные цитаты из Писания. Тем самым наставления приобретали характер своего рода литературного произведения, что, по-видимому, отвечало желанию царя.
К тому же времени относится и активное вмешательство царя в ведение дипломатической переписки с соседними государями, вмешательство, в котором получили яркое выражение некоторые характерные черты его личности. Первым документом такого рода является ответ литовским послам от декабря 1563 года.
Чтобы правильно понять свидетельства этого источника, следует хотя бы кратко коснуться тех традиционных форм, в которые с конца XV века выливалось противостояние Московской Руси и Великого княжества Литовского. Спор между ними был спором из-за белорусских и украинских земель, в котором главным аргументом с московской стороны была ссылка на то, что эти земли — «вотчина» потомков Владимира Киевского, а этими потомками являются именно московские государи, а не великие князья Литовские — потомки Гедимина. Расширение этого спора на Ливонию не изменило его характера, так как Ливонию в Москве рассматривали как одну из «вотчин» русских государей, лишь переданную во временное владение ливонским рыцарям. При таком принципиальном характере спора не имело значения, какова была личность правителя, стоявшего во главе Великого княжества Литовского, религиозные взгляды его подданных или ливонцев, характер отношений между ним и его подданными. Соответственно, этим сторонам дела в русской аргументации традиционно не уделялось внимания. В своем основном содержании ответ литовским послам от декабря 1563 года воспроизводит характерные для русской позиции аргументы, но наряду с этим в нем начинают звучать совершенно новые интонации.
Они заметны уже там, где говорится о причинах Ливонской войны. Да, в свое время предки царя отдали Ливонию рыцарям и допустили, чтобы они «арцибискупа и мистра и бискупов... по своему латинскому закону обирали», но «как они свой закон латынской порушили, в безбожную ересь отпали, ино на них от нашего повеленья огонь и меч пришел». Царь следует в этом примеру «правоверствующих царей», которые всегда карали еретиков. Иван IV настолько проникся сознанием значимости возложенной на него Богом священной миссии, что оправдывает ею правомерность своих действий перед лицом политиков, для которых эти аргументы заведомо не были убедительны.
В отличие от традиционной дипломатической переписки текст ответа насыщен прямыми обращениями царя к Сигизмунду II, содержащими эмоциональные оценки действий и поступков этого правителя.
Главная интонация этих высказываний — это интонация гневного обличения. Действия короля вызывают у русского самодержца возмущение, которое он и выражает открыто на страницах ответа: царь не может сохранять мир с Сигизмундом II, «видя брата своего таковую гордостную, яростную, лукавую, несостоятелную неправедную неприязнь»; не может быть мира, потому что Сигизмунд II «с злобною яростью дышет ко всему християнству, а к нам гордостию и нелюбостью обнялся». Изложение доводов русской стороны завершается резкой репликой: «А кто, имея очи, не видит, уши слыша, не разумеет, и тому как ведати?» Перед нами как бы моментальные снимки тех взрывов гнева, которые, по наблюдениям Максима Грека, были характерны для царя уже в ранней юности, а после избавления от опеки советников, очевидно, стали проявляться с новой силой. Если в таком резком тоне Иван IV мог писать своему «брату» — великому государю, то ясно, какие взрывы гнева вызывало неповиновение подданных.
Гневное обличение сопровождается наставлениями, в которых царь, цитируя авторитетные тексты, назидательно поясняет Сигизмунду II, как тому как государю следовало бы себя вести. Отвергнув с возмущением утверждения Сигизмунда II о его правах на Ливонию («таковой лукавой недостойне неправде, кто не посмеется»), Иван далее поучает Сигизмунда II: «Всем государем годитца истинна говорить, а не ложно: светильник бо телу есть око, аще око темно будет, все тело всуе шествует, в стремнинах разбиваетца и погибает».
Назидание соединяется в высказываниях царя с еще одной эмоциональной интонацией — ядовитой, злой насмешкой. Наставляя Сигизмунда II, что, признав своим «братом» шведского короля Густава Вазу, тот «не разсмотряет своей чести» и наносит урон своему высокому монаршему достоинству, царь саркастически замечает: «Ино то он брат наш ведает, хоти и возовозителю своему назоветца братом, и в том его воля». Появление такой интонации также нельзя никак считать случайной: снова приходится вспомнить Максима Грека, который отмечал склонность молодого правителя к злословию.
Ответ литовским послам был не единственным сочинением того времени, в котором особенность писательской манеры Ивана Грозного получила отражение. Еще раньше, летом 1563 года, шведский король Эрик XIV предложил Ивану Васильевичу «мир бы и доброе соседство со царем и великим князем держати, а не с ноугородцкими наместники», то есть выразил желание, чтобы русский правитель признал его равным по рангу государем. Увидя в этом умаление своей чести, царь написал к королю в своей грамоте «многие бранные и подсмеялные слова на укоризну его безумию». Текст этой грамоты до сих пор не найден, но приведенная запись официальной летописи дает ясное понятие о ее характере. Само же появление подобной записи в официальном изложении деяний монарха говорит о том, что царь придавал значение такой форме своей писательской деятельности и стремился сознательно подчеркнуть ее.
Уже в ответе литовским послам, первом тексте, где очевидны значительные следы вмешательства самого царя (вероятно, диктовавшего те или иные вставки при чтении ему подготовленного дьяками текста), заметно большое разнообразие средств, применявшихся царем для оформления своих высказываний. Назидая, он использует «высокий», книжный, литературный язык своего времени, насыщенный образами и выражениями из Писания; издеваясь над своим корреспондентом, царь переходит на живой, почти разговорный язык. Для литературной практики того времени, предусматривавшей для каждой сферы письменной деятельности свой особый, выработанный и как бы освященный традицией набор форм и средств выражения, это было, конечно, необычным и новым, но вряд ли в этой связи можно говорить о каком-то сознательном литературном новаторстве. Скорее, в своем писательстве, как и в других сферах своей деятельности, царь просто не допускал, что могут существовать какие-то нормы, которым он должен следовать; он был «выше» этих норм и свободно фиксировал на бумаге те слова, которые в данный момент приходили ему на ум.

Венчание и брачный пир великого князя Василия III Ивановича и Елены Глинской. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Василий III. Гравюра из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна. (Издание 1557 г.)

Раздача милостыни в Москве по случаю рождения Ивана IV. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Крещение Ивана IV. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Троице-Сергиев монастырь в XVI в. Реконструкция В. И. Балдина.

Великий князь Василий Иванович. Парсуна. XVII в.

Рисунок Кремля с изображением главнейших храмов. Из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии».

Святитель Макарий, митрополит Московский. Фрагмент складня. Работа Истомы Савина. Конец XVI — начало XVII в.
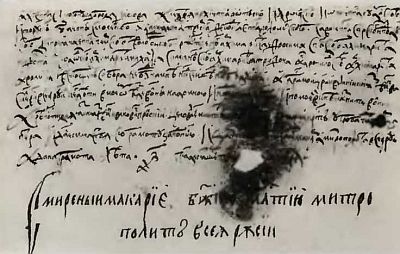
Автограф митрополита Макария на грамоте князю И. И. Пронскому-Турунтаю. 1547 г.

Казни бояр под Коломной в 1546 г. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Побиение Федора Воронцова. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Московский Чудов монастырь. Фото 1882 г.

Грановитая палата Московского Кремля.

Венчание Ивана IV на царство. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Архангельский собор Московского Кремля.

Царское место Ивана Грозного в Успенском соборе 1551 г.

Успенский собор Московского Кремля.
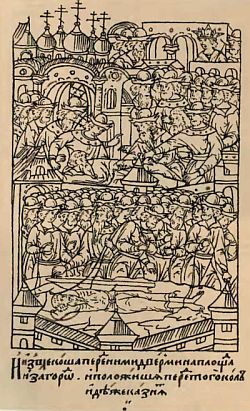
Восстание в Москве 26 июня 1547 г. Убийство Юрия Глинского. Миниатюра Лицевого летописного свода.
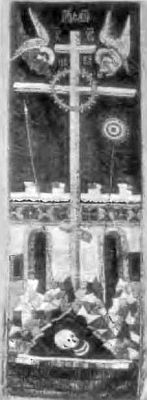
Покров. Вклад в Троицкий монастырь царя Ивана IV и царицы Анастасии 1557 г.

Максим Грек. Рисунок из рукописи XVI в.

Иосифо-Волоколамский монастырь.

Хоругвь Казанского похода. XVI в.

Иван Грозный молится перед чудотворной иконой Владимирской Божией Матери в Успенском соборе накануне выступления из Москвы на Казань. Миниатюра Лицевого летописного свода.

Татарский воин. Гравюра XVI в.

Башня Сююнбеки в Казани. Фото 1886 г.

Осада Казани русскими войсками. Миниатюра «Казанской истории». XVII в.

«Шапка Казанская» Золотой царский венец Середина XVI в.

Покровский собор (храм Василия Блаженного).

Строительство Покровского собора. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в. Фрагмент.

Приведение бояр к присяге во время болезни царя Ивана Грозного в 1553 г. Миниатюра Царственной книги XVI в.

Казань в XVII в. Со старинной гравюры.

Иван Грозный. Фреска Новоспасского монастыря. XVII в.
Можно отметить одну общую особенность всех высказываний Ивана IV, адресованных польскому королю: и обличение, и поучение, и насмешка утверждали превосходство царя над тем, к кому он обращался (хотя бы, как в данном случае, от имени бояр). Иван IV, конечно, не питал никаких иллюзий насчет того, что эти его высказывания могут оказать какое-то практическое воздействие на политику Сигизмунда II. Никакой конкретной политической цели он при этом и не преследовал. Цель была другая и лежала она в эмоционально-психологической сфере: изливая свои чувства на бумагу и тем самым предавая их гласности, царь утверждал свое превосходство над Сигизмундом II в собственном сознании. Было бы неправильно видеть в этих высказываниях спонтанный взрыв чувств, непосредственную реакцию на конкретные действия короля. Действия Сигизмунда II, в особенности его вмешательство в ливонские дела, давно вызывали недовольство царя, но пока сохранялись надежды достигнуть мирного соглашения с Великим княжеством Литовским, он скрывал свои чувства и позволил им вырваться наружу, лишь когда между государствами началась война.
Однако и с учетом этой оговорки разобранный текст позволяет констатировать, что в начале 60-х годов XVI века царь Иван превратился в человека, впадавшего в глубокий гнев и раздражение при столкновении с каким-либо противодействием своим планам и испытывавшего глубокую потребность в «уничтожении» оппонента с помощью средств духовного воздействия, в особенности, если он по каким-то причинам оказывался за пределами воздействия физического.
Можно не сомневаться, что грамота Курбского вызвала глубокий гнев царя, а невозможность наказать изменника делала особенно острой потребность «уничтожить» его с помощью пера.
Царь и как политик, и как личность стремился как можно скорее дать ответ на обвинения своего боярина. Курбский бежал в Литву 30 апреля, и, следовательно, с его грамотой царь мог ознакомиться никак не раньше мая. Но уже к 5 июля он закончил работу над весьма обширным по размерам сочинением, которое получило в научной литературе условное название Первое послание Курбскому.
Первой ближайшей целью царя при создании этого произведения была дискредитация Курбского в глазах читателя. Причем дискредитация настолько сильная, чтобы впоследствии читатель даже не стал брать в руки тексты, принадлежащие этому автору.
Потому в самом начале своего послания царь обращается к своему бывшему боярину как к «крестопреступнику честнаго и животворящего креста Господня и губителю хрестианскому и ко врагом християнским слагателю, отступившему божественнаго иконного поклонения и поправшему вся священныя повеления и святыя храмы разорившему, осквернившему и поправшему священные сосуды и образы». Далее царь обосновывал эти обвинения, которые для русского читателя ставили Курбского как «осквернителя» христианских храмов и иконоборца за пределы христианского мира и заранее подрывали доверие ко всему, что он говорит в данный момент и может говорить в будущем.
На чем же Иван IV основывал свои обвинения? Отъехав в Литву, Курбский не только нарушил клятву верности царю и стал «государским изменником». Единственным оправданием его отъезда могло бы служить притеснение в вере, но царь безукоризнен в своем православии и Курбский не может доказать противного. А выступление против православного царя, препятствие ему в выполнении миссии, возложенной на него Богом, есть выступление не только против царя, но и против Бога («на человека возъярився, на Бога вооружилися есте и на церковное разорение»). Покинув «Божью страну» — Русскую землю, во время ее войны с Литвой, страной, в которой власть находится в руках еретиков — иконоборцев, а истинные христиане должны скрываться, Курбский встал на сторону врагов христианской веры и, следовательно, одобряет все их нечестивые деяния. [4] Отсюда вытекал и тот вывод, что Курбский и другие подобные ему люди, нашедшие себе приют в Литве, находятся во власти дьявола. Тем самым должны были утратить всякую силу и утверждения Курбского, что царь «сопротивным обретеся».
Нарисованный в начале послания образ Курбского в дальнейшем изложении расцвечивался новыми красками. В полемике царь ловко использовал то обстоятельство, что Курбский не смог указать каких-либо явных свидетельств гонения на него со стороны царя. Он резонно указывал, что если бы он преследовал Курбского, то не послал бы его наместником в Юрьев Ливонский («не бы возможно тебе было угонзнути к нашему недругу, только бы наше гонение тако было»).
Это позволило царю представить Курбского неблагодарным человеком, который, будучи осыпан наградами и милостями, «возда злагая за благая». Он бежал в Литву не потому, что ему грозили гонения и смерть, а следуя своей порочной, унаследованной от предков натуре («своим крестопреступным обычаем, извыкше от прародителей своих измены»), и монарх подробно перечислял все крамолы, совершенные предками Курбского по отцовской и материнской линии по отношению к Ивану III, Василию III и ему самому в дни его малолетства.
Квалифицировав поступок Курбского как отступничество от христианской веры, царь настойчиво искал следы такого отступничества в самом тексте послания Курбского, обнаруживая при этом немалую изобретательность. Курбский оказывается последователем то саддукеев, то фарисеев, то новатианской ереси, то манихеев. Поводом для этого служат отдельные слова и выражения, которые царь активно истолковывает в нужном ему духе. Примером может служить выражение в послании Курбского «кристьянские предстатели», которым боярин обозначил воевод, подвергшихся гонениям со стороны царя. Выражение это, по-видимому, означало первых, лучших среди христиан. Так как, по мнению царя, «предстателями» можно называть только «небесныя силы», то Курбский, назвав «предстателями» «тленных человек», следует тем самым воззрениям язычников — «эллинов», которые обожествляли земных людей. Знакомство с такими пассажами послания Ивана IV заставляет думать, что Курбский отнюдь не беспричинно опасался обвинений в ереси. Явная натянутость таких обвинений была ясна уже современникам.
Главным содержанием Первого послания царя был ответ на обвинения, выдвинутые Курбским в его адрес. Разобрав послание боярина фразу за фразой, царь подробно опровергал все его обвинения, то как лживые, то как неосновательные, противопоставляя им свой взгляд, свое понимание событий. Обвинения Курбского лишь частично касались отношений государя и боярина; он представлял себя лишь одним из многих представителей знати, подвергшихся несправедливым казням и гонениям вместо благодарности за свою верную службу. В соответствии с этим и Грозный в своем ответе должен был говорить о своих отношениях не только с Курбским, но и вообще со знатью, боярами. Тем самым спор Грозного и Курбского выходил далеко за рамки личной полемики, становясь важным явлением русской общественной мысли середины XVI века.
Значительную часть послания Ивана IV занимает очерк отношений царя со знатью, начиная со смерти его отца Василия III. Еще при жизни его матери Елены, когда государству угрожали многочисленные внешние враги, знать не сохранила верности своему государю. Некоторые из бояр, как князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, бежали в Литву, «отовсюду на православие рати воздвизающе». Другие остались в Москве, но тайно способствовали литовцам: «недругу нашему литовскому державцу почали вотчину нашу отдавати; грады Радогощ, Стародуб, Гомей». Эти же бояре побудили дядю царя, князя Андрея Старицкого, поднять мятеж и «приложилися» к нему.
Еще хуже положение стало после смерти Елены Глинской, когда бояре истребляли людей, «доброхотных» царю, расхищали государственную казну, присваивали себе «дворы, и села, и имения», относились к своему государю с явным пренебрежением, игнорируя его желания и удаляя из его окружения угодных ему людей. Наконец, когда царь взял в свои руки государственные дела, а в Москве случился пожар, «изменные бояре... научиша народ» напасть на царя и царских родственников.
Позже, на «соборе примирения», царь простил боярам все, что они совершили в годы его малолетства, и «яко благи начахом держати». Но бояре снова стали служить государю «лукавым советом... а не истинною». Не совершая каких-то открытых проступков, бояре, воспользовавшись влиянием на царя попа Сильвестра, фактически лишили его власти в государстве, которая оказалась в руках олигархии, использовавшей государственные имущества для своего обогащения и привлечения сторонников («вотчины ветру подобно раздаяли... и тем многих людей к себе примирили»). Эти олигархи решали все вопросы по своей воле, «ничто же от нас пытая», снова игнорируя волю и желание царя. А когда царь в 1553 году заболел, бояре хотели возвести на трон Владимира Старицкого, «младенца же нашего еже от Бога даннаго нам, хотеша подобно Ироду погубити».
Когда же речь шла о защите государства от врагов, о борьбе с внешней опасностью, то здесь бояре оказывались неспособны к каким-либо активным действиям, подобно тому, как в годы малолетства царя они «не могоша от варвар християн защитити». В походы на Казань бояре ходили только по принуждению со стороны царя («Сколько хожения не бывало в Казанскую землю, когда не с понуждением хотения ходисте!» — восклицал царь, обращаясь к Курбскому и другим боярам), а во время походов старались как можно скорее вернуться домой («скорейши во своя возвратитися»). Из-за их медлительности и нерешительности, вечных возражений («вся яко раби с понужением сотвористе... паче же с роптанием») русские войска не смогли быстро занять всю Ливонию несмотря на постоянные приказы царя.
Нетрудно видеть, что обвинения, вполне соответствующие действительности (как, например, обвинения в злоупотреблениях знати в годы боярского правления), соседствуют с вымышленными. Так, даже в той редакции официальной летописи Грозного, которая была составлена заведомо после написания послания (так называемой «Царственной книге»), мы не найдем обвинения бояр в сговоре с литовцами во время русско-литовской войны 30-х годов XVI века. Сами же обвинения не свободны от весьма серьезных логических противоречий: так, например, если царь был фактически лишен власти и все делалось помимо его желания, то как он мог в то же самое время принуждать бояр совершать походы в Казанскую землю. Стоит отметить и то, что о государственной деятельности Боярской думы в 50-х годах XVI века царь по существу не мог сказать ничего плохого, кроме того, что все делалось помимо его воли и желания.
Все это, однако, мог заметить далеко не каждый читатель послания. В сознании же большинства читателей запечатлевался созданный яркими красками образ знати, всегда крамольной, всегда своекорыстной, не способной и не желающей действовать во имя интересов государства.
Не удовлетворившись обличением действий своей русской знати, царь стремился показать, что такие ее действия — не какая-то досадная случайность, не следствие дурного характера отдельных лиц. Напротив, в самых разных странах и в самые разные времена, там, где дела идут по ее «злобесному хотения разуму», это приводит к гибели государства. В этой связи царь обращается к самому авторитетному для древнерусского читателя примеру — истории Римской (затем — Византийской) империи. Ее правители некогда правили «всею вселенною», но постоянные раздоры знати привели к постепенному ослаблению этой державы, отпадению от нее разных стран, а затем — ее гибели. Этот очерк событий, приведших к упадку и гибели Византии, совсем не случайно предшествовал в послании обличению действий русской знати.
Все это должно было привести читателя к выводу, который настойчиво навязывал ему царь: его действия против «изменников», пытавшихся узурпировать власть и распоряжаться ею от имени монарха, не только справедливы и обоснованны, но и спасительны для государства, в особенности такого, как Россия, которому постоянно угрожает внешняя опасность. Когда власть полностью находилась в руках бояр, государство беспрепятственно разоряли внешние враги, когда же царь смог влиять на дела, он заставил бояр вести войну с «варварами», а когда он отстранил изменников от власти, «тогда и та царствия (Казанское и Астраханское. — Б.Ф.) нашему государству во всем послушны учинишася и множае треюдесять тысящ бранных исходит в помощь православию». Сформулированные в послании идеи о том, что знать всегда представляет собой реакционную, деструктивную силу, которую постоянно надо усмирять ради сохранения самого государства, и что лишь единоличная, сильная, ничем на ограниченная власть монарха может сохранить государство, укрепить и защитить его от внешних врагов, с этого времени заняли важное место в сознании русского общества не только эпохи Средневековья, но и Нового времени. В течение длительного времени они оказывали воздействие и на представления исторической науки о путях развития России.
Первым памятником древнерусской литературы и общественной мысли, в котором эти политические идеи Ивана IV нашли своеобразное воплощение, стала «Казанская история» — повествование об отношениях Руси с Золотой ордой, а затем — Казанским ханством и о покорении Казани Иваном IV. Подобно упоминавшемуся выше Ивану Пересветову, неизвестный автор «Истории» был человеком с необычной жизненной судьбой. Попав в юности в плен к казанцам, он был подарен казанскому хану Сафа-Гирею. Пленник сумел завоевать расположение хана, тот взял его «в двор свои... перед лицем своим стоять». Он выучил татарский язык и читал татарские книги. Во время походов Ивана IV на Казань он «изыдох» из этого города «на имя царево московского», был крещен и получил от царя небольшое владение («мало земли»).
Воздействие политических идей Ивана IV в этом произведении прослеживается как бы в двух планах. Прежде всего, в определенном противоречии с общей направленностью своего повествования о неизбежной победе христианской Руси над мусульманскими ханствами — наследниками Золотой орды автор называет одной из причин падения Казани раздоры в среде казанской знати. В «Казанской истории» можно прочесть о том, как после смерти сильного правителя — хана Сафа-Гирея казанские вельможи «всташа сами на ся и почаша ся ясти, аки гладные волци»; есть здесь и рассуждения казанцев о том, что царь Иван вряд ли смог бы взять Казань, если бы не распри в среде казанской знати, если «не брань бы в них была, и не междоусобица и не изменство к своим людем».
Однако не лучше в изложении автора «Казанской истории» выглядит и русская знать. Именно из-за «крамол» бояр, ослаблявших своими смутами страну, не желавших энергично вести войну против татар, а то и готовых прекратить войну за взятки, Русское государство в течение длительного времени не могло покорить Казань. Так, попытка подчинить Казань мирным путем не удалась из-за того, что посланные царем воеводы «почаше... веселитися... и прозабывашеся в пьянстве». В рассказе о походе 1552 года автор подчеркивал, что царь должен был сам возглавить войско, так как не мог положиться на бояр и воевод, которые «живут... в велицей славе и богатстве», а «подвизаютца лестно и нерадиво... вспоминающе... многие имение и красныя жены своя и дети». При выступлении в поход бояре, согласно «Казанской истории», каялись перед царем: «Иногда нерадением и леностию одержими бехом и лестию тебе служихом». Позднее те же бояре, «обленевающеся служити», советовали Ивану IV снять осаду с Казани. В обличении боярских «крамол» автор «Казанской истории» заходил еще дальше, чем царь, обвиняя русскую знать в прямом сговоре с казанцами. Так, по его словам, бояре, казненные царем в 1546 году в лагере под Коломной, были «крестьянстии губители, бесерменские поноровники», а вместе с ними в деле были замешаны и многие другие бояре, которые избежали смертной казни лишь благодаря поспешному бегству. Написанная в 1564 — 1565 годах «Казанская история», несомненно, сыграла свою роль в политической борьбе, привлекая симпатии общества на сторону царя и против знати. Памятник, переписывавшийся позднее, в XVII—XVIII веках, в сотнях списков, стал одним из каналов, по которым политические взгляды Ивана IV проникали в сознание русского общества.
Вернемся, однако, к Первому посланию царя Курбскому. Хотя текст его содержит важные рассуждения на политические темы, перед нами не просто политический трактат, а полемический памфлет. Наряду с читателем, к которому в конечном итоге текст обращен, царь все время имеет здесь перед собой оппонента (или оппонентов), с которыми он ведет спор.
Даже беглое знакомство с произведением показывает, что, как и в разбиравшемся выше ответе Сигизмунду II, царь стремится всеми возможными способами продемонстрировать превосходство над оппонентом, морально «уничтожить» его, прибегая по очереди то к обличению, то к поучению, то к ядовитой насмешке. Однако эмоциональная острота послания оказывается гораздо более высокой. И это понятно. Сигизмунд был равным по рангу государем, который вызывал недовольство тем, что противодействовал политике царя на международной арене. Курбский же был слугой и подданным, который не только нарушил присягу, но и посмел публично оправдывать свой поступок и порицать действия царя. Отсюда та переполнявшая царя ярость, то эмоциональное возбуждение, которое быстро начинает ощущать читатель текста. Проявления этого эмоционального возбуждения разнообразны. Царь снова и снова обращается к одним и тем же сюжетам, цитируя и опровергая особенно возмутившие его слова, он постоянно задает вопросы, на которые его оппонент не сможет найти ответы, с его уст срываются грубые слова и выражения.
Послание не представляет собой литературного произведения в собственном смысле слова как плод сознательных усилий по созданию определенного текста. Напротив, создается полное впечатление, что текст возникает как бы на глазах читателя. Царь читает текст Курбского и тут же диктует возражения, затем снова возвращаясь к тем или иным местам, когда те или иные ассоциации снова вызывают их в памяти. Еще в большей мере, чем тексты ответа Сигизмунду II, многие фрагменты послания воспринимаются как своеобразные снимки конкретных психологических состояний. Видно, как по ходу диктовки, по мере того, как царь в полной мере ощущает значение слов Курбского, в нем нарастает раздражение. Становясь в позу ученого наставника, поучающего невежду, и прибегая при этом к возвышенным конструкциям ученого литературного языка своего времени, царь затем, приходя во все большее раздражение, все больше оставляет этот язык, переходя на изобилующее ругательствами просторечие, в котором наиболее часто употребляемыми словами оказываются эпитеты «злобесный» и «собацкий».
Такой своеобразный характер текста позволяет с исключительной яркостью представить себе черты личности его автора. Царь выступает как человек, уверенный в своем превосходстве над окружающими во всех отношениях. Он не только господин и повелитель, но учитель и наставник в разных областях и светского, и церковного знания. Вместе с тем это человек, который не терпит никакого прямого или косвенного противодействия, вызывающего у него приступы раздражения и гнева. Всякое такое противодействие, проявляющееся в словах или поступках, он воспринимает как измену, а изменники заслуживают самых суровых наказаний.
Поскольку советники царя придерживались освященных традицией и усиленных практикой 50-х годов норм отношений между государем и его советниками и пытались их отстаивать, новые конфликты между царем и его окружением были неизбежны. Особого внимания заслуживает та настойчивость, с которой царь снова и снова настаивает на своем «природном» праве на полную и неограниченную власть в государстве. Именно эта, почти маниакальная настойчивость, как представляется, говорит о живущем в сознании царя чувстве внутренней неуверенности в том, что его подданные с этим согласятся, что его право на неограниченную власть не встретит с их стороны возражений. Отсюда та ожесточенность, с которой царь клеймит всех тех, кто с этим правом не считается.
Могло ли написанное царем сочинение привлечь симпатии общества на его сторону в его споре со знатью? Вряд ли образ общества, разделенного на правителя и рабов, беспрекословно выполняющих все его распоряжения, мог вызвать большой энтузиазм. Однако общество не могло пройти и мимо рассуждений царя о вреде многоначалия, о том, что только сильная единоличная власть может обеспечить единство и целостность государства, находящегося во вражеском окружении. Боярские смуты малолетства Ивана IV были у всех в памяти. Думается поэтому, что послание царя в определенной мере способствовало тому, что политический переворот, предпринятый царем через несколько месяцев после появления послания, не столкнулся с открытым сопротивлением со стороны подданных.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
V. «Есть Россия Курбского и Герцена…»
V. «Есть Россия Курбского и Герцена…» Есть Россия Курбского и Герцена, Та, что и у нас теперь на сердце, на Совести: мы деспотам — враги,— Но в стране, где воля Иоаннова, Николая или же Ульянова, Разве только не видать ни зги? Там ведь столько эмигрантов
Рождение героя: как сочиняли Курбского
Рождение героя: как сочиняли Курбского История беглого князя, первого русского политического эмигранта и даже, как его иногда называют, первого диссидента была сильно мифологизирована еще при жизни Курбского, а после его смерти обросла такими легендами, что личность
Так кем он был? Вспомнить настоящего Курбского!
Так кем он был? Вспомнить настоящего Курбского! На этом, наверное, стоит поставить точку, хотя, конечно, в наш небольшой обзор вошли далеко не все сочинения, в которых содержался миф о Курбском. У читателя наверняка назрел вопрос: речь шла о мифе, морально-этического или
Существовала ли переписка Курбского и Грозного?
Существовала ли переписка Курбского и Грозного? Князь Курбский вошел в историю не благодаря своей биографии. Мы просто знаем о нем чуть больше, чем о сотнях других русских бояр и воевод, которые не оставили автобиографии, обширной переписки, не бежали из страны и не
Роковая женщина князя Курбского
Роковая женщина князя Курбского Если захваты соседских имений и войны с соседями Курбскому в принципе удавались, несмотря на потери верных слуг, то на другом поприще – приумножении владений путем выгодной женитьбы – его постигла неудача, сильно испортившая ему
«Пусть злой много на свете не живет»: смерть Курбского[209]
«Пусть злой много на свете не живет»: смерть Курбского[209] Неудачный брак с Гольшанской ничему не научил Курбского, и он с упорством, достойным лучшего применения, продолжал наступать на одни и те же грабли. В 1579 году он женился в третий раз, теперь выбрав жену не столь
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕХ ПОСЛАНИЙ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕХ ПОСЛАНИЙ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ Помещаемые ниже тексты ни в коей мере не претендуют на дословность перевода лексических единиц. Эти качества в полной мере представлены в уже существующих работах[223]. Вниманию читателей предлагается
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ [Я пишу к] царю, [изначально] прославленному от Бога, пресветлому в православии, [которому Господь даровал победы над многими царствами и который должен вести свой народ в Царствие Небесное и отвечать
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ Краткий ответ Андрея Курбского на [не в меру] пространное послание великого князя московского.Твое послание, [посвященное очень многим вопросам и столь шумно их обсуждающее],получил, и уразумел, и
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ
ПЕРЕВОД-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПОСЛАНИЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ Ответ недостойного Андрея Курбского, князя Ковельского, на второе послание царя великого московского.Пребывая из-за твоих гонений в изгнании и в убожестве, [пишу тебе],опустив твой великий и
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ КУРБСКОГО 1528, октябрь или ноябрь — у Михаила Михайловича Карамыша-Курбского и Марии Михайловны Тучковой родился старший сын – князь Андрей.1547 — начало службы при царском дворе.1549, ноябрь – 1550, февраль — в чине стольника в
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ГЛИНСКАЯ, ГОСУДАРЫНЯ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ, ПРАВИТЕЛЬНИЦА ВСЕЯ РУСИ. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО. КНЯЗЬ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ОВЧИНА-ТЕЛЕПНЕВ-ОБОЛЕНСКИЙ. КНЯЗЬЯ ВАСИЛИЙ И ИВАН ШУЙСКИЕ. КНЯЗЬ ИВАН БЕЛЬСКИЙ. ГЛИНСКИЕ (1533–1547)
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ГЛИНСКАЯ, ГОСУДАРЫНЯ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ, ПРАВИТЕЛЬНИЦА ВСЕЯ РУСИ. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО. КНЯЗЬ ИВАН ФЕДОРОВИЧ ОВЧИНА-ТЕЛЕПНЕВ-ОБОЛЕНСКИЙ. КНЯЗЬЯ ВАСИЛИЙ И ИВАН ШУЙСКИЕ. КНЯЗЬ ИВАН БЕЛЬСКИЙ. ГЛИНСКИЕ (1533–1547) После смерти
Падение Грозного
Падение Грозного Еще с первой чеченской войны столица Чечни город Грозный стал символом и для федеральных войск, и для сепаратистов. С тяжелых и кровопролитных боев за Грозный фактически началась эта война. Здесь же она и закончилась, ибо неожиданный захват Грозного в
Полемист
Полемист Алексей Елисеевич Крученых:Он моментально отвечал и попадал всегда в лоб. Промахов не делал. Он был снайпером остроумия.Александр Вильямович Февральский:Маяковский любил и умел, ничуть не снижая идейной содержательности своих выступлений, облекать их