Про что — про это
Про что — про это
Идея написать поэму о любви была у Маяковского по крайней мере с лета 1922 года, когда он в краткой автобиографии «Я сам» — предисловии к четырехтомнику его произведений, так и не вышедшему, — писал: «Задумано: О любви. Громадная поэма. В будущем году кончу». Как была «задумана» эта поэма, мы не знаем, но она, несомненно, отличалась бы от той, которая стала результатом разлуки, поскольку именно разлука послужила тематической основой «Про это». Однако, учитывая гомогенность метафорики и символики Маяковского, не исключено, что некоторые идеи и образы существовали в более ранних набросках.

Поэма «Про это» вышла отдельной книгой с фотомонтажами Александра Родченко летом 1923 г. Коллаж, иллюстрирующий «Человека на мосту».
«Про это» посвящена «Ей и мне». «Про что — про это?» — спрашивается в заглавии пролога.
В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Что это за тема, которая «сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хозяев нож»? Которая «калеку за локти / подтолкнет к бумаге» и приказывает ему писать? Которая «пришла, /остальные оттерла / и одна/ безраздельно стала близка»? В последней строфе пролога Маяковский многоточием обозначает тему, заставившую его взяться за перо:
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
этой
теме:
……!
Название первой части поэмы «Баллада Редингской тюрьмы» заимствовано у Оскара Уайльда, чья знаменитая баллада, переведенная на русский Валерием Брюсовым, произвела на Маяковского сильное впечатление:
Возлюбленных все убивают, —
Так повелось в веках, —
Тот — с дикой злобою во взоре,
Тот — с лестью на устах;
Кто трус — с коварным поцелуем,
Кто смел — с клинком в руках.
У Уайльда приговаривается к смерти солдат, убивший свою любимую, — Маяковский же обречен на смерть за то, что убил свою любовь тем, что любил слишком сильно, за свою мрачность и ревность. Хотя фигурировавшая в черновике «Лиля» в окончательной версии заменена местоимением «она», автобиографический характер поэмы очевиден.
В постели она.
Она лежит.
Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» — это я
и то, что «она»—
моя.
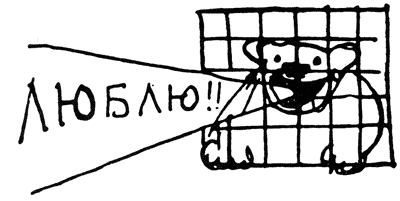
19 февраля Маяковский отправил Лили письмо с обратным адресом: «Москва. Редингская тюрьма» — отсылка к балладе Оскара Уайльда. Письмо подписано «Твой Щен, он же Оскар Уайльд, он же шильонский узник» — отсылка к поэме Байрона «Шильонский узник».
Сочельник. Комната Маяковского в Лубянском проезде превращена в тюремную камеру, последняя соломинка — телефон. Маяковский просит телефонистку соединить его с номером Лили: 67–10. «Две стрелки яркие» (торговая марка «Эриксон») раскаляют добела не только аппарат, но и всю поэму. Звонок сотрясает Москву, как землетрясение. Сонная кухарка, которая сообщает, что Лили не желает с ним говорить, мгновенно превращается в Дантеса, трубка телефона — в заряженный пистолет, а сам Маяковский — в плачущего медведя. («Медвежья» метафора заимствована у Гёте, который в стихотворении «Парк Лили» представляет себя ревнивым медведем.) Его слезы текут «ручьищами красной меди», а сам он плывет по Неве на «льдине-подушке». На мосту он видит себя таким, каким был семь лет назад, когда готов был броситься в воду, — картина заимствована из поэмы «Человек». Он слышит собственный голос, который «молит» и «просится»:
— Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься!
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою[13].
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Поэт на мосту спрашивает, может быть, и его нынешнее «я» не удержалось от соблазна обывательского семейного счастья, — и угрожает:
— Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Как и автор поэмы «Про это», человек на мосту, «человек из-за семи лет», будет скитаться в ожидании «спасителя-любви»: «По гроб запомни переплеск, / плескавшийся в „Человеке“.»
Во второй части, «Ночь под рождество», описаны попытки Маяковского привлечь семью и друзей для спасения человека на мосту — то есть его самого. Тщетно. Его не понимают. И когда «от заставы идет» молодой человек, на него все надежды: «Это — спаситель! / Вид Иисуса». Но это комсомолец, который на его глазах кончает с собой из-за несчастной любви, — еще один двойник: «До чего ж / на меня похож!» Через семь лет у Маяковского будет повод вспомнить прощальное письмо молодого человека («Прощайте… / Кончаю…/ Прошу не винить…»).
Маяковский взывает к семье, матери и сестрам, просит их пойти с ним к мосту. И, не встретив понимания и у них, укоряюще спрашивает:
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?
Он берет мать в кругосветное путешествие — чай пьют повсюду: «Сахара, / и здесь / с негритоской курчавой / лакает семейкой чаи негритос…» После грома революции обыватели опять «расставились, / разложили посудины». Помощи ждать неоткуда. Наконец он видит самого себя «с подарками под мышками» — и понимает, что стал одним их «них». Он приходит домой к «Фекле Давидовне с мужем» и видит, что, несмотря на революцию, ничего не изменилось. На стенах рядом с иконами — спаситель нового времени: «Маркс, впряженный в алую рамку, / и то тащил обывательства лямку». И пьют чай: «Весь самовар рассиялся в лучики — / хочет обнять в самоварные ручки».
Хуже всего то, что он узнает самого себя:
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
Снова мотив двойника! Спасение, иными словами, можно искать только в себе самом. И единственное место, где Маяковский может его найти, — это у нее. В главе «Деваться некуда» поэт подкрадывается к дому Лили, поднимается по лестнице к ее квартире, чтобы заставить ее уберечь оставшегося на мосту кандидата в самоубийцы:
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Отсылка к Раскольникову неслучайна — «Про это» полна скрытых и явных цитат из Достоевского, любимого писателя Маяковского. Это касается и собственно названия, которое заимствовано из «Преступления и наказания». Когда Раскольников говорил про это (курсивом), он имел в виду свое преступление. В Раскольникове Маяковский узнавал себя: безудержная увлеченность идеей, страсть совершать действия, изменяющие мир, отказ мириться с обыденщиной.
У Лили гости, они танцуют, шумят. Обрывки разговоров, которые поэт слышит сквозь приоткрытую дверь, банальны и неинтересны, его охватывает страшная догадка, что она тоже принадлежит к «ним» — как героиня «Облака в штанах», как рыжеволосая женщина из «Флейты», с «настоящим мужем» и «человечьими нотами» на рояле. И все-таки именно она спасла его от самоубийства:
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решись
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Он никогда не предавал их любовь в своей поэзии. Проклиная ненавистную «обыденщину», он оберегает свою любимую:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Но и Лили не способна помочь, и вскоре снова появляется двойник, объясняющий, что наивно думать, будто можно справиться с тем, что никому не под силу:
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплач?сь,
за всех распл?чусь.
Человек на мосту пригвожден, распят, он страдает за все человечество — точно как поэт в «Облаке» и «Человеке».
Тематика распятия продолжается и в следующей главе. Маяковский перемещается по России и Европе. Зацепившись за купол кремлевского Ивана Великого, он пытается удержать равновесие, сложив «руки крестом», но вскоре «любимых, / друзей / человечьи ленты / со всей вселенной сигналом согнало». Они «плюют на ладони» и «в мочалку щеку истрепали пощечинами». Его вызывают на дуэль, швыряя в лицо не перчатку, а «магазины перчаточные». На его отчаянное объяснение, что он «только стих», «только душа», ему возражают, со ссылкой на Лермонтова: «Нет! / Ты враг наш столетний. / Один уж такой попался — / гусар!»

Фотографии для коллажей «Про это» делал не Родченко, а Абрам Штеренберг, брат художника Давида Штеренберга. Этот фотопортрет был использован Родченко для коллажа, изображающего, как Маяковский ждет звонка от Лили.
Кара за то, что Маяковский посмел посягнуть на миропорядок, в «Человеке» олицетворенная Повелителем Всего, — смерть, и казнь страшна в своей затянувшейся жестокости:
Хлеще ливня,
грома бодрей,
Бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевести дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.
Когда «бойня» окончена, враг отступает, «смакуя детали». «Лишь на Кремле / поэтовы клочья / сияли по ветру красным флажком» — явная отсылка к «Облаку»: «… душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — / и окровавленную дам, как знамя».
Мученическая смерть перемещает поэта в далекое будущее. Заключительная часть поэмы написана в форме прошения, обращенного к неизвестному химику тридцатого века. С высот Большой Медведицы поэт смотрит на мир. Его памфлет против «тирании быта» — риторический шедевр. Сын дворянина, он никогда не видал «токарного станка» —
…но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми п?рами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
всё,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Маяковский хочет другой жизни и обдумывает разные возможности. Было бы просто, если бы он верил в загробную жизнь, но он не хочет дать врагам радость видеть, как он «от заряда стих». Хотя остались от него лишь «поэтовы клочья», но атака на него не удалась. Самоубийство тоже не выход: «Стоит / только руку протянуть — / пуля / мигом / в жизнь загробную / начертит гремящий путь». Нет, он верил и верит «вовсю, / всей сердечной мерою, / в жизнь сию, / сей / мир». Поэтому, когда в главе «Вера» он просит химика воскресить его, речь идет о воскрешении во плоти и крови. Вторя идеям философа Николая Федорова о «воскрешении мертвых» и теории относительности Эйнштейна (которые он с энтузиазмом обсуждал весной 1920 года с Якобсоном), он видит перед собой будущее, при котором все умершие вернутся к жизни в своем физическом обличии:
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Тема развивается в главе «Надежда», в которой поэт просит у химика сердце, кровь и мысли: «Я свое, земное, не дожил, / на земле / свое не долюбил». Если не найдется другого занятия, он готов наняться сторожем в зверинец, так как он очень любит зверей.
Последняя глава «Любовь» подводит итог всей поэме. В пророческом образе, полном высочайшего лиризма, Маяковский воссоединяется с Лили в новой жизни, свободной от «будничной чуши». Там любовь — уже не эрос, а агапе, и узкие семейные отношения заменены общностью всех людей:
Может,
может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
<…>
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.