2
2

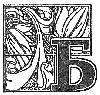
Большой театр! Торжественный, монументальный, без полутонов и недоговоренностей. Я пришла в него на переломе эпохи, на рубеже смены поколений. В театре тогда было немало певцов высокого класса. Все они начинали свою артистическую карьеру в начале тридцатых годов и, в сущности, продолжали традиции русского дореволюционного театра. Во взаимоотношениях еще соблюдался «хороший тон», и хоть существовала в театре конкуренция, интриги, как в нашем деле и полагается, но все это не выходило за рамки приличий.
Многие артисты перешагнули за пятьдесят, а некоторые и за шестьдесят лет, но в большинстве своем они находились в хорошей вокальной форме, а среди мужчин были и очень яркие артистические индивидуальности. Следующее за ними, среднее поколение певцов было уже намного слабее по своим творческим возможностям, хотя и с хорошими голосами.
Ворвавшись в это «высшее общество», знакомое мне раньше только по книгам, я принесла с собою ничем не прикрашенную реальную жизнь, полную лишений и страданий людей, что протекала за стенами роскошного великодержавного театра.
Я жила уже в ином времени, чем те певицы, творческая жизнь которых началась до войны. Они были не только старше меня, но — что самое главное — другой школы, другого восприятия жизни. У них был свой стиль — у этих знаменитых, с барскими манерами матрон в орденах и меховых палантинах. Жили они все в прекрасных квартирах, окруженные сонмами подобострастных подхалимов. Я с изумлением оглядывалась вокруг, и мне казалось, что я поселилась в огромной семье: более ста солистов, хор, оркестр, балет, дирижеры, режиссеры…
Советский коллектив — это не просто некоторое количество работающих вместе людей, это коммуна со всеми присущими ей правами на каждого своего члена в отдельности и с жесткими установившимися правилами жизни в ней. В советских театрах нет системы контрактов, и артисты Большого театра приписаны к месту работы, как на фабрике, получают месячную зарплату и обязаны за нее выполнять определенную норму спектаклей.
Сезон длится десять месяцев. Артист должен быть каждый день готов к тому, что его вызовут на репетицию или на срочную замену в спектакле заболевшего солиста. Никто не имеет права выехать на гастроли по стране без специального на то разрешения дирекции театра. Могут в счет нормы послать в другой город на концерт или спектакль без дополнительной оплаты. Словом, артист поступает в полное распоряжение театра, а так как рабочий стаж до выслуги пенсии — 25 лет, то все эти годы, а иногда и дольше, жизнь артиста до последних мелочей открыта перед огромной семьей — коммуной.
Уйти оттуда некуда: Большой театр один, все другие намного хуже, зарплата в них наполовину меньше, а система работы — та же. Да никому и в голову не придет променять столичную квартиру, правительственный театр на убогость и серость провинциальной жизни.
Большой театр в 1952 году — это музей великих русских опер и прекрасных голосов. В театре — железная дисциплина. Чтобы войти в здание, каждый обязан предъявить специальный пропуск с фотокарточкой, даже если ты работаешь здесь десятки лет и вся охрана тебя знает. Для чего это делается? А потому что из отдела кадров может поступить экстренный приказ не пропускать в театр какого-либо сотрудника.
В тот год, когда я поступила, главным дирижером театра был Николай Семенович Голованов, великий русский дирижер, десятки лет проработавший в театре, и, чтобы читателю было понятно, что такое Большой театр, приведу один эпизод, связанный с ним лично. Довольно долгое время перед тем ходили упорные слухи, что Голованова снимут с занимаемого поста, потому что им недовольны в Кремле. Однажды он пришел в театр, идет мимо вахтера, естественно, не предъявляя пропуска, — ведь главный дирижер, хозяин театра. Его остановили:
— Ваш пропуск.
— Какой пропуск? Ты что, не узнал, что ли?
— Пожалуйте пропуск.
Голованов достает пропуск, предъявляет. У него тут же, в проходной, отбирают его и в театр не пропускают… Так сказать — не велено пущать! Таким вот образом этот властный, казавшийся всесильным человек узнал, что он больше не главный дирижер Большого театра и вообще теперь в театре не работает.
Через несколько месяцев он умер, не смог пережить унижения, а было ему всего лишь 62 года. Вот что такое Большой театр в 1952 году.
Первый спектакль, услышанный мной в Большом театре, был «Князь Игорь» Бородина; самые сильные впечатления от него: Александр Пирогов — князь Галицкий и Максим Михайлов — Кончак.
Пирогов — замечательный русский артист, в его репертуаре много прекрасно созданных ролей, но в Галицком он был попросту неповторим, и лучшего я не знаю. Была в его Галицком могучая стихия, русская бесшабашность и удаль, страсть — никто ему не перечь, все сметет с пути, а коль и убьет, то не пожалеет. Темперамент у артиста был бешеный, но и управлять им он умел феноменально — качество более редкое, чем наличие самого темперамента. Как сейчас вижу его в сцене пьянки: на нем русская рубаха, на глаза свисает чуб, в ухе серьга…
Как бы мне да эту волю —
Понатешил бы я вволю
И себя, и вас —
Не забыли б нас!
Пей, пей, пей, гуляй!..
Голос большой, своеобразного тембра, слово выразительно, движения скульптурны, все отделано до мельчайших деталей, подается в зрительный зал крупно, масштабно…
Когда на сцену вышел Михайлов — хан Кончак — и спел первые фразы:
Здоров ли, князь?
Что приуныл ты, гость мой?
Что ты так пригорюнился? —
мне показалось, что под напором его голоса закачалась на потолке люстра. Сильный, объемный бас-профундо заполнил весь огромный зал театра. Казалось, ему это не стоило никаких усилий. Среднего роста, с широкой грудью, он смешно открывал во время пения рот: рот его казался каким-то маленьким, яйцеобразным отверстием, и непонятно было, как из такого маленького отверстия выливается лавина, море звука, — было ощущение, что в него вставлен усилитель. Никогда больше — ни в Большом театре, ни за границей — я не слышала голоса, подобного этому по мощи и силе звука.
До Большого театра Михайлов был протодьяконом в одном из московских соборов. Могучий был старик. Бывало, в антракте откроет в своей уборной окно — даже зимой расстегнет рубаху на груди и дышит морозным воздухом. Тенора, как ошпаренные, скачут мимо его дверей по коридору — холодно!
— Максим Дормидонтович, ведь простудитесь!
— Ничего, для октавы хорошо!..
На спектакль приносил соленые огурцы, завернутые в газету, и ел их перед тем, как петь. В день своих именин снимал на целый вечер пивную напротив театра, приглашал весь мужской хор, и до самой ночи они там гуляли и пели песни.
Ярославну в «Князе Игоре» пела Софья Панова — большая, статная женщина с замечательным, громадным голосом, легко перекрывавшим оркестр.
Владимира Игоревича пел Иван Козловский, знаменитый тенор, непревзойденный Юродивый в «Борисе Годунове».
И над всем царил Мелик-Пашаев.
«Князь Игорь», поставленный в 1944 году режиссером Лосским и дирижером Мелик-Пашаевым, рассчитан был на певцов с мощными, большими голосами. В той же самой постановке он идет и сегодня, но певцов того масштаба в Большом театре больше, к сожалению, нет.
В мой рабочий план включили две оперные партии: Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского и Леоноры в «Фиделио» Бетховена в предстоящей новой постановке. После годичного испытательного срока театр имел право либо отчислить меня из молодежной группы, либо перевести в основную труппу солисткой — на таких условиях я была принята. Как я потом узнала, меня и брали в театр с расчетом на «Фиделио». Борис Покровский, постановщик этого спектакля, блестящий режиссер и реформатор советского оперного театра, хотел, чтобы Леонору пела только молодая артистка и обязательно с хорошей фигурой: на протяжении всего спектакля Леонора должна носить мужской костюм.
Постановке «Фиделио» театр придавал огромное значение, да и для всей музыкальной России она была событием: единственная опера Бетховена и еще никогда не шедшая на сцене в советское время. В спектакле были заняты знаменитые артисты, дирижировал А. Ш. Мелик-Пашаев, только что назначенный главным дирижером театра, после увольнения Голованова. В общем, с первых своих шагов в театре я оказалась в условиях, о которых не может и мечтать начинающая оперная певица.
То, что я понравилась режиссеру Борису Покровскому, было, конечно, прекрасно, но далеко еще не все. Главное — надо понравиться дирижеру, без этого роль получить невозможно, а Мелик-Пашаев на конкурсе меня не слышал — его в то время не было в Москве.
Александр Шамильевич — великий мастер своего дела — был очень осторожен в выборе исполнителей для своих спектаклей, не доверял неопытным молодым певцам, и попасть к нему в спектакль было труднее, чем к любому другому дирижеру. У него были свои солисты, с которыми он работал по многу лет, и вдруг в его «святая святых» — в «Фиделио» — Покровский хочет ввести никому не известную бывшую опереточную певицу, да еще на главную партию! Александр Шамильевич согласился меня прослушать — разумеется, ради Покровского. На меня он никаких надежд не возлагал.
Назначили мне с ним урок. А жила я тогда далеко от театра, у родственников Марка, ехать надо было около часа троллейбусом — ну и, конечно, опоздала на целых десять минут. Это была моя первая встреча с Мелик-Пашаевым. Влетела в класс запыхавшаяся с мороза, щеки горят, глаза плошками, а там — ЖДУТ? — главный дирижер, главный режиссер, главный концертмейстер. Как увидела я их — ну, думаю, конец!..
— Ой, извините, я опоздала… Здравствуйте.
Кивнул головой. Молчит.
Надо сказать, что Александр Шамильевич никогда ни на кого не кричал, был со всеми предельно вежлив, но тогда… Лучше бы уж он наорал на меня, а не молчал бы так.
— Ну, что споете?
А я дышу, как паровоз, — еще бы, на пятый этаж взлетела без лифта: некогда было ждать!
— Знаете, я не распелась, не успела, я распеться должна… Вы подождите минут пятнадцать в коридоре, а потом я спою…
Это ж надо было быть такой дурой!
Концертмейстер В. Васильев, много лет работавший с Мелик-Пашаевым и обожавший его, посмотрел на меня с таким отчаянием и безнадежностью: вот, мол, экземпляр, воспитанный советской властью.
Но Александр Шамильевич как-то сразу проникся ко мне симпатией — за непосредственность, что ли, а надо бы, конечно, из класса выгнать. Вышли они все, я быстренько разогрела голос, открыла дверь:
— Можете войти!..
— Спасибо, спасибо… Так что же споете, деточка?
— Могу Аиду, Лизу.
— Спойте Аиду.
Я спела арию, смотрю — Покровский доволен. А Мелик-Пашаев:
— Что ж, неплохо. Конечно, Аиду петь вам еще рано, но партию посматривайте, посматривайте…
А это его спектакль и самая любимая опера. Я знаю, что на комплименты он не щедр и сказанное им: «Посматривайте партию» — звучит большим авансом на будущее.
— Что еще можете спеть?
Ну, думаю, уложу его сейчас на обе лопатки.
— Знаете, я еще могу вам песню спеть.
(Мне-то хочется во всей красе показаться!)
— Песню?! Какую еще песню?!
— Испанскую — я же эстрадной певицей была. У меня и кастаньеты с собой…
Он глаза раскрыл, на спинку стула откинулся — что еще за птица в Большом театре!
А Покровский:
— Ну, спойте, спойте!
Я даю ноты концертмейстеру, тот от ужаса чуть сознания не лишился, бедный, думая, что сейчас произойдет что-то страшное: все хорошо знали, как строг, как академичен в музыке Мелик-Пашаев, а тут вдруг — песня из репертуара Клавдии Шульженко «Простая девчонка»!
Схватила я кастаньеты — и давай перед ними петь и плясать, как на концерте… Покровский еле сдерживался от смеха — видит, что делается с Меликом: тот ерзает на стуле, смотрит то на потолок, то на пол, от неожиданности не знает, как на все реагировать… Гремят кастаньеты, каблуки стучат, а прослушиванье-то — для Леоноры Бетховена! Такого в Большом театре еще не бывало.
— Хорошо, хорошо, деточка, учите партию, а там посмотрим… до свиданья…
И быстро вышел.
Не знаю, какой разговор у него был с Покровским, но меня официально назначили на партию Леоноры в «Фиделио», и я начала брать уроки.
В Большом театре в этом нет никаких ограничений: занимайся с концертмейстером, сколько тебе нужно, и любой из них — очень высокой квалификации.
Отныне вся жизнь моя протекала и стенах Большого театра, домой я приходила только спать.
Утром, после уроков с концертмейстером, я спешила на разные спевки, сценические, оркестровые репетиции, чтобы слушать артистов, проникать в тайны мастерства тех, с кем мне предстояло работать в течение всей дальнейшей жизни. Певцов Большого театра я хорошо знала, часто слушая их по радио или на концертах в Ленинграде, и некоторые из них вызывали во мне чувство восхищения своими превосходными голосами. Я стремилась поскорее услышать их в спектаклях, но, к моему удивлению, они на этой сцене в большинстве своем теряли свои качества, не могли эмоционально наполнить огромный зал, донести до слушателей внутреннее содержание исполняемой роли — не хватало актерской, сценической техники. Кроме того, оперная сцена безжалостно обнажала физические недостатки артистов.
Но некоторые, очень немногие — такие, как Лемешев, Пирогов, — вооруженные блестящей техникой актерского мастерства, именно в спектаклях-то и приобретали свое истинное значение. Каждый вечер я часами простаивала в ложе, слушая спектакли. В том романтическом репертуаре, который мне предстояло петь, одно мне нравилось больше, другое меньше, но главное: я искала свой идеал актрисы — и не находила. В труппе среди женщин не было крупной артистической личности, которой мне захотелось бы уподобиться, и все, что я видела на сцене, казалось мне фальшивым и искусственным в плане сценического воплощения. Мне не хотелось петь в этих спектаклях. Видимо, к тому времени я создала в себе такое понимание прекрасного, такой мир, что воплотить его должна была сама, но для этого надо было еще выйти на сцену.
А пока, в ожидании своего часа, я ходила из одного чала в другой, постепенно включаясь в жизнь театра, приобщаясь к его искусству. В том сезоне ставили новую оперу — «Декабристы» Шапорина, и, часто присутствуя на репетициях, я вдруг обратила внимание, что постоянно встречаю там каких-то странных, незнакомых мне людей. Кто они, эти мрачные люди, молча сидящие по углам темного зала, и почему к ним все время с таким подобострастием обращаются постановщики? Оказывается, это чиновники из отдела агитации и пропаганды ЦК партии контролируют работу над «тематической оперой» и уже до полусмерти замучили и композитора и артистов, требуя бесконечных переделок. Чиновники эти к искусству никакого отношения не имеют, им важны лишь слова да идея, что, мол, представители высшего общества, вышедшие на Сенатскую площадь в Петербурге 14 декабря 1825 года отдать свои жизни за народ, — хоть и аристократы, но на самом деле революционеры и почти что рабочий класс. Сколько разных комиссий из ЦК смотрело спектакль, прежде чем он был показан публике!
«Декабристов» ставили уже несколько лет, перекраивая историю на все лады; фальшь и ложь лезли из всех щелей этого спектакля. Вот вам и «святое искусство»! Да ведь это же Большой театр!
Но мне предстояло узнать, что это касалось не только новых советских опер — и в классических операх режиссеры выдумывают ложные сценические ситуации, чтобы они отвечали идеологическим установкам. К примеру, в «Мадам Баттерфляй» Пуччини, в постановке времен «холодной войны», американский консул — по замыслу композитора, благородный, добрый человек — по воле режиссера превратился в циничного, жестокого «дядю Сэма». Вместо того, чтобы во втором акте, ласково погладив по голове ребенка, восхищенно воскликнуть: «Ну что за волосенки! Милый, как же зовут тебя?» — он брезгливо, двумя пальцами, как к заразе, прикасался к нему, словно боясь испачкаться, хотя и слова, и музыка были те же. Подобных режиссерских «находок» в спектакле было много, ими нужно было вызвать у публики неприязнь к американцам. В «Декабристах» были заняты лучшие артисты труппы, да и всегда для спектакля, особенно на современную или революционную тему, театр выставлял обойму самых знаменитых певцов, надеясь, что те споим талантом прикроют бездарную музыку и фальшивое содержание оперы. Дирекция в таких случаях не скупилась на обещания орденов, почетных званий, квартир, прибавки к зарплате после премьеры. Я сидела и зале, наблюдая, и каких муках рождается советская опера, и мне казалось преступным, что артисты так глупо разбазаривают свои силы. Ведь ясно, что спектакль пройдет в сезоне, в лучшем случае, три-четыре раза, что публику на него калачом не заманить и оперу снимут с репертуара. Сколько денег выбросят в помойную яму! Но кому жалко-то? Ведь не свое, а государственное. Зато будет выполнен план по освоению советского репертуара, о чем счастливый директор доложит правительству. Для меня всегда унизительным был такой мартышкин труд, и с первых же дней работы в Большем театре я всеми правдами и неправдами отбивалась от участия в подобных операх-«времянках».
Следующей за «Декабристами» премьерой планировалась опера Кабалевского «Никита Вершинин», и мне дали в ней главную партию. Несмотря даже на то, что дирижером спектакля был назначен Мелик-Пашаев, петь в этой опере я ни за что не хотела — не только потому, что музыка ее сама по себе была неинтересна, но я физически не выношу на оперной сцене примитивного, лапотного бытовизма. А как вывернуться? Ведь не скажешь же, что не хочу петь советскую оперу, да еще на революционный сюжет, — это уже криминал, политическое дело. Ничего, при думала. Не возражая, стала учить партию, а дней через десять в слезах прибежала в репертуарную часть я «в ужасе и отчаянье» стала отказываться, потому что партия высокая, а я — начинающая, неопытная певица, боюсь сорвать себе голос.
Сказали Кабалевскому, а он:
— Как это — не может? Аиду на конкурсе пела, Фиделио готовит… Не может быть!
Пришел ко мне на урок, я стала петь ему арию, да двух петухов на си-бемолях нарочно и выдала; схватилась за горло — и в слезы:
— Я боюсь сорвать голос, мне тяжело, я неопытная певица…
Он стал меня успокаивать:
— Конечно, очень жалко, что вы не можете петь эту партию, но, если вы боитесь, я не могу вас уговаривать, брать на себя ответственность…
Удалось отвертеться.
Таким же образом и от следующего «шедевра» увильнула — от оперы Хренникова «Мать».
Артисты удивлялись, почему я отказываюсь петь в советских операх — ведь это большой шанс для молодой певицы: спектакль может получить Сталинскую премию, и, значит, все главные исполнители получат лауреатские значки, что очень помогает карьере… Они не понимали, что я с самого начала поставила перед собой цель гораздо выше любых значков и званий: я хотела стать великой артисткой — такой, каким был Шаляпин, какой в этом театре нет. И фальшивый блеск медалей не мог увести меня от моей цели.

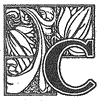
Сталин лично опекал театр. Ходил он, в основном, на оперы, и поэтому лучшие певцы участвовали в операх «Князь Игорь», «Садко», «Хованщина», «Борис Годунов», «Пиковая дама». Это вечный «золотой фонд» Большого театра; всё в тех же постановках они идут из года в год — до сих пор, никогда не сходя с афиши. Каждой из них по 35–40 лет.
Театр никогда не знал материальных затруднений — государство не жалеет никаких денег на свою рекламу. Декорации и костюмы стоят миллионы рублей, потому что в создании их на пятьдесят процентов применяется ручной труд — из-за отсутствия нужных материалов, машин и т. д. Народ гордится своим театром и не отдает себе отчета в том, что сам платит за его содержание. Конечно, — не Сталин же из своего кармана платит за все эти соборы и избы чуть ли не в натуральную величину, полностью загромождающие сцену.
В сталинское время было очень важно выходить на сцену. Каждый артист берег себя и обязательно пел спектакль, если его имя стояло в афише. Императорский театр! — в нем важно появляться не только ради искусства, но и для своего положения в стране, в глазах народа. Все мечтали выступить перед Сталиным, понравиться ему, и Сталин не жалел ничего для артистов Большого театра. Сам установил им высокие оклады, щедро награждал их орденами и сам выдавал им Сталинские премии. Многие артисты имели по две-три Сталинские премии, а то и пять, как Баратов.
В этом первом моем сезоне 1952/53 года Сталин бывал несколько раз на оперных спектаклях, и я помню атмосферу страха и паники в дни его посещений. Известно это становилось всегда заранее. Всю ночь охрана осматривала каждый уголок театра, сантиметр за сантиметром; артисты, не занятые в спектакле, не могли войти в театр даже накануне, не говоря уже о дне спектакля. Участникам его выдавались специальные пропуска, и, кроме того, надо было иметь с собой паспорт. С уже объявленной афиши в этих случаях дирекция могла снять любого, самого знаменитого артиста и заменить его другим, в зависимости от вкуса Великого. Вслух, конечно, никто не обижался, принимали это как должное. И только каждый старался угодить на вкус советского монарха, попасть в любимчики, чтобы таким вот образом быть всенародно отмеченным за счет публичного унижения своего же товарища. Эти замашки крепостного театра сохранялись еще долго после смерти Сталина.
Сталин сидел всегда в ложе «А» — если стоять в зале лицом к сцене, слева, над оркестром, скрытый от глаз публики занавеской, и только по количеству охранников в штатском да по волнению и испуганным глазам артистов можно было догадаться, что в ложе сидит Сам. И до сегодняшнего дня — когда глава правительства присутствует на спектакле, подъезд публики к театру на машинах запрещен. Сотни сотрудников КГБ окружают театр, артистов проверяют несколько раз: первая проверка, в дверях входа, — это не наша охрана, а КГБ, надо предъявить спецпропуск и паспорт. Потом, когда я загримировалась и иду на сцену, я снова должна показать пропуск (если в зале особо важные персоны). Конечно, во всех кулисах на сцене полно здоровенных мужиков в штатском. Бывают затруднения чисто технические — куда девать пропуск, особенно артистам балета? Они же почти голые! Хоть к ноге привязывай, как номерок в общей бане.
Любил ли Сталин музыку? Нет. Он любил именно Большой театр, его пышность, помпезность; там он чувствовал себя императором. Он любил покровительствовать театру, артистам — ведь это были его крепостные артисты, и ему нравилось быть добрым к ним, по-царски награждать отличившихся. Вот только в царскую — центральную — ложу Сталин не садился. Царь не боялся сидеть перед народом, а этот боялся и прятался за тряпкой. В его аванложе (артисты ее называли предбанником) на столе всегда стояла большая ваза с крутыми яйцами — он их ел в антрактах. Как при Сталине, так и теперь, когда на спектакле присутствуют члены правительства, в оркестровой яме рядом с оркестрантами сидят кагебешники — в штатском, разумеется.
Были у него в театре любимые артисты. Очень он любил Максима Дормидонтовича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». В советское время она называется «Иван Сусанин». Он часто ходил на эту оперу — наверное, воображал себя царем, и приятно ему было смотреть, как русский мужик за него жизнь отдает. Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили — с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными, мощными голосами не просто пели, а вещали, мизансцены были статичны, исполнители мало двигались — все было более «значительно», чем требовало того искусство. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. И не в том дело, хорош у него был вкус или плох, но, когда Сталин умер, театр потерял ориентир, его начало швырять из стороны в сторону, он стал попадать в зависимость от вкусов множества случайных людей.
Любимицами Сталина были сопрано Наталия Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова — обе красивые, статные; они часто пели на банкетах. Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать в их обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их — как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер:
— Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы.
Думаю, что этим не слишком «изящным» замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни. Но ведь батюшка-барин. С крепостной девкой разговаривает.
Замечательный дирижер С. А. Самосуд, многие годы проработавший в Большом театре, рассказывал мне, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти в аванложу, как Сталин без лишних слов заявил ему:
— Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль… без бемолей!
Самуил Абрамович онемел, растерялся — может, это шутка?! Но нет — члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, поддакивают:
— Да-да, обратите внимание — без бемолей…
Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, — наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами…
Самосуд ответил только:
— Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание.
Интересная история была с оперой «Евгений Онегин». Действие последней картины происходит ранним утром, и Татьяна — по Пушкину — должна быть в утреннем туалете:
Княгиня перед ним одна
Сидит неубрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.
Так оно и было, пока не пришел однажды на спектакль Сталин. Увидев на Татьяне легкое утреннее платье — и Онегина перед нею, — он воскликнул:
— Как женщина может появиться перед мужчиной в таком виде?!
С тех пор — и до сего дня! — Татьяна в этой сцене одета в вишневое бархатное платье и причесана, как для визита.
На Пушкина в данном случае ему было наплевать. Одеть — и кончено! Хоть в шубу!
Но все же для Большого театра он был «добрым царем». Любил пригласить артистов к себе на пьянку, и бывший протодьякон Михаилов в таких случаях громовым голосом пел ему «Многая лета».
Репрессии и чистки 1937 года почти не коснулись Большого театра, во всяком случае его ведущих артистов. Это был театр Сталина. Но он допускал в него и простых смертных с улицы и, наверное, гордился своим великодушием — считал себя покровителем прекрасных искусств.
Почему он любил бывать именно в опере? Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера, с ее историческими сюжетами и пышными костюмами, давала пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая «Бориса Годунова», мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное царское облачение и сжимал в руках скипетр и державу.
Когда Сталин присутствовал на спектакле, все артисты очень волновались, старались петь и играть как можно лучше — произвести впечатление: ведь от того, как понравишься Сталину, зависела вся дальнейшая жизнь. В особых случаях великий вождь мог вызвать артиста к себе в ложу, и удостоить чести лицезреть себя, и даже несколько слов подарить. Артисты от волнения — от величия момента! — совершенно немели, и Сталину приятно было видеть, какое он производит впечатление на этих больших, талантливых певцов, только что так естественно и правдиво изображавших на сцене царей и героев, а перед ним распластавшихся от одного его слова или взгляда, ожидающих подачки, любую кость готовых подхватить с его стола. И хотя он давно привык к холуйству окружающих его, но особой сладостью было холуйство людей, отмеченных Божьим даром, людей искусства. Их унижения, заискивания еще больше убеждали его в том, что он не простой смертный, а божество.
Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гада ли, что же скрыто за сказанным и за «недоговоренностью». А он просто плохо владел русским языком и речью. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных, и применял их по обстоятельствам.
На всех портретах, во всех скульптурах, в любых изображениях он выглядит этаким богатырем, и даже видевшие его в жизни, стоявшие рядом с ним верили, что этот низенький человек — гораздо выше и больше, чем им кажется. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи, ходили медленно, будто придавленные собственной «богатырской» тяжестью. (Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи.) Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей: стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму: всем этим избам в натуральную величину, в которых спокойно можно было жить; соборам, построенным на сцене, как на городской площади, — с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны, — это интереснейшее свидетельство эпохи — как и несколько высотных зданий-монстров, оставленных Сталиным на память о себе «благодарным» потомкам.
Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в правоте его, в правомерности его действий, и, когда началось знаменитое «дело врачей-убийц», все удивлялись (во всяком случае, вслух), что раньше сами не распознали в этих хорошо знакомых им, артистам, кремлевских врачах врагов народа.
Шли последние недели правления злого гения. Последний оперный спектакль, на котором он был в Большом театре, — «Пиковая дама» Чайковского. Артист, исполнявший партию Елецкого, П. Селиванов, выйдя во втором акте петь знаменитую арию и увидев близко от себя сидевшего в ложе Сталина, от волнения и страха потерял голос. Что делать? Оркестр сыграл вступление и… он заговорил: «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить…» — да так всю арию до конца в сопровождении оркестра и проговорил! Что с ним творилось — конечно, и вообразить невозможно, удивительно, как он не умер тут же на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова, тот прибежал ни жив, ни мертв, трясется… Сталин спрашивает:
— Скажите, кто поет сегодня князя Елецкого?
— Артист Селиванов, товарищ Сталин.
— А какое звание имеет артист Селиванов?
— Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…
Сталин выдержал паузу, потом сказал:
— Добрый русский народ!..
И засмеялся — сострил!.. Пронесло!
Счастливый Анисимов выскочил из «предбанника». На другой день вся Москва повторяла в умилении и восторге «гениальную» остроту вождя и учителя. А мы, артисты, были переполнены чувством любви и благодарности за великую доброту и человечность нашего Хозяина. Ведь мог бы выгнать из театра провинившегося, а он изволил только засмеяться, наш благодетель!.. Да, велика была вера в его высокую избранность, его исключительность, и когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватила всех. Ведь тридцать лет вся страна слышала только — Сталин, Сталин, Сталин!..
«Если ты, встретив трудности, вдруг усомнишься в своих силах — подумай о нем, о Сталине, и ты обретешь нужную уверенность. Если ты почувствовал усталость в час, когда ее не должно быть, — подумай о нем, о Сталине, и усталость уйдет от тебя… Если ты замыслил нечто большое — подумай о нем, о Сталине, — и работа пойдет споро… Если ты ищешь верное решение — подумай о нем, о Сталине, и найдешь это решение».
«Правда» от 17 февраля 1950 года.
На войне умирали «за родину, за Сталина», вдруг умер ОН — который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас.
Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с опухшими от слез лицами толпятся на улицах… Как в опере «Борис Годунов», голодный народ голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?..
По улицам Москвы из репродукторов катились, волны душераздирающих траурных мелодий…
Всех сопрано Большого театра в срочном порядке вызвали на репетицию, чтобы петь «Грезы» Шумана в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Пели мы без слов, с закрытыми ртами — «мычали». После репетиции всех повели в Колонный зал, а меня не взяли — отдел кадров отсеял: новенькая, только полгода в театре. Видно, доверия мне не было. И мычать пошло проверенное стадо.
В эти же дни, когда страна замерла и все застыло в ожидании страшных событий, кто-то, проходя по коридору в театре, бросил:
— Сергей Прокофьев умер…
Весть пролетела по театру и повисла в воздухе как нереальность: кто умер? Не мог еще кто-то посметь умереть. Умер только один Сталин, и все чувства народа, все горе утраты должно принадлежать только ему.
Сергей Прокофьев умер в тот же день, что и Сталин, — 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя.
Московские улицы были перекрыты, движение транспорта остановлено. Невозможно было достать машину, и огромных трудов стоило перевезти гроб с телом Прокофьева из его квартиры в проезде Художественного театра в крошечный зал в полуподвальном помещении Дома композиторов на Миусской улице для гражданской панихиды.
Все цветочные оранжереи и магазины были опустошены для вождя и учителя всех времен и народов. Не удалось купить хоть немного цветов на гроб великого русского композитора. В газетах не нашлось места для некролога. Все принадлежало только Сталину — даже прах затравленного им Прокофьева. И пока сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу, на Миусской улице, в мрачном, сыром полуподвале, было почти пусто — только те из близких и друзей, кто жил неподалеку или сумел прорваться сквозь кордоны заграждений. А Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана…
Со смертью великого покровителя кончилась целая эпоха в истории Большого театра. Ушел гений, ушло божество, и после него пришли просто люди.

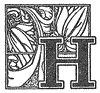
Наконец, Марку удалось обменять нашу ленинградскую комнату на комнату в Москве. Правда, назвать это помещение комнатой было трудно. Всю свою жизнь я прожила в коммунальных квартирах, но такого ужаса, как наше новое жилище на углу Столешникова переулка и Петровки, не видела. Когда-то, до революции, это была удобная семикомнатная квартира, рассчитанная на одну семью. Теперь ее превратили в набитый людьми клоповник. В каждой комнате жило по семье, а то и две семьи — родители с детьми и старший сын с женой и детьми. Всего в квартире человек 35 — естественно, все пользовались одной уборной и одной ванной, где никто никогда не мылся, а только белье стирали и потом сушили его на кухне. Все стены ванной завешаны корытами и тазами — мыться ходили в баню. По утрам нужно выстоять очередь в уборную, потом очередь умыться и почистить зубы… Очереди, очереди… В кухне — четыре газовые плиты, семь кухонных столов, в углу — полати (там жила какая-то старуха), а под полатями — каморка, и в ней тоже живут двое. Ну, чем не «Воронья слободка» из книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок»!
Когда-то квартира имела два выхода — парадный и черный, через кухню. Так вот, черный ход закрыли, сломали лестницу, сделали потолок и пол, и получилась узкая, как пенал, десятиметровая комната с огромным, во всю стену, окном во двор и цементным полом. Вот в этой «комнате» на лестничной площадке мы и поселились с Марком. Входить к нам нужно было через кухню, где с шести часов утра и до двенадцати ночи гремели кастрюлями у газовых плит десяток хозяек, и весь чад шел в нашу комнату. Но я не воспринимала свое положение трагически. Намотавшись всю зиму по чужим углам, я даже чувствовала себя счастливой: разрешили московскую прописку, есть крыша над головой, до театра — три минуты ходьбы. Мы втиснули в нашу комнату диван, шкаф, стол, четыре стула и взятое напрокат пианино. Здесь я работала над своими первыми в Большом театре партиями: Леонорой в «Фиделио», Татьяной в «Онегине», Купавой в «Снегурочке», мадам Баттерфляй — и прожила там почти четыре года, уже будучи ведущей солисткой Большого театра.
Я, как одержимая, работала над «Фиделио». С самого начала стала добиваться инструментального звучания голоса, слияния с воображаемыми инструментами в оркестре. Старалась добиться большого дыхания, разнообразия красок, прозрачности piano, ежедневно пропевая всю оперу полным голосом, как на спектакле. Я пела свою партию с чистотой и точностью инструменталистки, хорошо зная, с каким требовательным дирижером мне предстоит работать. Мелик-Пашаев рвался скорее начать спевки, а поскольку солисты еще не были готовы, ему предложили прослушать меня — мол, Вишневская только одна и выучила.
Ну, он помнил, конечно, как я перед ним с кастаньетами плясала, и доверия ко мне, думаю, у него вовсе не было. Держал меня, вероятно, на этой партии про запас — если с кем-нибудь что-то случится. Но ему самому не терпелось начать репетиции, и однажды меня вызвали к нему на урок.
Уж будьте уверены — на этот раз я не опоздала! К тому времени я была в театре уже полгода, ходила на все спектакли Мелик-Пашаева, обожала его как музыканта, мечтала работать с ним и знала, как туго он пускает певцов в свои спектакли.
За два часа до урока я уже была в театре, распелась, подготовилась. Пришел Александр Шамильевич — как всегда, подтянутый, элегантный, — принес партитуру. (Я никогда не видела, чтобы он пришел на спевку или на урок без партитуры, даже если данной оперой дирижировал всю жизнь и знал ее наизусть.)
— Здравствуйте, деточка, что можете спеть из своей партии?
— Все, что угодно.
— Всю партию знаете?
— Всю.
— Хорошо, начнем.
Я беру мой клавир, который лежал раскрытым на рояле, и широким, этаким царственным жестом — чтоб видно было! — закрываю и откладываю в сторону. Он оценил.
— Будете петь наизусть?
— Конечно, само собой разумеется!
Говорю с таким видом, будто дело для меня знакомое и я всю жизнь только и делала, что пела Леонору в «Фиделио».
Я начала и пропела ему всю партию от первой до последней ноты без остановок, без замечаний с его стороны. В течение целого часа я буквально не закрыла рта. В этой труднейшей в мировом репертуаре героической партии сопрано он меня еще и на выносливость проверял — хватит ли меня на весь спектакль. Я была собранна, как солдат перед боем, ни разу не ошиблась, легко пропела все трудные места. Я понимала, что сейчас решается моя судьба: или я буду петь в его спектаклях — или вылетаю, и он уже никогда меня не возьмет.
Допела последний, грандиозный ансамбль… Уф, конец…
Александр Шамильевич на меня уже совсем другими глазами смотрит — внимательно так, будто впервые увидел:
— Молодец, деточка… Не ожидал… не ожидал…
И я вижу — он взволнован!
Знаменитый Мелик-Пашаев, мой первый дирижер!
Я поняла, что стала певицей.
Александр Шамильевич погладил меня по голове и вышел вон, а придя в репертуарную часть, во всеуслышание распорядился:
— Пожалуйста, на все мои будущие спевки и репетиции «Фиделио» вызывайте Вишневскую.
Естественно, в театре стали говорить, что появилась новая фаворитка, но ничего! — на такой партии, как «Фиделио», она свернет себе шею.
Напрасно надеялись! Конечно, от первых ролей очень многое зависит в жизни начинающей артистки, а Леонора — беспредельно трудная партия и для любой опытной певицы. Когда я начала ее учить, я поняла, что или сорву на ней голос — или же, наоборот, научусь на ней петь. Эта партия на всю жизнь дала мне школу. Я научилась на ней не форсировать голос, научилась в нужных местах перекрывать оркестр не силой, а собранностью и остротой звука. И когда через несколько месяцев начались сценические и оркестровые репетиции, именно эта опера научила меня большому дыханию, умению распределять его, умению расходовать силы. Мой большой сценический опыт позволял мне во время репетиций и спектаклей трезво контролировать себя, управлять голосом, разнообразить его краски, менять тембр. Я могла после труднейших сцен в несколько секунд восстановить неспокойное дыхание, сбросить напряжение и начать петь кантилену ясным, спокойным звуком. Конечно, все это было бы невозможно без той вокальной школы, которую я получила от Веры Николаевны, — именно благодаря ей у меня никогда не было вокальных проблем и я легко играла голосом.
Очень важным для меня было еще и то, что в России не было традиции постановок этой оперы — так что, никогда не слышав ее ни в оперном театре, ни в грамзаписи, я создавала партию Леоноры, сообразуясь с моими возможностями и с моим пониманием ее. Тем более, что Мелик-Пашаев никогда не позволял певцам форсировать голос, а режиссер спектакля Покровский строил образ, исходя из моей индивидуальности. По его мысли, Леонора должна быть юной, быстрой, подвижной. То, что было трудно другим певицам, для меня труда не составляло: по заданию режиссера я бегала по сцене во время пения, мне не нужно было смотреть на дирижера в самых трудных ансамблях — если бы понадобилось, я могла бы петь, хоть стоя на голове.
Над «Фиделио» театр работал почти полтора года. Ежедневные уроки, спевки, сценические репетиции в классах, оркестровые репетиции… Мне повезло — я попала в самое пекло работы.
Александр Шамильевич с этой постановки полюбил мой голос — «чистый, девственный звук», как он говорил. Как-то уже потом он мне признался, что у него выступали слезы, когда я начинала петь. Этот серебристый оттенок тембра помог мне в будущем создавать образы молодых героинь, особенно таких, как Наташа Ростова в «Войне и мире» Прокофьева, Марфа в «Царской невесте», Татьяна, Чио-Чио-сан, Маргарита в «Фаусте», и даже Аида, которая имела большие традиции исполнения драматическими сопрано, у меня получила совершенно иное вокальное и сценическое воплощение — я подчеркивала в ней нежность, хрупкость, жертвенность: «Нильской долины дивный цветок…» Насколько меня захватила работа над «Фиделио», ибо там я творила, создавала новое, не видя перед собой магических традиций, настолько мне не хотелось петь Татьяну. Тот тяжеловесный и пассивный образ, который я видела у всех исполнительниц, шел совершенно вразрез с моим представлением о пушкинской героине Чайковского. Каждый раз, когда я слушала спектакль, меня преследовала мысль, что вот эта певица, которую я встречаю в кулуарах театра и к которой отношусь с большим уважением, платье и парик Татьяны, вероятно, примерила для маскарада да так и забыла снять. Мне очень хотелось напомнить ей об этом, чтобы она поскорее приняла натуральный вид — а я бы избавилась от неловкости за нее: настолько этот маскарад не соответствует ее внутреннему и внешнему облику.
Из письма Чайковского к Н. фон Мекк от 6 декабря 1877 года:
«Где я найду Татьяну, ту, которую воображал Пушкин и которую я пытался иллюстрировать музыкально? Где будет тот артист, который хоть несколько подойдет к идеалу Онегина, этого холодного денди до мозга костей, проникнутого светскою бонтонностью? Откуда возьмется Ленский, восемнадцатилетний юноша с густыми кудрями, с порывистыми и оригинальными приемами молодого поэта a la Шиллер?
Как опошлится прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с ее рутиной, с ее бестолковыми традициями, с ее ветеранами и ветераншами, которые без всякого стыда берутся <…> за роли шестнадцатилетних девушек и безбородых юношей!»
Татьяна! В детстве пленившая меня своей возвышенной и романтической любовью, так гениально воспетой Чайковским, воплотившая в себе все самое прекрасное и ценное, что есть в русской женщине: глубокую страстность, нежность, жертвенность и смелость… Для русских женщин в жертвенности — особая сладость, она так же сильна в них, как и любовь.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.