2
2
«Огонь» и «Ясность». Ленин ставит эти две книги Барбюса рядом. Они едины, они подпирают друг друга, как порою в окопах солдаты подпирали друг друга плечом. Без «Огня» не могло быть «Ясности». Чтобы понять «Огонь», нужно знать «Ясность».
Скромные маленькие герои новелл из сборника «Мы — иные» метались в тесных рамках провинциальной жизни. В новых книгах герои Барбюса вступили в большой мир. Огромное историческое событие побудило их к этому. Грянули первые выстрелы, и люди надели серые шинели. Отныне их домом стали окопы, их бытом — поля сражений, их горем — гибель товарищей, их радостями — короткий отдых, баня, пара чистого белья.
Но это внешняя сторона дела.
Барбюс обладал искусством видеть, он проникал взглядом художника в душу солдата. В каждой главе «Огня» появлялся новый портрет героя с его внутренней жизнью. Из массы людей, одинаково одетых, вырисовываются образы рассудительного Вольпата, «мордастого крестьянина из Пуату», толстяка Ламюза, хрупкого, опрятного Фарфадэ, медлительного, добродушного Фуйяда, лодочника из Сетта, наконец, рабочего — капрала Бертрана, «который всегда держится в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом».
«Ну и не похожи мы друг на друга», — замечает один, приглядываясь ко всему взводу.
«Да, право, все мы разные, — констатирует автор. — И все-таки мы друг на друга похожи». Война несет с собой чудовищную нивелировку. «Связанные общей непоправимой судьбой… мы все больше уподобляемся друг другу… на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине».
Из общей массы и выходит «лирический герой» скорбной и величавой книги, немолодой солдат Анри Барбюс. Это и есть «активный, развивающийся человеческий характер», который искали и не увидели в книге некоторые исследователи.
«Огонь» — цепочка точных, броских, заостренных новелл и вместе с тем героическая эпопея. Эпопея народного страдания, бед, принесенных войной, эпопея тяжкой солдатской повседневности. И эпопея прозрения.
Французы любят афоризмы. Поль Дезанж сказал об «Огне»: «Это искусство, более правдивое, чем сама жизнь». Наконец-то в литературе Запада послышался трезвый голос реалиста, не остановившегося перед самыми неприглядными картинами военной страды.
То, что называли натурализмом, золяизмом, поэтизацией ужасов, было фронтовой правдой.
Первое, что увидел Барбюс на войне, — трупы. Он видел их повсюду. Он нес в свою книгу страшное свидетельство бессмысленной бойни. Он не говорил о количестве убитых. Он показывал их:
«…лежит парень задом в яме, весь согнулся, глазеет в небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» — «Что ж, ладно!» — говорю. Зато сколько хлопот было стащить с него эти чеботы; и повозился же я! Добрых полчаса, пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях…»
Некрасиво, неэстетично, натурализм? Как мог Барбюс-эстет, Барбюс-художник дойти до подобных крайностей?
Но ведь Барбюс не поэтизировал ужасы. Он рисовал окопную жизнь такой, какою она была. Правда книги в том, что он видел не только сапоги, «занятые чужими нотами»; он познал и радость общения с простыми людьми, с рабочими парнями, со вчерашними пахарями. Он разгадал их душу, он полюбил их навсегда.
Книга, написанная о жестоких вещах, глубоко гуманна. «Солнце существует», — вдруг обнаруживают солдаты. «Правда существует», — как бы говорят они. И автор, чье сердце кровоточит при виде страданий однополчан, постигает радость прозрения!
Так уже в «Огне» появляется ясность видения, ясность мышления, ясность чувств. Уже сюда проникает свет правды, единственной правды на земле — правды Революции.
Имя Либкнехта произносит солдат Бертран. В полемике с теми, кто рисовал ура-героику войны, кто лживыми речами одурманивал головы соотечественникам, призывая их на позиции, а сам «окапывался» в глубоком тылу, — в этой полемике и пришло познание истины.
Ее носитель — коммунист Либкнехт. Немец? Да, немец! Барбюсу только в 1916 году стала понятна великая интернациональная идея, провозглашенная Карлом Марксом в середине прошлого века. На той стороне воюют такие же рабочие и крестьянские парни, как и на этой. Высшим сферам нужно, чтобы братья по классу истребляли друг друга.
Барбюс и раньше над этим задумывался, еще не зная войну в лицо. В романе «Ад» два врача беседуют у постели больного:
«— Он русский или грек?
— Я не знаю. Я умею заглядывать в нутро человека, и я вижу, что там люди все одинаковы.
— Они одинаковы повсюду, — пробормотал другой, — хотя и силятся разжигать огонь, хотя и становятся врагами».
И в новелле «Злюка-луна» болгары и македонцы убивали друг друга, не отдавая себе отчета в том, что они братья. «Как это всегда бывает на войне», — добавлял автор. Теперь он увидел воочию, как это бывает на войне. И с еще большей болью и сочувствием написал о бессмысленности «коллективного убийства».
Раньше он мог представить себе войну лишь издали, в кабинете виллы «Сильвия». Теперь, вместе со всеми стоя в воде по пояс, пробираясь ночью ползком по нечистотам, теряя день за днем товарищей, теперь Барбюс утверждается в истине: нельзя убивать себе подобных.
В этом кредо можно, конечно, усмотреть и христианскую мораль, и толстовство, и, наконец, пацифизм. Барбюса еще не раз обвинят в пацифизме его друзья и недруги. Но нет! Книга «Огонь» не была смиренной, непротивленческой. Как вспышка пламени, как очищающий поток, проносится через книгу мысль о будущем. Как захватывает и несет в грядущее автора и героев образ Либкнехта!
«— Будущее! Будущее! — говорит Бертран. — Дело будущего — стереть это настоящее, решительно уничтожить его, стереть, как нечто гнусное и позорное!..
В эту минуту он являл мне образ людей, воплощающих высокое нравственное начало, имеющих силу преодолеть все случайное и в урагане событий стать выше своей эпохи».
Барбюс всегда был немного пророком. Эти вещие строки о будущем он написал уже тогда, когда к нему пришло прозрение. Среди безысходности настоящего он увидел свет будущего. Это социализм. «В социализме, — писал он с фронта жене, — я с математической неизбежностью вижу единственную возможность предотвратить войны в будущем. Никаких других возможностей нет».
Мысль эта, истина эта была понята не только Барбюсом. С огромной экспрессией выражено в «Огне» прозрение масс. «Дневник взвода» ведется не от лица одного героя; местоимение «мы», вырастающее в символический образ масс, придает книге эпическое и народное значение.
Прозрение. Это для Барбюса не понятие, не состояние, не внутреннее движение образа. Это целый мир революционного открытия.
«Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного, идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво»[11], — писал Владимир Ильич Ленин об этой книге, которую ему довелось прочесть еще в Швейцарии, а затем вернуться к ней в 1919 году, после знакомства с «Ясностью».
Роман Барбюса стал не только крупным общественным событием, но и новаторским художественным достижением. Новая проблема, новый герой, новое художественное решение темы — все это открытия Барбюса, проложившего дорогу современному эпическому изображению социальных сдвигов. Недаром Ленин отмечает силу таланта Барбюса.
В то время Барбюс еще не смог сформулировать свои мысли о современном романе, но позднее он установит: «Роман — это современная форма большой поэмы», — и назовет художника поэтом-романистом. В «Огне» Барбюс — поэт-романист; он пропел скорбную и торжественную песнь подвигам народных героев.
Старое испытанное оружие контраста, символики, гротеска, краски пейзажа, тонкие наблюдения над движениями души героев — все снова пригодилось Барбюсу. Но все, чем владел он и раньше, теперь сослужило ему новую службу. Заиграло по-новому, заискрилось слово Барбюса. Несколько отвлеченный, риторический язык «Ада» заменился сочной, броской народной речью. Он вводит в роман то, «о чем не говорят в обществе», — «грубые слова», и ревниво следит за тем, чтобы редактор их не вычеркнул.
Раскрывая «Эвр» с очередным фрагментом будущей книги, он с яростью констатирует, что газета опять «приукрасила» его стиль.
Жене он пишет: «Нелепо выбрасывать, как они это делают, крепкие словечки. В общем тоне разговоров эта грубоватая приправа почти необходима, как чеснок в некоторых простых блюдах, от этого диалоги солдат становятся ярче и правдивее. Недавно опять произвели у меня смехотворную, пошлую замену — напечатали: «ударил ногой по заду», тогда как Мольер устами артистов «Комеди франсез» выражается покрепче».
Живой разговорный язык рабочих кварталов Сен-Лазара, землепашцев Нормандии, докеров Марселя придает книге особый аромат достоверности.
Так случилось, что, преследуя Ромена Роллана, Жана Ришара Блока, Анатоля Франса и других антимилитаристов, французские правящие круги в самый разгар войны проглядели выход в свет не только антивоенной, но и революционной книги Барбюса.
Не была ли публикация «Огня» признаком страха перед пробудившейся силой фронтовиков и не эта ли боязнь открыла двери книге Барбюса?
Автор «Огня» сознательно не пошел по следам своих предшественников в построении романа. Ни раньше, ни теперь он не ставит в центре книги одного героя и не описывает его, подобно Бальзаку, во всех жизненных положениях.
Барбюс пишет о множестве. «Конечно, интересно, — скажет он позднее, — и, пожалуй, потрясающе показать страждущего индивида, например солдата в империалистической войне. Но гораздо интереснее, гораздо более потрясающе показать тысячи солдат, которых гонит в бой за свои интересы империализм».
«Огонь» — это новая форма политической эпопеи, поэма в прозе о народе, для народа, принятая народом.
Это парадоксально: рисуя портрет каждого солдата в отдельности, Барбюс, однако, не дробит изображения. Он соединяет их в огромный и значительный образ множества, массы, народа. А там, где обобщение, вступает в силу символ.
Подобно своему учителю Золя, Барбюс ведет повествование к символическому финалу. Бытовые сцены, солдатские будни, походы, побывки, привалы, сражения и многие другие факты ратной жизни завершаются обобщающим, монументальным символом в главе «Заря». Война еще идет. Люди еще терпят нечеловеческие муки, но они уже «иные», «…черное грозовое небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует».
Проблеск света — это ясность, символ прозрения, символ Грядущего.
Так прозревали миллионы.
Ну, а как же это было с каждым в отдельности? Или Барбюса действительно совсем не занимала отдельная личность?
Как в поэзии «лирический герой», автор «Огня» самораскрывается от первой страницы до последней. Он и возвышается над собратьями, обладая способностью понять разительные перемены в их сознании, и не щадит себя, обнажает свои слабости, посвящая читателя в динамику своего пути к прозрению.
Через четыре года после «Огня» Барбюс возвращается к исследованию. Психологию прозрения индивида, одного из тысяч, он проследил в «Ясности».
В России в первой редакции роман назывался «Свет». Ленин, переведя это заглавие как «Ясность», открыл значение книги как эпопеи революционного прозрения.
В «Ясности» вступили в строй законы старого классического романа. Снова пригодился опыт и Бальзака и Золя. И во главе романа оказался один из множества — Симон Полен, «обыватель и массовик».
Нет, это не был художественный эксперимент.
Пройдя за четыре года большую школу политической борьбы, став в центре антимилитаристского движения во Франции и сделавшись крупной фигурой в международном прогрессивном лагере, Барбюс испытывал потребность в художественном выражении той правды, которая ему открылась в русской революции.
Он писал об этом в публицистических книгах, провозглашал с трибун собраний, митингов, конгрессов. Но, как большой художник, Барбюс не мог быть удовлетворен только этими ораторскими выступлениями.
Он написал «Ясность» — детальное психологическое исследование, где день за днем прослеживал эволюцию рядового человека, постигшего великую революционную истину века. Таков рядовой человек Симон Полен, герой «Ясности».
«Конечно, я многого жду от жизни… но я не хотел бы слишком больших перемен. В глубине сердца я хотел бы, чтобы ничто не тронуло ни печки, ни крана, ни коричневого шкафа, ничто не изменило условий моего привычного вечернего отдыха», — таково кредо мещанина Симона в начале романа.
«Годы шли. В нашей жизни не было ничего замечательного… Иногда подкрадывается скука». Так начинается недовольство установившимся порядком серой, бесцветной жизни.
«Я еще молод… я должен… победить в себе обывательское желание предоставить событиям идти своим чередом».
«В жизни моей, протекающей нормально, намечается пробуждение воли», — эта мысль удивляет и радует Симона. Оказывается, и он на что-то годен. Хотя бы на то, чтобы быть недовольным и желать. Постепенно приходит ожидание чего-то необычайного, что могло бы окончательно встряхнуть его. Нужен удар колокола, разрыв грома или., грохот орудийного залпа. Такая минута настала, пришла война. Симон надел серую шинель, и началась окопная жизнь.
«В ту пору лишь вечер и утро сменялись обычной чередой. Все остальное было нарушено и казалось временным».
Нарушился обывательский покой: заработала мысль, горячее забилось сердце, пришло смятение.
«А я? Я в поисках; это лихорадка, это потребность, это безумие… Я ищу различия между теми, кто убивает друг друга, и не могу найти ничего, кроме сходства. Я не могу освободиться от сходства людей…
Единственная причина войны — рабство тех, кто ведет ее своими телами, и расчеты финансовых королей», — так приходит ясность, так проникает свет в сознание героя.
Появляется и чувство ответственности.
«А я?
Я, человек нормальный, что делал я на земле? Я поклонялся ослепляющим силам, не спрашивая, откуда они исходят и куда ведут. На что же мне послужили глаза, созданные, чтобы видеть, разум, чтобы судить?»
Развенчав прежние кумиры, человек должен найти идеал. И Симон его находит:
«Спасение только в тех, кого мир обрекает на каторжный труд, и кого война обрекает на смерть, и кому нужен только свет. Спасение только в бедняках». Эта мысль не дает Симону замкнуться в своем индивидуальном мирке. Она соединяет его с массой. «Равенство всех человеческих пятен, явившихся в мрачном, грозовом освещении, — да ведь это же откровение! Как случилось, что я никогда не видел этого?»
И тут рождается странное ощущение: иллюзии утрачены. В литературе XIX века герой, потерявший веру в былые идеалы, становился опустошенным, он деградировал. Симон переживает иное. Его прежние верования погребены, а он испытывает чувство исцеления, он как бы заново рождается. Ему не жаль своих иллюзий, потому что он теперь принадлежит «не к тем, кто кончает жизнь, а к тем, кто ее начинает».
И, наконец, вершина мыслей Симона, вывод, открывшийся ему на войне:
«Я вижу приближение великого прилива. Истина революционна лишь потому, что заблуждение беспорядочно. Революция — это порядок».
Идя по ступеням этих признаний, постигаешь, какую огромную ломку характера и верований претерпел этот человек.
В признании Симона — исповедь самого автора, чьи переживания, сомнения и обретения так сходны со всем тем, что пришлось пережить герою романа на войне. Но, разумеется, Барбюс не пришел на войну мещанином и обывателем. Тем сложнее была его эволюция, что он стал солдатом в сорок лет, будучи человеком со сложившимся мировоззрением, одаренным и прославленным художником.
Вот почему особенно важен его отказ от прежних иллюзий, постижение им революционной истины.
Барбюс в «Огне» уже достаточно широко нарисовал военный быт, сражения, переходы, привалы, чтобы в новой книге иметь право не задерживаться на этих картинах. Теперь перед ним другая задача — проникнуть во внутренний мир «обывателя и массовика», одетого в серую шинель.
«Ясность» — это не только психология прозрения, но и психология любви. Ясность наступает и в мышлении и в чувствах героя. Истинно счастлив тот, кто познал всечеловеческую революционную истину, утверждает Барбюс. Прозревший восходит на высоту нравственного величия и начинает по-новому понимать красоту чувства, постигать радость любви, как вообще теперь полнее воспринимает весь многоцветный мир — мир природы, общества и человеческих отношений.
Эта мысль облекается в финале «Ясности» в несколько причудливую форму абстрактно-отвлеченных суждений о любви, вдруг уступающих место конкретно-образной картине, исследованию оттенков человеческого чувства.
Это была удивительная творческая способность. В одном писателе совмещался пророк, трибун и тонкий живописец чувства, художник, не пренебрегающий картинами чувственности. Проповедник, мыслитель, публицист и эротический писатель, пропевший гимн плоти.
В последней главе книги «Лицом к лицу» Симон, движимый стремлением к ясности во всем, исповедуется перед Марией. «Я ворошу прошлое, перечисляю похождения, сменявшие одно другое и даже неудавшиеся. Я был обыкновенным человеком, не хуже, не лучше других, — вот я, вот мужчина, вот любовник».
Как бы споря с самим собой, Барбюс пересматривает то, о чем писал в романе «Ад». Там было преклонение перед страстью, ее обожествление, и чем исступленнее она была, тем богаче, тем красочнее казались люди молодому писателю. Здесь Барбюс вовсе не отказался от земного понимания любви, не охладел, но поднял страсть на высокую ступень нравственно прекрасного чувства.
Теперь и герой «иной». Он понял цену безудержной чувственности, унижающей человека. «Я чувствую, как во мне подымается проклятие этому слепому обожествлению плоти. Нет, два чувственных любовника не два друга. Скорее, два врага, связанные близостью… Очная ставка двух эгоизмов, исступление».
В отношениях между мужчиной и женщиной должна быть ясность, нужна правда, нужна поэзия самоотвержения, гуманности.
«Когда я кончил говорить, мы были уже не прежние, потому что не было больше лжи». Симон и Мария снова стали любить друг друга. Им пришла на помощь правда. «Понять жизнь и полюбить ее в другом существе — в этом задача человека и в этом его талант».
Такова эта новая философия любви, стройная наука о человеческом чувстве. Барбюс остается поэтом сердца, но теперь он соединяет эмоциональный и духовный мир человека. Чувство нельзя оторвать от сознания.
Эта мысль пленяет его, захватывает, влечет за собой, и он все более приподнимается над реальностью, уходя в монументальные образы, в отвлеченные символы, характерные для зрелого таланта Барбюса. Ораторские рассуждения, риторика уже коснулись и темы любви.
Они могли бы повредить художественному эффекту книги, если бы в ней не было поэзии мысли, высокой и чистой. Последние патетические страницы «Ясности» насыщены пафосом величия, святости любви, ее нравственной красоты, ее человечности, ее гуманности.
Так в двух романах обнажились внутренние миры многих и интимный мир личности. Сердца солдат взвода и сердце одного из тысяч.
«Огонь» и «Ясность» написал новый Барбюс. Он далеко ушел от того молодого поэта, который, по словам Альфреда Куреллы, «в начале столетия ошеломил простодушного французского читателя и увлек молодое поколение страстным гимном плоти, смелой картиной горячей чувственности, теми новыми словами, которые он нашел для выражения интимнейших переживаний».
Бесконечно далеки те времена, когда игра сюжетами, красками, психологическими нюансами привлекала Барбюса как самоцель. Эти времена ушли вместе с юностью, отшумевшей в кабачках Монмартра, где богема жила своей призрачной жизнью, относившейся к реальности, как аквариум к бурно текущей реке.
Не там и не тогда почерпнул Барбюс необычайную энергию, толкавшую его сейчас на аванпосты борьбы. Она родилась в огне войны.
Большой болью переболел он, прежде чем написал эти романы-близнецы, похожие друг на друга и в то же время очень разные. Эпопею прозрения масс и героический путь личности к Революции.
А между тем образы поэтические, лирические не оставляли его. Они не покидали его в пору самых бурных политических и теоретических споров. Он продолжал быть художником-психологом, художником-лириком.
Литературных гурманов не удивило, что автор «Огня» «вдруг» издал изящную книжечку новелл с неожиданным названием «Несколько уголков сердца». Они держали в руках эту книжечку в светло-палевой обложке с черными рельефными буквами заглавия, напоминающую другие, выходящие в издательстве дю Саблие в Женеве. Они перелистывали страницы, просматривая выразительные гравюры на дереве, которыми Франс Мазереель иллюстрировал новеллы Барбюса. Может быть, гурманов-то больше всего влекла необычность, контрастность черно-белых сочетаний в иллюстрациях великого графика, а не содержание новелл.
Что же касается Барбюса, то, должно быть, кое-кому показалось, что он вступил на прежнюю стезю искусства, далекого от социальной борьбы.
Однако все было сложнее. Среди многочисленных дел, в заботах об издании публицистического сборника «Речи борца», между встречами, заседаниями, полемикой работа над сборником новелл не была чем-то чужеродным для Барбюса того времени.
В нем не умолкал художник. Он настойчиво требовал внимания к себе. И чем бы ни была занята голова мыслителя, как бы ни взмывал вверх его темперамент политического деятеля, поэт, художник, мастер продолжал жить и мыслить образами.
Исследуя «несколько уголков сердца», Барбюс смотрит теперь на человека глазами писателя, для которого социальное начало стоит на первом месте. Если человек совершает дурные поступки, в этом часто повинны среда, воспитание, социальные условия.
В чеканные фразы необычайной ясности, в выразительные образы, в пластические описания выливается та самая философия, какой кончалось психологическое исследование в «Ясности». Вот уже из этой мысли родилась самостоятельная новелла «Мужчина» («L’Homme»). Необузданная страсть, чувственное исступление символизированы в образе главного героя, и они осуждены автором.
Маленькая Ивонна полна лучших стремлений; ее душа чиста, как душа ребенка; она горячо сочувствует своей подруге Марии, покинутой вероломным любовником. Она находит, этого Мужчину, бросает ему в лицо гневные обличения, требует, протестует.
«— Я никого не люблю, — объясняет он Ивонне свое поведение. — Я буду любить того, кто будет любить меня».
Он прошелся вразвалку, снова приблизился, взгляд его загорелся внезапной идеей.
«— Вас, если хотите».
«Страшный вербовщик» Мужчина покорил еще одну жертву.
Трагична судьба смирившейся, подчинившейся Ивонны.
Новелла обрамлена картинами меняющегося ландшафта. Воинственному настроению Ивонны соответствует буря, проливной дождь; в финале умиротворенная природа, стихия покоряется так же, как смиряется Ивонна, подчинившаяся грубой, властной силе.
«Там, наверху, грозовые тучи вдруг рассеялись. Заходящее солнце разлило по небу свои лучи. Женщина больше не могла ни думать, ни говорить. Она была бессильна».
Разумеется, эта картина умиротворения не в духе Мазерееля. Его гравюра передала смятение, динамику чувств, гнев, протест: густыми черными штрихами — ливень, а на его фоне — две мрачные фигуры женщин в черном. В их стремительном движении — порыв к мести. Таким, непримиримым, полюбил своего друга Франс Мазереель, соратник Барбюса по воинственному «Клярте».
В новелле «Женщина» («La Femme») героиня воплощает в себе высокое начало сострадания. Эта новелла, так же как и первая, свидетельствует об иллюзорности счастья в мире, где все подчинено купле-продаже.
В иной тональности написана новелла «Ребенок». Это уже сатира.
…Благонравное дитя, поощряемое наградами в школе, ласками родителей дома и наставлениями кюре в церкви, совершает десятки «невинных шалостей». Кики стреляет из рогатки в птицу, мучит беззащитных котят.
Дома, читая после завтрака газету, отец Кики вскрикнул от возмущения: «В Париже арестован убийца, семнадцатилетний юноша, почти дитя!»
И отец и мать залюбовались своим Кики, его благонравным видом и его наградным листом. Не будь это напечатано в газетах, они не поверили бы, что есть дети с порочными наклонностями: «наследственный алкоголизм, увы!»
Потайные уголки сердца открывает Барбюс, пытливый, вдумчивый, размышляющий, синтезирующий. Путь от конкретного образа к обобщению-символу — это типичная черта творческого метода Барбюса. Сколько бы «земных», бытовых, повседневных наблюдений ни встречалось в новеллах, ни одно из них не представляет для Барбюса цели само по себе. Все они — отправная точка, толчок к углублению в более общие истины, в закономерности.
Прогресс художника в этом сборнике, как и в книгах новелл «Иллюзия» (1919) и «Незнакомка» (1922), в том, что он пишет не отвлеченные портреты, а людей определенной социальной среды.
Немало общего между этими миниатюрами и теми новеллами, которые вошли в сборник «Мы — иные».
Но как возросло изобразительное мастерство Барбюса! Как математически точно построены его новеллы! Как сильны, динамичны характеры, как афористичен, меток его язык! И как ясны идейные позиции!
Маленькие новеллы походят на драгоценные камни: творец как бы перебирает их в прекрасной, полной сверкания игре.
В большой прозе Барбюс мог бесконечно нанизывать образ на образ, доказательство на доказательство. Его захлестывал и подчинял себе материал, и он возвращался к одной и той же мысли, к одному и тому же художественному решению.
Форма новеллы сразу дисциплинировала художника. Он становился строгим, требовательным к себе. Беспощадно отбрасывал лишнее, был предельно скуп и широко пользовался тем, что называется теперь подтекстом.
Так в одном художнике уживалось ораторское многословие с лаконизмом, широкая панорамность с искусством миниатюры.
И совсем особой, новой гранью его таланта оказалась публицистика. Барбюса невозможно себе представить без журналистики, без публицистических выступлений.
По натуре он был горяч и страстен. Весь огонь его, вся пылкость были переключены на публицистику. Постоянные, многократные выступления приучили его к повторению одной и той же мысли, к спиральному развитию идеи, к нанизыванию одного доказательства на другое. Митинги приучили к лозунгам. Приемы его публицистики могут показаться однообразными, если… если не почувствовать ее страстность.
Революционный пафос, романтическая восторженность человека, которому открылась истина; горячее стремление открыть ее другим, исцелить людей от болезни социального равнодушия; предельная человеческая искренность и огромная любовь к людям делали его речи, статьи не только программными. Это были как бы гимны, эпические песни, это были десятки новых марсельез, способных повести за собой людей.
Барбюс показывает «взрывчатую силу правды» и говорит о ней с той ответственностью, какая далась ему нелегким путем фронтовика. «Нравственная и социальная правда взывает к нам так красноречиво, что кажется, она зовет каждого из нас по имени!» Вот мера ответственности. Это его окопная правда призвала быть ее апостолом.
История дала людям в руки великолепный «проявитель». Теперь ценность человека в обществе измеряется отношением к русской революции. Барбюс широко понимает ее международное значение и разъясняет это своим слушателям на митингах и конгрессах.
Вершина его публицистических выступлений этого времени — статья «Мы обвиняем» (1919).
Впервые Барбюс подхватил гневную формулу своего кумира — Эмиля Золя: «Я обвиняю!» С этим возгласом в 1898 году один честный человек ринулся в бой против опасных общественных сил, которые пытались оклеветать невинного, чтобы убить его.
Ныне это клич всех честных людей, всех, в ком жива совесть. И Барбюс строит статью, как цепь обвинений. Каждый ее абзац, начинающийся словами «Мы обвиняем», — это гнев, направленный против тех, кто захотел потопить в крови русскую революцию. Эти повторяющиеся зачины словно подкрепляют не только мысль — они усиливают пламя революционной страсти.
Факты, неопровержимые улики против реакционных правительств Франции, Англии, Америки, против международной клики империалистов; острая саркастическая характеристика «всех этих палачей, бандитов, царских наймитов, колчаков и Деникиных»; призыв, исходящий из самого сердца писателя-гуманиста, обращенный к мужчинам, женщинам, девушкам, юношам, матерям, к тем, кого обрекают на смерть, к старым бойцам, которые прокляли войну, к работникам физического и умственного труда, ко всем французам, сохранившим верность благородным освободительным традициям родины, — этот призыв вылит в афористическую форму, в политический лозунг дня: «Спасайте правду человеческую, спасая правду русскую!»
Статья кончается коротким, разящим «Нет!» зачинщикам новой войны.
Какой бы грани дарования писателя мы ни коснулись, все говорит о том, что начало второго десятилетия века можно назвать годами зрелости Барбюса.
Стали точными, отлились в логические формулировки и эстетические суждения. Они проходят через полемику с Роменом Ролланом и через статью «Творчество и пример Золя» (1919), но главным образом через «Исповедь писателя» (1924).
Барбюс — защитник высокой гражданской миссии искусства. Особенно в век революции, в век социализма. Ни писатель, ни интеллигент вообще не могут стоять в стороне от борьбы за социализм. Он иронизирует над эстетами, он просто «списывает их с корабля современности», вычеркивает из активной литературной жизни. Он призывает к единению всех духовных сил, всей интеллигенции, но особенно тех, кто может рифмой, образом, красками проникнуть в душу читателя-«массовика».
Его больно ранит, когда эстеты, жрецы теории «искусства для искусства» сводят роль литератора «к роли беспристрастного свидетеля и аморфного наблюдателя».
Действие, только им поверяет он гармонию, ценность людей искусства и интеллекта.
Его неистовая целеустремленность, его цельность и прямота, его непримиримость и ни на минуту не прекращающееся горение привлекали к нему всех выдающихся современников. Они могли спорить с ним, в чем-то не соглашаться, но они любили в нем эту высокую страсть служения человечеству.
«Прометей революции», «Рыцарь печального образа», «Бесстрашный трибун», «Неукротимый комбаттан» и много других сердечных и патетических определений выражают как нельзя лучше это признание, а подчас и благоговение перед Барбюсом и решимость идти за ним, потому что такой человек не предаст Истину.
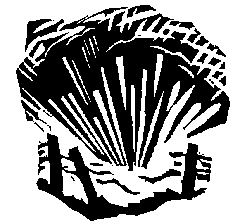
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.