Глава III «ВНУК ДЕДУШКИ КРЫЛОВА»
Глава III
«ВНУК ДЕДУШКИ КРЫЛОВА»
Демьян вернулся в «Правду» не совсем таким, каким покидал ее. Теперь его имя получило столь широкое признание критики, на какое он и сам не рассчитывал.
Он хорошо запомнил тот день, когда шел из типографии Вольфа с первой пачкой экземпляров своей книги. Крепкий мороз одевал тогда инеем равно граниты домов, извозчичьих лошадок да и воротник его демисезонного пальтишка. Шел и довольный и немного огорченный.
Огорчался потому, что уж очень напакостила цензура: в басне «Лапоть и сапог» сапога-то вообще не оказалось.
Удар по столыпинской земельной реформе повис в воздухе. А Демьян не любил промахиваться. Однако к цензурным усекновениям не привыкать стать. «Свечу» вот совсем не пропустили. Ни в целом виде, ни огарочка…
Радовался, оттого что вот они, шестьдесят басен, впервые соединенные вместе под скромной обложкой! Теперь они начнут свою не газетно-однодневную, а более длительную книжную жизнь.
Он шел, посмеиваясь, мимо сверкающих витрин: «По усам текло, а в рот не попало».
Придя домой, положил тяжелые пачки на середину стола.
— Полюбуйся! — сказал он жене. — Вот куда ушли твоя шуба, мой костюм, малышкина кукла… Да тут и дача в Мустамяках… Ты не гляди, что книжка с виду скромная. Шика нам и не требуется. — Он взял в руки книгу. — Посмотри!
Обложка четко делилась на три части. В центре — имя автора и крупно — «БАСНИ». Наверху — зимний деревенский пейзаж. Поле. Занесенные снегом избенки. Голые деревья. На дороге — фигура одинокого путника с палкой. Внизу — черным четким силуэтом — заводские корпуса. Серые столбы дыма из труб сливаются в одну тучу на бесцветном небе.
Поэт долго пытался найти издателя этих басен. Но любителя рискнуть не нашлось. «Уж очень кусачий товар!» — поеживались даже благожелательные. Тогда, махнув на все рукой, он издал книгу на свой счет в типографии Вольфа. Ахнул туда все деньги, что удалось наскрести и одолжить.
Демьян не знал, как встретят его первую книгу. Но выход ее был для него настоящим праздником.
— Эх, гори все огнем! — сказал он жене. — Вот есть еще шесть рублей…
И, накинув пальто, выскочил на минутку за угол, на Невский. Вернулся с большим пакетом.
— Веруня, давай парадный стол!
— Послушай, у нас даже рюмок нету!
— Тем лучше. Будем пить стаканами.
Он попросил жену надеть лучшее платье и велел нарядить дочку в то красное, бархатное, «для гостей», в котором ее водили на елку к Бонч-Бруевичам.
Сели за стол втроем. Такого обеда с закусками и сладким у них не бывало. Плевать, что ушли последние деньги!
Славно посидели они после у раскрытой дверцы печки. В этот день он не желал знать никакой экономии. Все подбрасывал и подбрасывал сухие поленья: «Люблю, весело пылает!»
Они разговорились, даже размечтались.
— Ничего, Веруня, мы еще с тобой поживем! Может, у нас даже няня будет…
— Ах, если бы нам такую няню, как у Бончей!
— Ишь, чего захотела! Ты сперва дочку по-французски выучи, тогда я такую няню сыщу! — посмеивался он.
Няня Бончей давно была предметом зависти.
После возвращения из Женевы Веру Михайловну арестовали сразу. Она лишь успела договориться с первой встречной няней. Маленькая Леля, не говорившая ни слова по-русски, осталась на руках только что нанятой Ульяши. А эта первая встречная сумела столковаться с девочкой, сберегла ее до освобождения матери и за минувшие годы стала не только значительным лицом в семье Бонч-Бруевичей, но и в кругу их друзей.
— Да-а-а… — протянул Демьян. — Насчет няни не обещаю, — задумчиво говорил он, глядя на огонь. — А вот что летом снимем дачу в Мустамяках, по соседству с Бончами, — это, пожалуй, могу пообещать! — неожиданно закончил он. — А пока… пойду-ка я разберусь. — И он, взяв пачку, прошел к себе. Здесь он, плотно усевшись за стол, начал со вкусом раскладывать книги. Удивился, как много надо дарить!
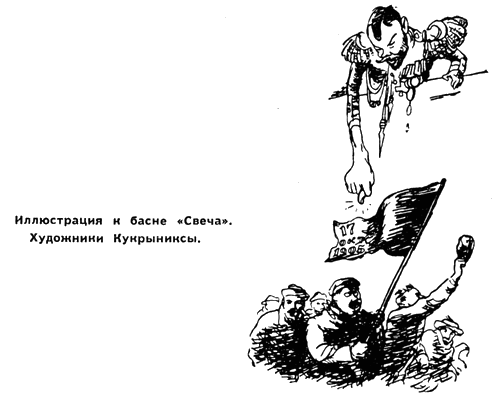
Особняком отложил один экземпляр Ильичу за границу. Потом в стороны то, что отнесет сам, что пошлет почтой. И начал подписывать. Много писал он в тот вечер, но сохранилось только несколько автографов. Один — критику Горнфельду, возглавляющему теперь отдел поэзии «Русского богатства»:
«Верьте мне, что я не склонен к самообольщению и рад буду тому, если Вы признаете во мне единственное качество, мое искреннее, горячее желание посильно служить скорейшему пробуждению и проявлению самосознания того простого рабочего народа, из недр которого я вышел».
Другой — книгоиздателю Аверьянову, который все собирался рискнуть его «Баснями», да так и не рискнул:
«Осторожнейшему издателю, милому, очень милому, бесконечно милому, сладчайшему Михаилу Васильевичу Аверьянову на добрую память от новоявленного… издателя».
Прошло немного времени, и «кусачий товар» привлек внимание критики. Менее всего к нему проявила интерес столичная печать. Не зря автор предпослал сборнику эпиграф из Крылова: «Таких примеров много в мире, никто не любит узнавать себя в сатире». Но не ожидал поэт и того, что случилось весной, когда из разных городов России посыпались рецензии, просто возводящие его на Парнас:
«Новый талант. Новое, значительное приобретение литературы. Не просто «подающий надежды», каких теперь много, а действительно прочное достояние искусства», «Демьян Бедный является четвертым баснописцем во всей мировой литературе, после Эзопа, Лафонтена, Крылова», — писала газета «Утро Юга».
Газета «Донская жизнь» озаглавила большую, даже не уместившуюся в одном номере статью — «Внук дедушки Крылова». Редакция поздравляла своих читателей с тем, что «наконец этот внук нашелся, вынырнул он с самого дна русской жизни, нежданно-негаданно, как раньше Максим Горький, и сразу же смело и дерзко, точно по прирожденному праву, уселся на вершине современного Парнаса в ряду лучших наших поэтов».
«Киевская мысль»: «Демьян Бедный отлично знает изображаемую среду, говорит ее языком, живет ее буднями и всей душой предан ее целям, мыслям, движениям. Оттого в его баснях нет бессодержательных фраз. Иногда они бывают чересчур злободневны, и автор из баснописца превращается в хроникера… Но есть много басен, которые должны быть отнесены к настоящей литературе этого сорта», «Такие басни, как «Лапоть и сапог», «Кларнет и рожок», «Дом», не только заслуживают признания, но и могут рассчитывать на долгую родословную в литературе». Признавая «остроумие, знание жизни и проницательность», один из критиков советовал поэту лишь «избавиться от излишне грубоватого тона».
Да, тон был временами очень груб, ничего не скажешь. Когда меньшевистский «Луч» заявил, что в басне вообще нашел себе приют грубый лубок, наследник Крылова не постеснялся: «О меньшевистские кретины! — начал свой ответ Демьян Бедный. — Мой пророческий, такой простой лубок… не зря на фабриках все знают назубок», и закончил вовсе вызывающими строками:
Пройдет ли год иль долгие года,
Но не уйдете вы, лакейские вы души,
Как не уйдут и ваши господа,
От беспощадного рабочего суда.
С презрением отметая все сказанное о нем врагами, он особенно внимательно прислушивался к откликам из провинции. Не оттого, что хвалили. Отвечая редактору «Донской жизни» Мирецкому, он объяснял:
«…рад, что мог вызвать именно такие горячие отклики и именно из провинции. Пусть я переоценен, но важно то, что такая встреча внушает мне некоторую веру в себя и свою скромную работу. Право же, мне приходилось выслушивать дружеские советы — перестать возиться с басней и от пустяков перейти к «настоящей» литературе, к чему, дескать, у меня есть некоторые данные — язык, например…»
Мы сейчас не знаем, кто давал такие «дружеские советы». Ясно одно: в большом кругу литературных знакомых было немало лиц, которые прочили ему иную — «блестящую» карьеру.
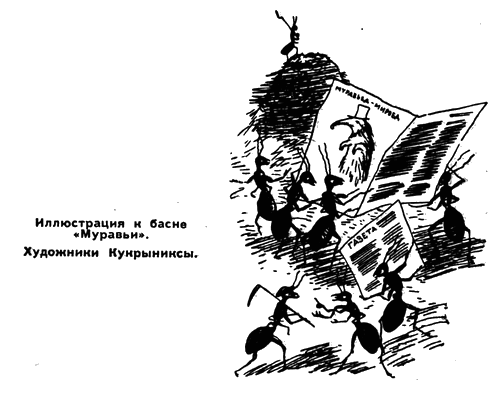
По-видимому, после выхода книжки атаки «соблазнителей» были очень активны. Об этом говорили и позже, даже в советский период. К десятилетнему юбилею «Правда» печатала воспоминания старых сотрудников. Вот что писал один из них о дореволюционном Демьяне Бедном: «…На одном берегу — полусказочная роскошь, лестное внимание сильных мира сего, культура и блеск, материальная поддержка начинающему поэту. На другом берегу — угрюмые хижины рабочих кварталов и нищета мужицкой хаты, мрак и невежество, участь певца бедноты, жизнь, полная лишения и риска».
Может быть, и даже наверное, сам Демьян так никогда не думал и, во всяком случае, не одевал свои мысли в столь нарядные формы.
А что именно он думал и как рассматривал свою работу в пору широкого признания, видно из его писем и поступков.
Во-первых, именно тогда он вернулся в «Правду». Во-вторых, именно в те дни он написал немало откровенных писем редактору «Донской жизни» Мирецкому, с которым у него возникли дружеские связи. Одно из них рисует обстановку в «Правде», как она видится Демьяну. В других высказан ход мыслей, какой всегда был ему свойствен, хотя позднее он уже не излагал их в письменной форме.
Вот отрывки из этих писем:
«Посылаю Вам… басню из вчерашнего номера «Правды» — «Муравьи». Басня — в силу тяжелой темы, широкого захвата — велика… Это почти уже и не басня. Просто — аллегорический призыв рабочих поддержать в тяжелое время свою газету.
Прекратив работу в «Правде»… я вернулся в нее в нынешнем июне; будучи позван на предмет, так сказать, поддержки. Я ушел было из «Правды» потому, что состав редакции «муравьиной» газеты получился из одних мух. Эти мухи много мне крови испортили. Вся «заграница» наша ничего не могла с ними поделать, как ни настаивала на необходимости моего возврата. У меня самого сколько было переписки! Пришлось под конец прибегнуть к крайнему средству: принести в жертву всех «мух». Я вернулся в «Правду». Мухи улетели. Пишут в газеты письма (см. «Луч» № 140)… Я решил пока не возражать. «Мухи» этому были бы только рады, чтобы завязать перебранку.
А дела «Правды» доведены до крайности. Не знаю, как откликнутся «Муравьи» на мою басню. Ее бы следовало перепечатать и у Вас: все бы маленькая польза, кто-нибудь пришлет в «Правду» лишний грош».
Дальше, как пишет поэт, «вышла чертова перечница. Я призывал «Муравьев» поработать один день с отчислением заработка в пользу своей газеты, а «Муравьи» взяли да… стали… бастовать, выражая этим протест против угнетения рабочей печати. Результат получился блестящий: «Правда» и «Луч» прекратили свое существование, а на заборах появились плакаты градоначальника о карах за забастовки. «Вышло дело — аромат», как поется в одной частушке. Прошла неделя. Вместо «Луча» родилась «Новая жизнь». «Правда» стала «Рабочей Правдой». Последняя на третьем номере успела уже конфисковаться. Рабочие газеты — газеты, четвертого измерения: будто бы существуют, а найти их порою невозможно: где они?! Что будет дальше — увидим».
…А дальше было то, что, помимо «Правды», «Просвещения», «Современного мира» и других изданий, Демьян принял еще предложение работать в харьковском «Утре».
Он впрягся в новое обязательство не ради дачи и не ради лишней публикации в провинции, — после выхода книги он был связан со многими газетами. На сей раз он проявлял предусмотрительность, как говорил, «на случай вынужденного отрясения столичного праха от ног моих».
Поэт сообщает Мирецкому, что «Днем у арестованного на улице Ефима А. Придворова был произведен (в д. 3, Пушкинская ул.) обыск. Придворов препровожден в охранку. Взята переписка, книги».
«Начинаю побаиваться: дошло ли до Вас мое письмо и бандероль? Неприятно, если письмо перехвачено тем «местом», которым я сам недавно был перехвачен. Успокойте меня, пожалуйста. (Не о себе думаю, мне что?) О Вас». Поэт тут же просит прислать несколько экземпляров статьи о своих баснях: «Хочу под нее заем учинить, то бишь аванс получить в одном издательстве. Мы — коммерсанты», — делает неожиданное признание Демьян. А и впрямь, чем он не «коммерсант»? Умудрился извлечь какой-то толк даже из своего ареста. Кроме басни «Будильник», написал стихи «Моя молитва», тоже вызванные к жизни самой охранкой:
Благодарю тебя, создатель,
Что я не плут и не предатель,
Не душегуб, не идиот,
Не заскорузлый патриот.
Благодарю тебя, спаситель,
Что дан мне верный «охранитель»
На всех путях, во всех местах,
Что для меня всегда в Крестах
Готова тихая обитель.
Ему удалось сдержать слово, данное жене, — вывез на дачу в Мустамяки, поселил неподалеку от Бонч-Бруевичей и Горького. По крайности тыл был обеспечен. Но Мирецкому он пишет:
«…А пока хорошего мало, — исключая удовольствие вылететь с «Пушкинской, 3» за неплатеж. Хорошо тому, у кого «соб. дом», особливо в Петербурге…»
Надо платить за дачу, за квартиру, за… Университет! Ведь, он все еще был студентом. Последнее продление вида на жительство было отмечено участком в марте. А как добывать другие «виды»? Надо держаться за Университет руками и ногами! Полиция не дремлет. И Александрийское воинское присутствие, вкупе с Херсонской губернской управой тож. Запросы, запросы…
Студент Придворов отлично знал, что с получением выпускного свидетельства кончится его право жительства в Питере. И он оттягивал этот момент как мог. Сдал десять экзаменов, а два — самых неинтересных для себя предмета — «придержал». На ту беду вышло распоряжение министра просвещения «О предельных сроках». Пришлось идти на экзамен по психологии и методологии истории.
Каково было ему, образованному марксисту, возиться с их «методологией»! Он теперь уже знал — и неплохо — другую, настоящую.
Каково было «мужику вредному», которого побаивались не в одной буржуазной партии и редакции, смиренно писать декану прошение, выражая, как полагалось для убедительности, «слезную» просьбу о новом продлении срока? Ничего, написал…
Ну и денек тогда выдался у него! 5 июня, когда в «Правде» верстали его «Азбуку» (некий Медведь объявил своим подданным, «чтоб следствий не было опасных, не разрешаю звуков… гласных!»). В этот самый день поэту пришлось сломя голову мчаться на Васильевский остров. Там, в канцелярии Университета, он домогался принятия платы за право учения. Квитанция, на которую он потом ссылался, апеллируя к декану, помечена: «5/VI 1913 года». Только и отвел душу ночью, в типографии, нырнув в стихию газетной торопливости, вдыхая запах бумаги и краски, слушая знакомые голоса и мерный грохот машин.
Хорошо! Борьба идет, просто всеми фибрами чувствуешь!
Но вообще-то не все шло гладко.
Бывали минуты уныния и у Демьяна. Однажды он с горечью писал Мирецкому:
«Тяжело выносить конфискацию за конфискацией»; сознавался, что иногда делается тошно, что мечтает о «южном воздухе, которого седьмой год не нюхал, застрявши в питерском болоте. Читаю на Вашем письме: «Новочеркасск», и зависть берет. Живут же где-то люди… У Вас там вишни давно отцвели. Не за горами — ягоды. И ставок, и млынок, и вишневенький садок, — и выпьемо, куме, добра горилка! Рай, и больше ничего. А мы здесь пробавляемся уксусной эссенцией и «Новым временем».
По-Вашему, я — трибун, который зорко: следит и т. д. А трибуну хочется в траве поваляться, опьянеть от степного воздуха, слушать трескотню кузнечиков и фырканье стреноженных лошадок…
Измытарился и устал. Говорю откровенно. Но буду писать, и никто этой усталости не заметит. Надо быть бодрым». В это время из-за новой басни «Честь» вспыхнули такие споры, что стихи послали на окончательное решение Ленину. Владимир Ильич высказался против: высмеивалась Вера Засулич, с которой Ленин много и горячо спорил, но не считал возможным насмехаться над ней. И Демьян впоследствии не включил басню ни в один из своих сборников. Умел понимать свою неправоту: «Своих промахов я не скрываю… Но — что делать? Выдержка и опыт приобретаются ошибками…»
Ошибки были. Но бывали и минуты ничем не омраченной радости. Вот, казалось бы, уж давно его «Басни» вышли, и пресса прошла — и вдруг! Харьковское «Утро» печатает статью Бонч-Бруевича, который давно уж на Украине из-за процесса Бейлиса: вызван в качестве эксперта по вопросам религии. Статья была подарком необыкновенным, и Демьян откликнулся горячо:
«Дорогой Владимир Дмитриевич!
Пишу Вам под свежим впечатлением от чтения Вашей статьи обо мне… я почувствовал себя взволнованным. Передо мною первый случай общественного мнения обо мне, высказанного человеком, лично меня знающим. Я получил громаднейшую нравственную поддержку не как «автор», а как человек «сам по себе». Стало быть, можно сказать обо мне доброе слово, даже зная шероховатости моего характера и те особенности, которые делают его тяжелым для многих, но не для Вас. Я чувствую, что Вам даже не пришлось ничего «преодолевать», а я люб Вам, каков есть.
Что касается «критики», то в ней я нашел также одну особенность, разрешающую большое недоумение, в каком я обретался последнее время, наблюдая какую-то, не поддававшуюся моей воле и внутреннему истолкованию, перемену в моем творчестве. Я со страхом стал замечать, что от меня уходит «смех», «добродушный смех»… заменяясь «гневом». Я подумывал: не падаю ли я? Органическое ли для меня, стихотворца, явление — гнев? Читая Вашу статью, я был поражен: почему никто не заметил того, что замечено Вами, а именно: гнева-то… гораздо больше, чем смеха. И именно гнев-то и есть главное, нужное… Я начинаю еще больше верить в важность и необходимость той работы, которую посильно делаю, идя по тому пути, на который я — после долгих мытарств — бесповоротно вышел…
Я не жду никаких испытаний для нашей дружбы, так как верю в ее искреннюю, глубокую прочность».
Поэт писал все это в том счастливом состоянии, когда человек верит «в важность и необходимость той работы», которую посильно делает. Владимир Дмитриевич растрогал его, и Демьян был готов захлопнуть книгу отзывов о своих баснях, если бы такая имелась. Но он еще не знал того, что стало известно через несколько дней: одобрительного отзыва Ильича.
Ленин, оказывается, даже Горькому написал, спрашивая: «Видали ли «Басни» Демьяна Бедного? Вышлю, если не видали. А если видали, черкните, как находите?»[5]
Пусть не «большая» литература! Маленькая? А он ею в меру сил большой правде послужит.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава вторая «Рус из прус» или внук Гостомысла?
Глава вторая «Рус из прус» или внук Гостомысла? В Новгородскую первую летопись (младшего извода) включен перечень новгородских посадников. В рукописи одного из ранних списков этой летописи, датируемой серединой XV века, он даже повторен дважды. Первый раз — перед
Источники, послужившие основанием для биографии И. А. Крылова
Источники, послужившие основанием для биографии И. А. Крылова 1) Сборник статей, чит. в отделении русск. языка и словесности Имп. Акад. Наук, 69 г., т. VI.2) Л. Н. Майков академик. Первые шаги И. А. Крылова на литературном поприще, «Р. В.», 1889 г., кн. 5-я.3) Полное собрание сочинений
О книге «Мои воспоминания» А. Н. Крылова
О книге «Мои воспоминания» А. Н. Крылова Книга академика Алексея Николаевича Крылова «Мои воспоминания» — удивительный образец мемуарной литературы. Она была издана впервые в 1942 г. и выдержала с тех пор шесть изданий. Тем не менее сейчас она представляет собой
ГЛАВА 5. СМЕРТЬ ДЕДУШКИ. АНДРЮШИН ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ. ПАПИНЫ БРАТЬЯ
ГЛАВА 5. СМЕРТЬ ДЕДУШКИ. АНДРЮШИН ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ. ПАПИНЫ БРАТЬЯ О тех временах, когда в доме не было еще ми Муси, ни меня (Jlepe было восемь-девять лет, Андрюше – год-два), нам рассказывали, что до нас в доме доживала свой век глубокая старушка, бабушка первой жены папы,
Люся Крылова
Люся Крылова Первые годы в «Современнике» были для меня чрезвычайно важны еще по двум причинам. Во-первых, потому что я женился, а, во-вторых, потому что у меня родился ребенок.Моим пристанищем в пятьдесят восьмом и в начале пятьдесят девятого года была комната, которую я
«Типография И. Крылова с товарищи»
«Типография И. Крылова с товарищи» 1790 год выдался особенно тревожным. Несмотря на полицейские и цензурные рогатки, вести из Франции продолжали проникать в Россию. В газетах печатались отчеты о выступлениях депутатов в Национальном собрании, о волнениях «черни»,
Основные даты жизни и творчества И. А. Крылова
Основные даты жизни и творчества И. А. Крылова 1769, 2 февраля (13 н. ст.)[31] — В Москве, в семье капитана Андрея Прохоровича и его жены Марии Алексеевны Крыловых родился Иван Крылов.1769–1774 — Жизнь на Урале, в Яицком городке и Оренбурге.1775 — А. П. Крылов выходит в отставку, и вся
Основные издания сочинений И. А. Крылова
Основные издания сочинений И. А. Крылова И. Крылов, Басни в девяти книгах. Пб., 1843.Полное собрание сочинений И. А. Крылова. С биографией его, написанной П. А. Плетневым. Тт. I–III. Пб., 1847.Полное собрание сочинений И. А. Крылова. Под ред. В. В. Калаша. Тт. I–IV. Пб., 1904–1905, то же 1918.Полное
Глава 15 ВНУКИ ДЕДУШКИ ТЕОБАЛЬДА
Глава 15 ВНУКИ ДЕДУШКИ ТЕОБАЛЬДА Сентябрь 1933 г. ознаменовался неожиданным событием в мире любительской журналистки — в свет вышел первый фэнзин «Фэнтези Фэн». Его редактором стал семнадцатилетний Чарльз Хорниг, проживавший в Нью-Джерси. Тираж у нового издания был
Основные даты жизни и деятельности Н. И. Крылова
Основные даты жизни и деятельности Н. И. Крылова 1903, 29 апреля — родился в селе Вишневом Тамалинского уезда Пензенской губернии. 1919, 10 февраля — окончил экстерном единую трудовую школу. 1919, 20 февраля — Крылов — красноармеец 3-го авиадивизиона Южного фронта. 1920, октябрь —
Глава третья Восемь бутылочек для дедушки Горлуковича
Глава третья Восемь бутылочек для дедушки Горлуковича Я топтался на январском морозе у входа в манеж, когда к нему подрулил автобус с дублем «Спартака». Хотя нет – уже зашел в холл и на лавку сел. А то начал подмерзать.Многих ребят 76-го года рождения я знал в лицо, поскольку
ДОЛГОЕ ДЕТСТВО КРЫЛОВА
ДОЛГОЕ ДЕТСТВО КРЫЛОВА Первым Ванечка произнес слово:— Га-ав!Молчал, молчал и вдруг высказался. Очень отчетливо. И даже как бы с вызовом. Далее последовало, «Мяу-у! Хрю-хрю-ю!».Молоденькая маменька Мария Алексеевна стала плакать и заламывать руки. У всех дети, как дети,
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА 1863 г. (15 (3) августа) — Рождение Алексея Николаевича Крылова.1878 г. (сентябрь) — Поступление в Морское училище.1884 г. (ноябрь) — Окончание Морского училища, мичман. Назначен производителем работ Компасной мастерской
Глава 3 В доме дедушки
Глава 3 В доме дедушки «Пять лет, которые Блаватская провела в доме своего дедушки, оставили в ней глубокий след, повлиявший на всю ее дальнейшую жизнь. Мисс Джефрис уехала, и у детей появилась другая гувернантка — скромная молодая девушка родом из Англии, на которую никто
СОЧИНЕНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
СОЧИНЕНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ Полное собрание сочинений И. А. Крылова в 4 томах. Петроград, 1918 г.И. А. Крылов, Сочинения. Однотомник. ГИХЛ, 1931 г.И. А. Крылов, Полное собрание стихотворений в двух томах. Большая серия «Библиотека поэта», 1935 г.И. А. Крылов, Басни.