ОТ МАРАФОНА ДО САЛАМИНА
ОТ МАРАФОНА ДО САЛАМИНА
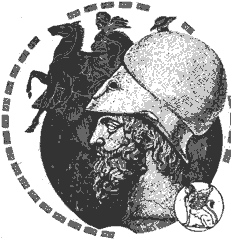
— Дарий, помни об афинянах!
Он возненавидел их еще 10 лет назад, когда восстали ионийские города и прогнали тиранов — его надежных союзников. В Эфесе, Милете, в Карии, на островах Эгейского моря призывали не подчиняться персам. Греческие отряды двинулись в глубь Малой Азии и сожгли персидскую резиденцию — Сарды. Но сил не хватало. Посланцы восставших умоляли эллинов о помощи — откликнулись лишь Эретрия и Афины, отправившие 20 кораблей.
Дарий не тревожился и не торопился. Шаг за шагом его армия теснила греков, запирая их в городах. Спасти могло только море. Но в 494 году в решающей битве близ Милета последние надежды развеялись. Флот погиб: 350 кораблей было потоплено, сожжено или захвачено победителями.
Дарий мстил расчетливо и хладнокровно — за прошлое и на будущее. Тогда-то он узнал о союзниках восставших. «Афиняне? Что за народ?» — недоумевал царь. Ему объяснили. Он приказал подать лук, натянул тетиву и пустил стрелу ввысь, к небу, словно призывая его в свидетели. А затем промолвил: «Да свершится мое возмездие!»
«Дарий, помни об афинянах!»
Трижды слуга повторяет эту фразу. Каждый день. Всякий раз, когда царь царей, «повелитель четырех стран света» приступает к трапезе. Она — как заклинание, как призыв к отмщенью. О, он расправится с афинянами так же, как с Милетом, от которого остались одни развалины! Даже имя их должно исчезнуть: он истребит мужчин и обратит в рабов детей и женщин. Дарий ничего не прощает. Он не забыл, как оскорбили его в Элладе, когда он потребовал от греков «земли и воды» в знак покорности. Никто не посмел отказать ему, кроме Афин и Спарты. Афиняне убили его послов, а спартанцы бросили их в колодец, посоветовав взять земли и воды, сколько захочется.
Жалкая кучка наглецов! На что они надеются? На счастливый случай? Да, им однажды повезло: два года назад Мардоний уже покорил Македонию, его корабли двигались вдоль южного побережья Фракии, неумолимо приближаясь к Элладе, Греки были обречены, но, видно, боги услышали их мольбы: буря разметала флот Мардония, и ему пришлось отступить.
Вторично Дарий решил не испытывать судьбу. Он сменил командующего, посадил армию на корабли и отправил ее напрямик, через Эгейское море — к Марафону. Зря только он послушался совета Гиппия. Бывший афинский тиран уверял его, что высадка окажется легкой и конница без труда опрокинет неповоротливых афинских гоплитов. Греки нашли выход. Они расположились так, что не позволили развернуться персидским отрядам, да и сражались с отчаянием обреченных, не побоявшись далее рабам дать оружие. Теперь они кричат о великой победе и готовы лопнуть от гордости, что спасли Элладу от варваров.
«Дарий, помни об афинянах!»
Месть! Он уже видит, как дымятся разрушенные дома, слышит истошные вопли о пощаде. Одна мысль об этом придает силы его ослабевшему телу. Царь царей уже стар, но он должен дожить до счастливого часа. Он сам поведет своих бесстрашных воинов — 10 тысяч «бессмертных»…
Дарий Гистасп не дожил до похода. Он завещал сыну огромную державу и неутоленную ненависть к эллинам. Однако Ксеркс не спешил. Новый царь был молод, но осмотрителен, он не хотел рисковать. Мардоний, его двоюродный брат, недоумевал: разве Ксеркс не верит в успех? Хорошо, пусть он вызовет всех военачальников и выслушает их мнение. Может, они убедят его?
Ксеркс собирает совет. Он говорит спокойно, чтоб никто не догадался о его сомнениях:
— Я созвал вас для того, чтобы открыть вам свои замыслы. Я намерен перекинуть мост чepeз Геллеспонт, повести войско через Европу в Элладу и наказать афинян за все, что они учинили персам. Вы знаете — уже отец мой готовился к тому походу, но умер и не смог покарать виновных. Я не сложу оружия, пока не возьму и не сожгу Афин, жители которых обидели и меня, и отца моего. Ведь они вторглись в Сарды и предали пламени священные рощи. Что они сделали потом, когда мы вступили в их земли, — это, я полагаю, известно всем. Потому я и решил идти на них войной.
Кроме того, покорив афинян и пелопоннесцев, я раздвину пределы нашей страны до эфира Зевса. Солнце не будет светить никому за границами Персии — я пройду Европу и все земли превращу в одну. Не останется ни одного города или народа, которые посмеют воевать с нами.
К походу готовились четыре года. Гигантская государственная машина пришла в движение. По царским дорогам, перерезавшим всю страну, мчались тысячи курьеров. На почтовых станциях они лихорадочно меняли лошадей и скакали дальше — с инструкциями, донесениями, приказами… Слово царя услышали в самых отдаленных уголках империи — от Черного моря до Персидского залива, от Нила до Инда и Средней Азии.
Разделенная на 20 сатрапий, Персия управлялась наместниками, имевшими собственные войска и штат чиновников. Но централизованная бюрократическая система не оставляла места для своеволия. Государство не знало законов и подчинялось лишь приказам царя. Оно не знало и граждан — были подданные, исполнительные и послушные. Разноплеменное и разноязычное население исправно платило налоги, поставляло воинов для царской армии и трепетало перед именем монарха, которого редко кому удавалось увидеть в лицо. Впрочем, в восточных деспотиях это и не имело значения. Поклонялись не конкретному Киру, Камбизу, Дарию или Ксерксу, а царю как таковому, верховному повелителю. Титул был важнее имени. Правителей могли свергать, избавляться от них с помощью яда или кинжала, авторитет высшей власти оставался незыблемым. Она олицетворяла силу и как всякая сила требовала покорности.
Непослушных Ксеркс не терпел. Когда он уже готовился переправиться с армией в Европу, буря разрушила мосты через Геллеспонт, возведенные египтянами и финикийцами. Ксеркс приказал немедленно отрубить головы строителям и высечь кнутом пролив, а в море опустить оковы, воскликнув при этом:
— Тебя, горькая вода, казнит так владыка за то, что ты причинила ему обиду, не будучи обижена им! Царь Ксеркс переступит через тебя, желаешь ты этого или нет!
Мост соорудили заново. Перекопав целую гору, прорыли канал, по которому пройдут корабли, минуя опасное место у пролива. На побережье Фракии и Македонии устроили склады с провиантом для снабжения армии в пути. А отряды все шли и шли в столицу Персии Сузы, чтобы оттуда двинуться на север, к Геллеспонту.
Царь не скрывал своих планов и больше не сомневался в успехе: ведь никогда еще ни одно государство не собирало подобного войска. Он постарался, чтобы об этом узнали и эллины. Когда захватили афинских лазутчиков, он не только не казнил их, но отпустил домой, предварительно показав им свою пехоту, конницу и флот. Быть может, убедившись в его силе, афиняне откажутся от бессмысленного сопротивления?
Вновь персидские послы объявились в греческих городах, требуя земли и воды. Их не видели только в Афинах и Спарте: Ксеркс ясно давал понять, что только с ними он намерен свести счеты, остальные же могут полагаться на его милость. Разъединить греков царю не удалось: его власть признали только Фессалия и Беотия.
Эллада готовилась к схватке.
Весной 480 года персы переправились через Геллеспонт и вступили в Европу. Семь дней и ночей по мосту шли воины, которых еще никто не пробовал сосчитать; за ними тянулся бесконечный обоз — повозки, запряженные мулами, стада быков, навьюченные лошади, верблюды…
Ксеркс устроил генеральный смотр войскам, в которых каждый народ составлял особый отряд. Перед ним стояли:
мидяне и персы в войлочных шапках и чешуйчатых панцирях, вооруженные короткими мечами, копьями и луками;
ассирийцы в медных шлемах, с дубинами, ощетинившимися железными гвоздями;
парфяне, хорезмийцы, согдийцы, скифы и бактрийцы с луками и секирами;
индийцы с луками и стрелами из тростника;
арабы в подпоясанных плащах, с длинными луками;
эфиопы в львиных и барсовых шкурах, вооруженные копьями с наконечниками из рога антилопы;
фракийцы в обуви из козьей кожи, с дротиками и легкими щитами;
ливийцы в кожаной одежде, с копьями, обожженными на конце;
фригийцы, пафлагоняне, каппадокийцы в плетеных шлемах, с дротиками и мечами;
кавказские народы в шлемах, украшенных бычьими ушами, с кожаными щитами и короткими копьями.
В стороне, отдельно от всех, выстроились 10 тысяч «бессмертных», чья одежда и оружие сверкали золотом. Их сопровождали колесницы со слугами и специальный обоз с провиантом. Эти отборные части составляли царскую гвардию, которая никому не сдавалась и никогда не умирала. Каждый воин имел преемника, готового занять его место, если он падет в бою.
Правда, Ксеркс был уверен: услуги «бессмертных» не понадобятся. Он глядел на неисчислимую разноголосую толпу и думал о том, что на всей земле нет силы, способной остановить эту лавину, когда она придет в движение.
Что могли противопоставить эллины? Две-три сотни кораблей да несколько десятков тысяч пехотинцев?
«И свою решимость отстаивать свободу», — подсказал Ксерксу кто-то из приближенных.
Царь снисходительно улыбнулся: «В моей армии все подвластны одному человеку. Кнут погонит их в битву, страх передо мной сделает их храбрецами. Если я прикажу, каждый совершит невозможное. Способны ли на это греки, болтающие о свободе?»
В войне греков с персами сражались принципиально разные государства. На одной стороне — необозримая держава с многомиллионным населением. Целые племена и народы, входящие в состав государства, не подозревали о взаимном существовании. Что могло связать воедино эту разнородную, разноязычную массу? Как управлять страной, состоящей из сотен самостоятельных, отгороженных друг от друга областей?
Древневосточные монархии покоились на двух китах — армии и чиновничестве. Силой оружия соединив несоединимое, они нуждались в чудовищной армии, способной подавлять недовольство покоренных народов и обеспечивать целостность страны. А без разветвленного чиновничьего аппарата нечего было и думать о нормальной жизнедеятельности государства.
Власть стучалась в дом каждого жителя. Она являлась в обличье судьи, старосты, сборщика налогов, контролера. Над одними чиновниками стояли другие, над теми — третьи — и так до самой вершины пирамиды. Оттуда, из резиденции сатрапа, шли приказы, распоряжения, инструкции, требовавшие безоговорочного выполнения. Сатрап, повелевавший жизнью и смертью подданных, казался им всемогущим. Он был, однако, всего лишь царским слугой, то есть рабом, благополучие которого зависит от милости хозяина.
Для стран Древнего Востока деспотическая монархия была закономерна и исторически оправданна. В крохотных античных полисах, население которых обычно составляло 100–200 тысяч человек, подобный режим возникнуть не мог.
20—30 тысяч афинян носили гордое звание гражданина — в число граждан не включались дети, женщины, метеки (иностранцы, постоянно живущие в городе) и рабы. Практически все жители Афин знали друг друга. Общественная жизнь проходила на виду. О каждом шаге чиновников, о каждой израсходованной казенной драхме становилось известно демосу. В течение года 10 раз должностные лица отчитывались перед Народным собранием в своей деятельности, каждого в любой момент могли сместить с его поста. Народ ревниво следил, чтобы кто-нибудь не приобрел слишком большого влияния, которое угрожало бы демократии. Представители власти отнюдь не воспринимались как люди, возвышающиеся над основной массой граждан. Скорее наоборот: они сами ощущали себя слугами демоса, вынужденными подчас заискивать перед ним и всячески доказывать свое право занимать ту или иную должность. При этом они должны были помнить, что и самый высокий пост не защитит их, если они совершат малейший проступок. Злоупотребляя властью и причиняя обиду согражданам, любой чиновник, складывавший свои полномочия через год и не имевший права дважды занимать одну и ту же должность (исключение составляли лишь члены коллегии стратегов), с тревогой ожидал расплаты после очередных выборов — ведь его место вполне мог занять обиженный и свести с ним счеты.
Казалось бы, власть не давала никаких преимуществ тем, кто нес ее бремя. Работать за плату в V веке до н. э. считалось позорным для свободного человека, который, участвуя в управлении, выполнял (и делал это бескорыстно!) свою прямую, хоть и нелегкую, обязанность, нередко расходуя значительные собственные средства. Единственным вознаграждением для него могла служить слава среди сограждан, почетные декреты, высеченные на камнях и увековечивающие имя того, кто позаботился о благе государства.
«Государство — это я!»
За 2200 лет до Людовика XIV такую фразу могли бы произнести Дарий или Ксеркс, и она не была бы пустым бахвальством. Как ни парадоксально, но еще более убедительно она прозвучала бы в устах афинского гражданина V века до н. э. Ибо афинянин осознавал себя как личность прежде всего потому, что являлся полноценным членом общества равноправных граждан.
Персидское нашествие несло с собой разрушения и жертвы. Афиняне и их союзники готовы были к ним. Подчинение же Ксерксу означало для них не просто позорную капитуляцию, а уничтожение основ всей их жизни. И потому через несколько лет они торжественно поклянутся перед решающей битвой, что «каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские».
***
Сражение при Марафоне современники расценивали как величайшую битву в истории Эллады. Они видели в ней не только военный успех, но и торжество эллинского духа над варварским. Марафон заставил греческие государства забыть о распрях и объединить силы для отражения иноземного нашествия. Он, как сказали бы сейчас, способствовал росту национального самосознания эллинов.
Блистательная победа потрясла воображение. Каким же мужеством обладали герои Марафона, если небольшой отряд сумел обратить в бегство чудовищную армию персов! Участников битвы славили поэты, их приводили в пример ораторы. И никому не приходило в голову усомниться в том, соответствуют ли легенды действительности.
Когда развеивается угар военных побед, историки обычно начинают более трезво оценивать, во что обошлись эти победы. И тогда за сказочной легкостью обнаруживается неимоверное напряжение сил, становятся достоянием гласности подлинные цифры потерь. Но время не всегда развенчивает легенды. Оно способно и увековечивать их.
Именно так произошло с Марафонским сражением. Его впервые с красочными подробностями описал Геродот, живший полвека спустя. И сведения его, кочуя в течение многих столетий из одних трудов в другие, вызывают недоумение.
В самом деле, 12 сентября 490 года 10 тысяч греков дают бой стотысячной армии персов и разбивают ее наголову. Оставив на поле битвы 6400 убитых, варвары поспешно возвращаются на корабли и отплывают. Потери же греков составляют всего 192 человека.
Триумф? Несомненно, хотя и кажется невероятным. Куда же торопятся персы? Залечивать раны? Собираться с новыми силами после разгрома? Но ведь из 600 кораблей они потеряли только 7. А на них — основная часть армии, и прежде всего конница, которая почему-то не присутствовала на Марафонской равнине.
Персидский флот направляется к Афинам; но едва он подходит к берегу, как перед ним вырастают выстроившиеся в боевой порядок марафонские бойцы, готовые к новому сражению. И варвары, не решаясь высаживаться, поворачивают корабли и уходят в открытое море.
Поистине загадочный поход, если Дарий и впрямь намеревался покорить всю Элладу! Остается лишь, не полагаясь на одного Геродота, строить предположения.
Очевидно, соотношение сил было несколько иным и численность персидских войск явно преувеличена.
По-видимому, лишь незначительная часть этих войск участвовала в сражении, и притом в ситуации, безусловно, невыгодной для себя: сигнал к атаке греки подали тогда, когда увидели, что персы, заканчивая погрузку на корабли, готовятся к отплытию и не ожидают нападения.
Возможно, высадка у Марафона, в 40 километрах от Афин, явилась лишь отвлекающим маневром, цель которого — облегчить деятельность персидских сторонников в самом городе, когда афинское ополчение покинет его пределы.
Вероятно, персы не предполагали, что спартанцы, забыв о прошлых обидах, придут на помощь своим постоянным соперникам — афинянам, и рассчитывали на молниеносный успех «малой кровью».
Так или иначе, вся операция Датиса и Артаферна, полководцев Дария, выглядит вопиюще безграмотной в военном и беспомощной в дипломатическом отношении. Пренебрежение тактическим искусством и самодовольная уверенность в том, что численное превосходство — гарантия победы, превратили битву в элементарное побоище, которое способно не столько возвеличить эллинов, сколько обесславить их противников.
Это, однако, ничуть не умаляет героизма греков, сражавшихся у Марафона. В честь погибших воинов афиняне соорудили памятник-гробницу, на котором высекли имена всех павших. В эпитафии же говорилось:
Было у этих бойцов негасимое мужество в сердце.
Противостали они у марафонских ворот.
Так защищали Афины, сражаясь за город и славу,
Что повернули назад мощную силу врагов.
Среди афинские стратегов не было единодушия: ровно половина из них советовала не вступать в сражение с персами, которые разбили лагерь и почему-то не спешили начинать военные действия. Все решило мнение военного архонта — полемарха Каллимаха, которого привлек на свою сторону Мильтиад. Шестью голосами против пяти решено было все-таки дать бой, в котором и погиб полемарх, невольно определивший судьбу эллинов. Лавры же победителя, естественно, достались Мильтиаду, хотя, как уже говорилось, они не уберегли его от бесчестья.
Марафонская битва избавила от страха многие полисы, терроризированные персами и готовые предоставить варварам «землю и воду». Она выдвинула Афины в первые ряды защитников общегреческой свободы. Она, наконец, дала афинянам десятилетнюю передышку, позволив подготовиться к будущим решающим столкновениям с державой Ахеменидов.
После осуждения Мильтиада у государственного руля встает его сподвижник Аристид, которого избирают в 489 году архонтом.
Этому человеку суждено было войти в легенду.
Через много веков античные деятели станут хрестоматийными персонажами и начнут кочевать из учебника в учебник. Вожди французской революции, обращавшиеся к политическому опыту Греции и Рима, рядились, по выражению Маркса, в одежды античных героев, видя в них образцы для подражания. И среди тех, кто вызывал столько же восхищения, сколько и удивления, особняком стояла скорбная фигура одинокого Аристида — мужественного воина, осторожного политика и неправдоподобно честного человека.
Уже современники воспринимали его как воплощенный принцип, как некий эталон добродетелей. Он поднялся к вершинам власти, не заботясь ни о карьере, ни о богатстве. Он оставался верен своим принципам и тогда, когда управлял государством, и тогда, когда его лишили всех почестей и изгнали из страны…
Аристид, сын Лисимаха, родился еще при Писистрате, около 540 года до н. э. В молодости он поддерживал Клисфена и участвовал в борьбе с тиранами и их сообщниками. Правда, уже в ту пору бурных реформ его натуре ближе были умеренные законы легендарного спартанского законодателя Ликурга, установившего незыблемые порядки в Лакедемоне. Спокойный и рассудительный Аристид любил тщательно взвешивать все обстоятельства, прежде чем принимать решение. Основательный и сдержанный, он с большим сомнением относился к рискованным проектам, не раз выносившимся на суд демоса.
Главный принцип, которому он следовал без колебаний всю жизнь: благо отечества превыше всего.
Аристида не волнует переменчивое мнение Народного собрания, с легкостью пересматривающего собственные постановления и поддающегося влиянию искушенных ораторов. Он служит истине, закону, государству, которое для него нечто большее, чем толпа, собравшаяся на холме Пниксе для голосования. Отечество превыше всего! Превыше обид и оскорбленного самолюбия. Превыше личных выгод. «Безразличный к почестям и несчастьям, Аристид, по словам Плутарха, сохранял присутствие духа и невозмутимость, не думая о славе и вознаграждении». Не имея состояния, он так до конца дней и не приобрел его и ни разу за свою долгую карьеру (а умер он в 467 году) не использовал высокого положения для личного обогащения. Он не оставил даже денег на собственное погребение: похороны ему устроил город Фалеры, где он скончался. Дочерей же его выдало замуж государство, дав им приданое за счет казны.
Аристид прокладывал свой путь в лучах славы. И в полном одиночестве. Он не знал друзей и соратников — принципы были дороже. Чтобы быть честным, надо оставаться независимым, даже от симпатий и привязанностей. Он не хотел обижать друзей, отказываясь выполнять их просьбы. Но он не мог и угождать им, ущемляя тем самым других сограждан. Наконец, он отлично знал, «как часто могущество, приобретенное благодаря поддержке друзей, толкает человека на несправедливые поступки, а счастливым человек может быть, лишь будучи честным и справедливым» (Плутарх).
Популярность Аристиду создали не реформы или законы, а именно нравственные достоинства — благородство, справедливость и неподкупность.
Во время похода Дария против Эллады Аристид входил в число десяти стратегов и был вторым после Мильтиада. Когда разгорелись споры о сроках битвы, он поддержал план Мильтиада, а затем решился на неслыханный шаг. Едва наступила его очередь командовать войсками (а стратеги возглавляли армию поочередно, ежедневно сменяя друг друга), он уступил свое право Мильтиаду и убедил остальных, что нет ничего зазорного в том, чтобы повиноваться более опытному полководцу. Благодаря этому соперничество между стратегами сошло на нет и авторитет Мильтиада стал непререкаем.
В Марафонском сражении Аристид занял место в самом центре, среди тех, кто принял на себя главный удар персов.
После ухода греческих отрядов, поспешивших на выручку к Афинам, он остался в Марафоне охранять пленных и добычу. И хотя «повсюду были груды серебра и золота, а в палатках и на захваченных судах находились в несметном числе всевозможные одежды и другое имущество, он и сам пальцем ни к чему не притронулся, и другим не позволил» (Плутарх).
Как воин и как частное лицо Аристид невольно вызывал всеобщее уважение. Оно сменилось удивлением и недоверием, когда он стал государственным деятелем. В общественном сознании греков укоренилась мысль, что политическая карьера требует совсем иных качеств, что успеха добиваются те, кого не обременяет особая щепетильность в выборе средств, кто умеет быть гибким и вовремя забывать о собственных принципах во имя, конечно же, великих целей.
Честному, бесхитростному и прямолинейному Аристиду пришлось заниматься ремеслом, требующим изворотливости, дальновидности. Увы, природа не наградила его ни одним из этих свойств. Он ставил себе в заслугу бескорыстность, умеренность и осторожность. Они легли в основу его политики. Афины же нуждались в другом. И потому нетрудно было ожидать, что найдется человек, который увлечет демос более решительной и активной программой действий. Подобный смельчак, разумеется, нашелся. К несчастью для Аристида, им оказался не дешевый демагог и авантюрист, спекулирующий заманчивыми лозунгами, а талантливый и сильный деятель. Звали его Фемистокл.
Его отец Неокл не принадлежал к высшей аристократии. Род его был древним и знатным, но, как говорит Плутарх, «не настолько, чтобы способствовать его славе». Еще менее мог гордиться своими предками Фемистокл, незаконнорожденный сын Неокла. Впрочем, отец позаботился о нем и дал возможность получить образование. Фемистокл занимался в гимнасии, располагавшемся за городскими воротами и посвященном Гераклу (тоже, как известно, бастарду). Правда, учение его не увлекало.
В детстве Фемистокл никогда не оставался праздным. Он не участвовал в детских играх и постоянно сочинял речи, мечтая о будущей славе. Учитель предрекал ему: «Из тебя выйдет что-нибудь очень великое — или доброе, или злое». И не ошибся.
«Фемистокл на деле доказал свою природную даровитость, и в этом отношении заслуживает удивления больше всякого другого. Благодаря сообразительности он, не получив ни в ранние, ни в зрелые годы образование после самого краткого размышления оказывался вернейшим судьей данного положения дел и лучше всех угадывал события самого отдаленного будущего… Фемистокл… обладал в наивысшей степени способностью моментально отыскивать надлежащий план действий» (Фукидид).
80-е годы V века — годы борьбы между Фемистоклом и Аристидом. От исхода ее зависела судьба не только каждого из соперников, но и самого государства. Афины стояли на распутье. Сохранять ли им в неприкосновенности старые порядки, укреплять город и оставаться по-прежнему сухопутной страной, огражденной надежными щитами гоплитов? Или, круто повернувшись лицом к морю, строить флот, утверждать свое владычество на островах и в далеких колониях, превращаясь в морскую державу? Земледельческая знать, крестьяне предпочитали иметь твердую почву под ногами, не доверяясь зыбким волнам.
Даже через сотню лет, когда афинские корабли станут заходить в отдаленные порты Средиземного и Черного морей, поэт Фалек будет предостерегать:
Дела морского беги. Если жизни конца долголетней
Хочешь достигнуть, быков лучше в плуга запрягай:
Жизнь долговечна ведь только на суше, и редко удастся
Встретить среди моряков мужа с седой головой.
Купечество, ростовщики, городская беднота возлагали свои надежды именно на флот. Море должно было дать не только прибыль торговцам, но и работу неимущим. И только флот способен защитить Афины от любого врага.
Осторожный, избегающий риска Аристид сохранял верность прежним идеалам. Разве слава Афин не в их непобедимых воинах? Разве стены города не надежны, а граждане не едины в стремлении защитить отечество? Не лучше ли отказаться от сомнительных предприятий и сохранять мир и спокойствие, чем нарушать установившийся порядок? Разве Спарта не являет собой пример надежности и незыблемости государственного устройства, которому не угрожают опасные реформы? Наконец, утверждение на морях превратит Афины из союзника греков в их господина. Справедливо ли это?
Нет! Надежда афинян — их собственная земля. Только тот, кто владеет ею, имеет право называться гражданином. Нельзя допустить, чтобы земледельцам грозило разорение, чтобы рухнули традиционные устои государства. Разумные реформы, улаживание внутренних конфликтов — этому Аристид готов посвятить жизнь. Он защищает права демоса и не допустит, чтобы кто-нибудь угрожал благополучию Афин. А потому он будет противиться любым планам, которые подвергают опасности жителей полиса. Интересы отечества — превыше всего!
«Кто же спорит против этого? — возражал Фемистокл. — Только кто дал право Аристиду считать себя единственным защитником родины. Разве его устами говорят боги, устанавливающие справедливость? Да, конечно, Афины всегда были страной земледельцев. Что ж, времена меняются. И мудрец — не тот, кто сохраняет верность старине, а тот, кто глядит вперед, кто живет не только сегодняшним днем, а думает о завтрашнем. Будущее же не сулит Афинам ничего радостного, если они по-прежнему будут надеяться на свои крепостные стены. Гоплиты не сумеют удержать варварские полчища, если те вторгнутся в Элладу. Только флот спасет Афины от смертельной угрозы, только он сделает их хозяевами на морях. Аристида называют Справедливым. Пусть так! Но что толку от его принципов, если они вредят государству? Он утверждает: надо думать не о выгоде, а о честности и справедливости. А я говорю: хорошо и справедливо все, что полезно Афинам».
Так или примерно так мог рассуждать Фемистокл, положивший в основу своей политики прагматический принцип, который через 2 тысячи лет с издевательской ясностью сформулируют поклонники Макиавелли: «Цель оправдывает средства».
Пройдет немало столетий, прежде чем придут к мысли, что не всякая выгода благо, что средства могут убить саму цель, что с помощью лжи и беззакония нельзя добиться правды и справедливости.
В начале V века до н. э. еще верят, что политика не противоречит добродетели. Бескорыстный, беспощадно-честный Аристид становится героем своего времени. Но время это проходит очень быстро. Появляется Фемистокл — полная противоположность Аристиду, человек, которого сжигает огонь честолюбия. Он откровенно признается, что триумф Мильтиада не дает ему покоя. Он мечтает о славе и богатстве — для всего государства и для себя лично. Его не смущают разговоры о том, что он «разумом силен, да на руку нечист». (За годы своей карьеры Фемистокл увеличил собственное состояние в тридцать с лишним раз!) Да, он не кичится ни благородством, ни скромностью. Он не брезглив и не боится запачкать свой хитон, заключая сомнительные сделки и ведя тайные переговоры с подозрительными лицами. Он умеет ценить друзей и покровителей и всегда готов отплатить им за их услуги: «Я никогда не сяду на такой престол, который не предоставит моим друзьям больших прав, нежели посторонним людям». Аристид прославился своей добропорядочностью. Пусть она останется при нем. Он, Фемистокл, завоюет еще большую популярность и сделает это иным способом.
Совсем недавно Фемистокл и Аристид были союзниками. Вместе сражались при Марафоне. Вместе боролись против сторонников тиранов. Аристид поддерживал Фемистокла, когда тот предложил реформу, по которой архонтов стали избирать по жребию — и не только из рядов знати, но и из средних слоев населения.
Периклу знакомы оба имени. Ему по душе невозмутимый и честный Аристид. Но он не раз слышал, как в его доме хвалили Фемистокла за энергию и решительность. Ксантипп, связавший свою деятельность с морем, одобрял смелые планы Фемистокла. И никто еще не подозревал, что, возмужав, Перикл во многом будет подражать Аристиду-человеку и продолжать дело Фемистокла-политика. А пока он слишком юн и неопытен, чтобы разбираться в событиях. И искренне удивляется, когда Ксантипп неожиданно меняет отношение к Фемистоклу и начинает говорить о нем с нескрываемой злобой. Оказывается, вместе с Аристидом Фемистокл выступил против рода Алкмеонидов, склонных поддерживать дружественные отношения с персами. В результате наиболее опасным соперникам пришлось удалиться в изгнание. Среди них оказался и отец Перикла.
Вскоре пути Аристида и Фемистокла разошлись. Аристид не мог принять программу бывшего союзника, считая ее гибельной для государства. Фемистокл же настаивал на скорейшем строительстве флота, убеждая всех, что Марафонская битва не конец, а начало борьбы с варварами и нужно использовать передышку, чтобы подготовиться к новым боям.
Аристид сопротивлялся до конца. Логика борьбы заставляла его противодействовать даже в тех случаях, когда Фемистокл вносил разумные предложения, лишь бы не дать ему победить и укрепить свое влияние. Однажды, взяв верх над Фемистоклом и убедив Народное собрание в собственной правоте, Аристид, понимая, что на самом-то деле прав его соперник, в сердцах воскликнул, что афиняне до тех пор не будут в безопасности, пока не сбросят их обоих в пропасть.
Борьба требовала жертв. И Аристиду пришлось поступиться принципами, которыми он так дорожил. Он, признававший лишь честную, открытую политику, вынужден был хитрить, интриговать, нередко даже действовать через подставных лиц, чтобы Фемистокл не помешал его начинаниям. Он клеймил своих противников и предрекал, что они ввергнут Афины в пучину бедствий. Он взывал к разуму и добродетели и с грустью убеждался в том, что люди глухи, к его призывам.
Когда ему поручили контролировать общественные доходы, он уличил в хищениях ряд должностных лиц, в том числе и Фемистокла. В отместку тот, собрав недовольных, сам обвинил Аристида в краже и неожиданно выиграл дело в суде. Это вызвало всеобщее возмущение: Аристид мог ошибиться, но разве он способен совершить нечестный поступок? Аристида освободили от наказания и вновь назначили на ту же должность. Сделав вид, будто он раскаивается, Аристид теперь стал проявлять снисходительность к расхитителям казны, закрывая глаза на их проделки. Рассыпаясь в похвалах, они убеждали демос и впредь избирать Аристида, столь безупречно исполняющего свои обязанности. И тогда перед началом голосования Аристид обратился к народу:
— Когда я управлял добросовестно и честно, меня опозорили, а теперь, когда я позволил ворам поживиться за счет общественного добра, меня считают отличным гражданином. Но сам я больше стыжусь нынешней чести, чем тогдашнего осуждения, а о вас сожалею: вы охотнее одобряете того, кто угождает негодяям, чем того, кто охраняет государственную казну.
Авторитет Аристида как безупречного гражданина по-прежнему не подвергался сомнению. Плутарх замечает: «Из всех его качеств справедливость более других обращала на себя внимание: ведь польза, приносимая ею, ощутима для каждого и дает себя знать долгое время. Вот почему этот бедняк, человек совсем незнатный, получил самое что ни есть царственное и божественное прозвище «Справедливого»; ни один из царей или тиранов не старался стяжать себе такого же».
Аристид имел право гордиться своим прозвищем — ведь его называли так не из лести и не из страха. И он отлично знал, что уважение сограждан, вовсе не означает, что они всегда и во всем согласятся с ним. Он думал не о почестях, а о спасении отечества. И не понимал, что может погубить его.
В 483 году в рудниках Лавриона, на самом юге Аттики, были открыты новые сереброносные жилы. Как использовать это неожиданное богатство? Прежде доходы от рудников шли на раздачу гражданам. Но теперь, когда повсюду говорили о военной угрозе, им следовало найти иное применение.
Фемистокл понял, что пришел его час. Уже давно он агитировал за развитие морского дела. Еще будучи архонтом (в 493/92 году), он начал превращать Пирей в военную гавань, хорошо защищенную и удобную для стоянки кораблей. В 488 году началась война афинян с островом Эгиной, тогдашним центром ремесла и торговли в Эгейском море. Эгина, обладавшая самым многочисленным флотом среди всех эллинских государств, блокировала побережье Аттики. В Афинах зрело недовольство, росло ощущение позора и убеждение, что так дальше продолжаться не может.
Выход был один — и предложил его Фемистокл. Нужно строить военные суда, набирать морские экипажи. И тогда афиняне смогут не только отразить варваров, но и властвовать над всей Элладой. Средства? О, он вовсе не собирается вводить поземельную подать, взимавшуюся при тиранах. Но ведь есть же Лаврионские рудники. И наконец, разве состоятельные граждане откажутся помочь государству, чтобы спасти его?
Народ колебался. Проект Фемистокла одновременно привлекал и отпугивал, он казался слишком заманчивым и слишком рискованным. А последствий его никто предвидеть не мог.
Известия о военных приготовлениях персов положили конец сомнениям. Народное собрание одобрило программу Фемистокла и подписало приговор Аристиду.
Фемистокл понимал, что устранить Аристида не так просто. В конце концов в чем его обвинить? В преступлениях? Но он всегда стоял на страже закона. В измене отечеству? Кому ж придет в голову усомниться в его патриотизме? В стремлении к личным выгодам? Всем известно его бескорыстие. В том, что он не согласен с новой политикой руководителей государства? Но кто может запретить ему отстаивать свои взгляды? Ведь основу демократической конституции Афин составляют два незыблемых положения: все одинаково равны перед законом (исономия) и все имеют равное право высказывать собственное мнение (исэгория).
Заставить Аристида замолчать невозможно. Но покуда он остается в Афинах, к его голосу будут прислушиваться и его сторонники сделают все, чтобы сорвать планы Фемистокла. Конечно, Аристид не преступник. Он искренне заблуждается, но заблуждения его опасны. Думая о благе отечества, он толкает его в пропасть. Значит, нужно лишить его возможности влиять на государственные дела и сделать это не тайно, а открыто, при поддержке всего народа.
В Народном собрании председатель задает вопрос: есть ли необходимость подвергнуть кого-нибудь из граждан остракизму? Собрание дает утвердительный ответ. И вскоре народ сходится вновь. Все речи давно произнесены, все обвинения сформулированы. Осталось лишь молча проголосовать, нацарапав на черепке имя того, кто угрожает государству тиранией. Фемистокл, известный своим честолюбием и явно рвущийся к власти, или возражающий против реформ Аристид, о котором враги распускают слухи, что он фактически стал единоличным правителем — разве что стражей не обзавелся?
Обычно решение большинства в Народном собрании расценивалось как выражение воли демоса. В особых же случаях возникала необходимость узнать мнение всех граждан. А так как практически это было невозможно, удовлетворялись цифрой в 6 тысяч человек, достаточной, как полагали, чтобы представлять весь демос. Остракизм признавался действительным, если при подсчете обнаруживалось не меньше 6 тысяч черепков. Изгнанник не мог жаловаться на несправедливость властей — его судил целый народ.
Летним днем 482 года Афины отреклись от человека, которого почти десятилетие считали совестью народа.
Голосование проводилось не на Пниксе, как обычно, а на агоре — торговой площади, ставшей после изгнания тиранов центром политической жизни города. Закрылись лавки купцов и менял, мастерские ремесленников. Смолкли крики погонщиков мулов и продавцов, расхваливающих товары. Беспокойная, шумная агора замерла в ожидании. Решалась судьба одного человека. И ее собственная…
Площадь обнесли барьером с отдельными входами для каждой из десяти фил. Медленно вступали граждане в огороженное пространство агоры. Получив черепок (остракон), они писали или процарапывали на нем имя того, кого считали опасным для государства, и, повернув этот «бюллетень» так, чтобы никто не видел написанного, отдавали специальным чиновникам. Никто никого публично не обвинял — архонты и члены Совета пятисот внимательно следили за тем, чтобы голосование оставалось тайным.
Томительно тянулся день. Окруженный друзьями Фемистокл не скрывал своего нетерпения — он не сомневался, что посрамит соперника.
Наконец-то исчезнет последняя преграда на его пути к власти и славе! Он уже видел себя во главе мощной державы, повелевающей эллинами, и предвкушал почести, которых никому еще не оказывали.
В стороне спокойно наблюдал за происходящим Аристид. О чем думал он в эти роковые часы? О том ли, что люди неблагодарны и изменчивы в своих симпатиях? Или о том, что даже дальновидный Фемистокл не в силах предвидеть всех последствий своих реформ, которые, быть может, и укрепят государство, но испортят нравы его жителей? В конце концов разве дело в нем, Аристиде? Даже если отечество отвергнет его, он не станет врагом Афин и не опорочит доброго имени гражданина. Да и сам Фемистокл не так уж опасен. Конечно, он тщеславен, властолюбив и корыстен. Но он энергичен и умен. И никто не посмеет упрекнуть его, что он хоть в чем-нибудь нанес ущерб афинскому народу. Только понимает ли он, что ожидает его родину в будущем? Афины обзаведутся военным флотом! Пусть так, хоть он, Аристид, и не видит в этом особой нужды. Но кораблям нужны экипажи, опытные моряки. Почувствовав силу, они потребуют и прав. И кто сможет противостоять им в Совете пятисот и народном суде? Кто остановит их, когда они начнут поносить с трибуны уважаемых граждан и расправляться со всяким, кто вызовет их подозрение? Пока люди подчиняются закону, государству ничего не грозит. Фемистокл же хочет сделать господином не закон, а народ. Неотесанные виноградари, полуграмотные ремесленники, крикливые торговцы и матросы — вот кто будет принимать решения в Народном собрании, избирать руководителей, изменять законы, награждать и карать. И так ли уж надежна граница между волей демоса и его своеволием?
Кто-то тронул Аристида за плечо. Погруженный в размышления, он не заметил, что перед ним стоит крестьянин и протягивает черепок.
— Прошу тебя, напиши за меня имя, а то недосуг мне было буквы-то учить.
— Кого же ты хочешь изгнать из Афин?
— Аристида, конечно.
— Гм… А он что, обидел тебя чем-нибудь?
— Да нет, мне-то что. В городе я бываю редко — разве что на базар приеду или вот, как нынче, на собрание. Но как ни появлюсь, отовсюду только и слышу: «Справедливый», «Справедливый». Я его и в лицо-то не знаю, да надоело слушать, как его восхваляют.
Аристид усмехнулся и, ничего не ответив, написал свое имя. Он больше не сомневался в исходе голосования.
Подсчитав черепки и убедившись, что их не меньше 6 тысяч, члены Совета пятисот разложили их по именам… Аристид, сын Лисимаха, должен был на 10 лет удалиться за пределы Аттики. Он уходил как враг, твердо решив оставаться патриотом.
Гомеровский Ахилл, которого оскорбил командовавший ахейскими войсками Агамемнон, покинул когда-то военный лагерь и просил богов, чтобы на греков обрушились беды и они пожалели бы о его отсутствии. Меньше всего Аристид думал о себе. Уходя из города, он воздел руки к небу и воскликнул: «Пусть никогда, о афиняне, не наступит для вас тяжелый час, когда вы вспомните об Аристиде!»
***
Фемистокл попытался сделать все, чтобы этот час никогда не наступил. Избранный стратегом в 482 году, он лихорадочно готовился к войне. Кроме 50 военных кораблей, которыми располагали Афины, он предложил построить еще сотню. Прежние 50-весельные суда сменились более совершенными и крупными триерами. Сооружением флота занималось непосредственно государство. Заготовку снастей и набор экипажа поручили богатейшим гражданам, предоставив им почетную обязанность расходовать собственные средства (триерархия).
Новая система организации флота привлекла многих малосостоятельных афинян. Впервые в афинской истории низшее сословие почувствовало свою силу. В Афинах укреплялась мысль, что отныне не знать и зажиточные люди, способные вооружиться за свой счет и поставлявшие кадры гоплитов, а простой народ, бедняки, ремесленники и крестьяне — истинные спасители страны. И именно они должны вершить ее судьбу.
Через сотню лет Платон заметит, что Фемистокл превратил афинян из стойких гоплитов в моряков, и реформатора станут упрекать в том, что он «отнял у сограждан копье и щит и унизил афинский демос до гребной скамейки и весла». Правда, ценой подобного унижения покупалась независимость, и, как пишет Плутарх, «повредил ли Фемистокл строгости и чистоте государственного строя или нет, — это вопрос скорее философский».
Так или иначе, афиняне согласились отказаться от восьми драхм, которые каждый получал из доходов от рудников Лавриона, и флот был построен в неслыханно короткий срок.
Теперь предстояло объединить силы греков. «Главная заслуга Фемистокла та, что он положил конец междоусобным войнам в Элладе и примирил отдельные государства между собою, убедив их отложить вражду ввиду войны с Персией» (Плутарх). Чтобы успокоить союзников, опасавшихся усиления Афин, он предложил даже на собрании делегатов от полисов поручить командование всеми вооруженными силами спартанцам, как самым искусным воинам, не ведающим поражений на суше.
Не все полисы согласились участвовать в общей борьбе. Ближайшие соседи и исконные соперники Афин и Спарты — Аргос и Беотия — не вошли в союз, а Фессалия вскоре после начала военных действий перешла на сторону персов. Не поддержали греков и эллинские государства на юге Италии и в Сицилии, ссылаясь на угрозу нападения дружественных персам карфагенян.
Армия Ксеркса меж тем готовилась к походу, а союзники никак не могли договориться насчет плана действий. Спартанцы категорически настаивали, чтобы войска и жители покинули все области Северной и Средней Греции и отошли в Пелопоннес. Там, за Коринфским перешейком (Истмом), они станут неприступной стеной и отобьют натиск варварских полчищ.
Фемистокл предложил дать бой на суше и на море. Чтобы не оттолкнуть от союза самолюбивых спартанцев, он согласился поставить во главе флота их полководца Еврибиада. После долгих препирательств союзники решили, наконец, отправить 300 триер к мысу Артемисию на побережье Евбеи, а войско — к горному проходу, через который вел путь в Фессалию. Проход этот был настолько узок, что через него могла проехать лишь одна повозка. С запада тянулась неприступная отвесная гора, а на востоке до самого моря простирались непроходимые болота. Проход этот назывался Фермопилы, то есть «Теплые ворота», так как там находились теплые источники.
Здесь семитысячная армия эллинов должна была остановить персидскую лавину и задержать ее до тех лор, пока сражается флот. Если морской бой затянется на несколько дней, защитникам Фермопил обещали прислать подкрепление. А если греческий флот будет разбит, небольшому отряду легче отступить с наименьшими потерями и соединиться с главными сухопутными силами.
Фемистокл не надеялся на то, что ему удастся сохранить в неприкосновенности Афины. Но ведь город в конце концов лишь клочок земли, и силен он не своими стенами, а бойцами. В Народном собрании ему надоело слушать патетические возгласы честных, но недалеких людей, призывавших доблестно сложить головы, но не уступать добровольно ни пяди священной территории города, которому покровительствует богиня мудрости Афина Паллада. Каждый раз, выступая перед народом, Фемистокл призывал его готовиться к битве на кораблях и не тратить бесцельно силы на защиту стен, которые рухнут при первом же натиске врага.
Голос Фемистокла звучал громко и решительно. Но не только он поколебал решимость афинян. С еще большим вниманием прислушивались они к голосу Аполлона.
Как обычно., в тяжелые минуты греки обращались за советом к дельфийскому оракулу. Там, в святилище Аполлона, из уст жрицы (пифии) они узнавали волю божества, которому подчинялись безоговорочно.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 1 В ЛУЧАХ САЛАМИНА
Глава 1 В ЛУЧАХ САЛАМИНА Древним было присуще связывать воедино все вещи во Вселенной, они видели Космос как огромное мироздание, все составные которого, начиная от положения звезд и кончая судьбой ничтожнейшего из смертных, находятся в нерасторжимой взаимосвязи.
Финиш навигационного марафона
Финиш навигационного марафона Кажется, весь Берген высыпал на улицы, на набережные, провожая корабли нашего отряда. Целая флотилия рыбачьих, прогулочных, спортивных моторных лодок долго сопровождала нас.Раньше мы не считали, сколько дней осталось до возвращения в