ГЛАВА ВТОРАЯ КОНЦЫ И НАЧАЛА
ГЛАВА ВТОРАЯ
КОНЦЫ И НАЧАЛА
Для тех, кто к совершенству путь прошел,
Неведение знанием бывает.
А знанье, что невежда приобрел,
В невежестве его изобличает.
Джалалиддин Руми
ВЕЧЕРНЯЯ БЕСЕДА
И снова был день. В другом краю, за сотни фарсахов и десятки лет отстоявший от того дня, когда он глядел в последний раз на город Балх с крыши отчего дома. Да что там десятки лет? Жизнь прошла.
И вся она уместилась в одной строке: «Я был сырым. Созрел. Сгорел».
Среди друзей и учеников, что сидели полукругом, поджав под себя ноги, и внимали сейчас его поучению, не было уже ни одного из тех, кто был знаком тогдашнему двенадцатилетнему мальчику. Но что с того, если свет многих лиц, которые давно сгнили в земле, он носит в самом себе?
И этот день уже меркнул за окнами. Заголубели на стенах зеленые изразцы, забились на карнизы под куполом горлицы, воркуя, укладываются на ночлег.
Он оглядел так хорошо знакомые ему лица. С нежностью остановил взор на Хюсаметтине Челеби — скоро минет десять лет, как в нем, точно в зеркале, видит он свое ничем не замутненное отражение. Не свою чалму и седую бороду, не удлиненный нос, не миндалевидные глаза, нет, это все случайности, — а самую свою сущность: каждое движение чувства, мысли.
И Хюсаметтин уже старик. А пришел он еще молодым. Ясный ум, уравновешенность и самоотверженность — все в нем было гармонично, благообразно, но не благостно. Здоровая натура ремесленника, живущего трудом рук своих.
И если ремесленникам-ахи был обязан Джалалиддин тем, что в этом городе не содрали с него на базаре шкуру, как некогда с великого поэта и мудреца Халладжа в Багдаде, не побили камнями за еретические стихи, а слушали и почитали, то Хюсаметтину Челеби обязан он своей последней книгой двустиший — Месневи, в которой, если только они успеют, будет рассказана не жизнь его, уместившаяся, в сущности, в единой строке, а его познания и прозрения, весь его путь к Истине и степени ее постижения, все, что он понял, все, чем стал и что, быть может, останется после него на земле.
За долгие годы работы над книгой Хюсаметтин не выказал и признака утомления, отдал всего себя целиком, точно так же как в молодости с радостью отдал все нажитое его отцом — шейхом ахи, все заработанное своим трудом, чтобы в трудное для учителя время помочь ему выстоять.
Вот уже много лет Джалалиддин мог одновременно говорить и видеть себя со стороны, в одно и то же время думать о разном. И, продолжая поучение, он улыбнулся мысленно, припомнив, с какой деликатной хитростью выбрал Хюсаметтин удобный случай, чтобы высказать свое желание, ибо помнил, что удобный случай подобен облаку — набежало и нет его. Выбрал вечер, когда остались они наедине, и молвил, опустив глаза к полу: «Газели ваши собраны в десятки диванов. Свет их тайны озарил Восток и Запад. Оставьте же теперь влюбленным и друзьям книгу, подобную тем, что сложили Санайи и Аттар, дабы мюриды никогда не были бы лишены вашего присутствия». Высказать словами его собственную мысль, которая хоть и давно зрела в нем, но которую он до поры до времени таил от самого себя! Только тот, кто слился с другом в единое существо, может быть способен на такое!
В тот вечер Джалалиддин вынул из складок чалмы вчетверо сложенный лист, на котором были записаны его собственной рукой первые восемнадцать строк: «Внемли! То ная тоскующий глас! О муках разлуки ведет он рассказ…» И вручил его Хюсаметтину: «Хорошо, Челеби, я буду говорить, а ты записывать!»…
Годы, минувшие с той поры, — лишь внешнее проявление их духовного единства. С того дня не расставался более Хюсаметтин с тростниковым пером в медной трубке, чернильницей, песочницей у пояса и свитком бумаги в рукаве. С той поры они повсюду бывают вместе. И где застанет учителя вдохновение — на улице, в бане, на собрании друзей или на радении, на базаре, в саду или в мечети, записывает Хюсаметтин за ним строки стихов, как только они родятся.
Но, быть может, еще и потому с такой нежностью глядел Джалалиддин (теперь все именовали его «Мевляна» — «Наш господин») на своего старшего ученика и наместника, что тот был его последней любовью, подобной звезде, глядя на которую путник, проделавший долгий и трудный путь, идет в ночи к последней стоянке. В Хюсаметтине совместилось для него все то, что сделало его таким, каким он стал, вернее, таким, каким он есть, ибо твердо уверен был Джалалиддин, что все развитие человека на пути к совершенству есть не что иное, как возвышение самого себя до своей собственной истинной сущности: и молоко его матери Мумине-хатун, и непреклонность отца — Султана Улемов, — и истовость наставника Сеида Бурханаддина, и ослепительный солнечный свет Падишаха Дервишей Шемса из Тебриза, и печальное, утоляющее боль и страсти, подобно сиянью луны, свечение ювелира из Коньи, Саляхаддина, и мягкая нежность и благоговение родившей ему двух сыновей Гаухер-хатун, той самой девочки из Балха, которая вместе со всеми этими лицами давно стала прахом, а теперь слилась с ними вместе в Хюсаметтине Челеби, что, как обычно, сидит впереди остальных, весь внимание, и заносит на бумагу каждую его мысль, каждое слово… Совсем так же, как некогда внимал сам Джалалиддин своим наставникам.
Мевляна Джалалиддин (арабск.).
«Эй, Хюсаметтин, на шею свою ты накинул веревку и тянешь за собой Месневи, и движется книга вперед, том за томом… Но для невежды, чей взгляд, как у лошади — шорами, ограничен результатом, ты невидим, подобно тому, как невидим свет дня для ослепленных цветами и красками. Меж тем без дневного света нет ни цветов, ни красок. Ты был началом начал, свет истины, Хюсаметтин!»

Он ощутил, как волна приязни, поднимаясь в груди, затопляет все его существо. И ему тут же захотелось высказать все то, что возникло в сердце, высказать здесь, перед учениками, им в назидание и в подарок любимому. Но он сдержался: желания, как вино, чтобы обрести силу, нуждаются в выдержке.
–
— Ты можешь забыть все, — звучал меж тем под куполом обители ровный печальный голос Джалалиддина, — все, кроме одного: зачем ты явился на свет. Не продавай себя задешево, ибо цена тебе высока…
–
Он перевел взгляд на сидевшего слева Аляэддина Сирьянуса, что не спускал с него глаз, словно воду с лица пил.
Как-то утром отправился Джалалиддин с друзьями на кладбище, где покоился его отец Султан Улемов. Миновав Конский базар, при выходе из городских ворот заметили они скопление народа. Какие-то парни подбежали к ним из толпы: «Ради аллаха, пусть заступится Мевляна!» — «Что там?» — «Казнят грека, совсем юношу!» — «Что натворил он?»
Сирьянус был рабом. После смерти хозяина по завещанию был отпущен на волю. Голодал. Когда приходилось туго, предпочитал воровать, чем снова продаться в рабство. В то утро застиг его лавочник за кражей каравая. Пытаясь вырваться, убежать, Сирьянус ударил его кулаком и убил…
…Джалалиддин провел ладонью по бороде, словно хотел отогнать воспоминания. Но картины того утра следовали чередой перед его глазами…
Выслушав просьбу о заступничестве, он решительным шагом двинулся к месту казни. Толпа раздалась. Перед палачом в вывернутой наизнанку черной овчине, в окружении стражников стоял на коленях со связанными за спиной руками юноша с рыжей курчавой головой.
Джалалиддин сорвал с себя ферадже. Набросил его на юношу. И, не вымолвив ни слова, повернул обратно в город.
–
— Ты можешь возразить: я занят высоким, — продолжал тем временем звучать его голос. — Изучаю право, астрономию, медицину. Но все это лишь для тебя самого, не для сути твоей. Право ты изучаешь, чтоб тебя не обокрали, не опозорили, не убили. Астрономию — чтоб по звездам предсказывать дешевизну или дороговизну земли, товаров и день, когда без риска можно начать предприятие. Медицину — чтобы ухаживать за телом своим. Но ведь ты не одно лишь тело! Тело — конь, а ты — всадник. Разумный всадник заботится о стойле для коня, но не спит в нем сам. И корм коня не может быть кормом всадника. Ты же не направляешь бег коня — он везет тебя, куда пожелает…
–
Палач и стража опешили: сорвать или порезать одеяние божьего человека, каковым поэта почитали в городе, шейха, чьи увещевания выслушивал наместник султана Муиниддин Перване, первый человек державы, мудреца, которого принимал во дворце сам султан, — на это мог решиться лишь тот, кто не страшится ни бога, ни султана…
–
— Ты стоишь целых миров. Но что поделать, коль сам ты не знаешь себе цены?!.
–
Когда султану донесли о заступничестве Мевляны, он повелел отпустить раба: «Чего стоит какой-то там грек! Ведь Мевляна заступничает за все грехи наши перед Аллахом!»
Юноша счел себя заново рожденным. Поскольку спаситель его был мусульманином, принял его веру, стал его мюридом. Нареченный в мусульманстве Аляэддином, по свойственной простым сердцам слабости обожествлять предмет своей любви Сирьянус стал почитать Джалалиддина как бога. И чуть было снова не поплатился за это головой.
Улемы, ненавидевшие поэта, завидовавшие его славе и влиянию при дворе, только ждали повода, чтобы если не уничтожить его, то хоть чем-то досадить. Они и донесли кадию Сираджиддину, что вновь обращенный мюрид Мевляны якобы именует его не господином, а господом.
Снова стража схватила Сирьянуса. И снова предстал он перед судом. Ему удалось уцелеть лишь благодаря собственной находчивости, но он приписал и это спасение чудодейственной силе лилового ферадже, которое не снимал с себя с того памятного утра…
Оно и сейчас на Сирьянусе — плохонькое, ветхое, но залатанное с превеликим тщанием, отметил про себя Джалалиддин… Нет, не ферадже с плеч, не рубаха с тела, не перстень с пальца и не четки с руки могли быть знаком его любви к Хюсаметтину — время расплавит их, обратит в прах. Лишь подарок души, способный вместить и память о любимом поэте Аттаре, и признательность к наставнику Сеиду Бурханаддину, и его самого, Джалалиддина.
Он умолк на мгновение. А потом по-прежнему тихим, но уже не печальным, а подобно булату в горне, все раскалявшимся от затаенной страсти голосом начал рассказ о наставнике Сеиде и шахском сыне, изучавшем рамль, рассказ, который был его сегодняшним подарком любимому ученику Хюсаметтину:
–
— Некто сказал Сеиду Бурханаддину: «Слышал я, что имярек восхвалял тебя!» И спросил Бурханаддин: «А кто он таков сам, чтоб хвалить меня? Откуда знает меня? Если по речам моим, то он не знает меня, ибо слово и звук, рот и губы всего лишь признаки. Если по делам моим, то и дела вторичны, преходящи. Только если познал он меня по сути моей, могу я признать, что может он хвалить меня и хвала его относится не к словам и делам моим, а ко мне самому».
Дабы вам стало яснее, что имел в виду Бурханаддин, говоря о разнице меж сутью и признаками, отворите уши внимания для притчи о сыне шаха, изучавшем искусство гадания на песке.
«Жил некогда шах, у которого единственный сын был столь глуп, что нельзя было ему не то что шахство, даже самого простого дела доверить. Долго думал шах, к чему бы его приучить, и решил наконец: пусть постигнет искусство гадания на песке. Как ни отказывались ученые предсказатели, пришлось им покориться шахской воле.
Через несколько лет привели они шахского сына во дворец, пали ниц перед шахом: «Много трудился ваш сын и постиг все законы и правила рамля, кои ведомы нам. Больше мы его научить ничему не в силах».
Шах зажал в руке перстень, спросил: «Ответь мне, сын, что в руке у меня?» Юноша начертал на песке фигуры рамля и по размышлении молвил: «В руке у тебя нечто круглое, с отверстием посредине. По роду — минерал». Шах довольный сказал: «Ты назвал все признаки верно. Назови теперь сам предмет!»
Задумался шахзаде. И решил: «Мельничный жернов!»
«Сколько точных примет установил ты силой знанья! — воскликнул шах. — Но недостало у тебя разума понять, что не может жернов поместиться в руке!»…
–
Не Джалалиддин сложил эту притчу. Фаридаддин Аттар привел ее в своей книге «Беседа птиц». Но и Аттар слышал ее от наставника своего Мадждаддина Багдади, у которого изучал медицину и фармакопею, того самого шейха Мадждаддина, что учился вместе с Султаном Улемов и был обезглавлен нечестивым хорезмшахом.
Слушая рассказ впервые, следишь, что же будет дальше, подчас забывая, зачем сей рассказ. Но для Джалалиддина искусство всегда было средством.
–
— Подобно этому, — заключил он свое поучение, — ученые наших дней умеют на сорок частей расщепить каждый волос в своих науках, до ничтожнейшей малости знают все, что не относится к ним самим. А то, что для них всего ближе и важнее — свою собственную сущность, то есть самих себя, — не знают. Факихи и улемы все на свете разделили на дозволенное и запретное, на чистое и нечистое, но не ведают, чисты ль они сами, не знают, что они сами такое…
–
Ученики ушли. Последним, просушив песком чернила, молча, точно боясь расплескать словами переполнявшую его радость от подарка, преподнесенного учителем, склонился в поклоне и удалился, пятясь, Хюсаметтин.
Похолодало. На мгновение в проеме, закрыв синеву неба, показалась чья-то тень. И исчезла. Верно, приходил сын Велед, но не решился помешать раздумьям отца.
А он все сидел, спрятав в рукава ватного халата мерзнувшие сухие руки, перебирая в пальцах бусины четок, ползущие с мерным шелестом длинной бесконечной змейкой по каменным плитам пола. И мысли его, как у всех стариков на свете, были обращены к тому, чего давно уже нет, но что сделало мир таким, каков он есть и будет.
–
Что мог понять он в двенадцать лет из беседы отца со стариком в засаленном ветхом халате, со всклокоченной бородой и полубезумным, уже не видящим взглядом? Самонадеянный сын Султана Улемов Джалалиддин помнил наизусть Коран, изучал хадисы и шариат, знал правила арабской грамматики и сложения стихов, читал сочинения великих поэтов, но что мог он знать о самом себе? Ему было известно, что старик, к которому его привел отец, — великий поэт Аттар. Он помнил наизусть строки его стихов, но разве могли быть ему ведомы бездонные глубины духа, таящиеся под вязью слов? Откуда было ему понять, отчего славный ученостью город изгнал сюда в это неприглядное убежище мудреца, чьим именем мог бы гордиться сам Багдад?
А старик видел его как на ладони. Теперь-то Джалалиддин, сам старик, хорошо это знал…
КНИГА ТАЙН
…Они уже успели привыкнуть к мерному покачиванию звезд над головой, к ровной иноходи верблюдов, к хриплому заунывному пению погонщиков, к переправам через реки и ущелья, к хрустящему на зубах, забивающемуся за ворот песку, гонимому колючим холодным ветром. К дневкам в обнесенных глинобитными стенами рибатах на степных дорогах, охраняемых воинами с однообразно палаческими, словно выдубленными из грубой кожи, физиономиями, к ночевкам в караван-сараях на ковриках, постеленных поверх соломы, полной блох, при неверном свете ночников под хруп и топтание лошадей в конюшне. К многолюдным встречам у лежавших на пути городов, — заслышав о прибытии Султана Улемов, толпой выходили встречать его шейхи и богословы, проповедники и дервиши. К мельканию местностей, лиц — только успеешь к ним приглядеться, как их уносит течение реки, именуемое дорогой. Казалось, не два месяца, а целую жизнь движутся они караваном по лику земли, и разве что в далеком сне были где-то и детство, и отчий дом, и город Балх, когда после полудня среди обширных садов и еще по-зимнему пустынных пашен показались вдали стены города, чье имя славилось в мусульманском мире не меньше, чем имя Балха.
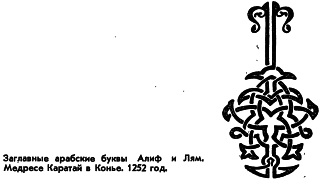
Нишапур, столица Хорасана, встретил их грязью на улицах, не просохших после только что отшумевших ливней. С суетливой почтительностью виднейшего богослова Балха и его людей препроводили в одну из старейших в городе медресе Сабуни. Пока слуги развьючивали верблюдов, обтирали шерстяными тряпками влажные крупы коней, взрослые располагались по кельям, выходившим в обширный внутренний двор, а отец, прямой и безулыбчивый, беседовал с настоятелем медресе — таким старым, что борода его, шириною с ладонь, была желтой, как слоновая кость. Мальчики, едва омывшись от дорожной пыли, решили поглядеть на знаменитый тафсир — собрание комментариев к Корану, едва ли не самое обширное в мире, написанное десятками ученых, призванных для этой цели в Нишапур со всех концов света двести лет тому назад. Тафсир, который, по словам историка Аль-Утби, обошелся властителю в баснословную сумму — двадцать тысяч динаров.
Книг в хранилище было немало, однако они не заполняли всего пространства от пола до потолка, как об этом говорили летописцы, и великого тафсира среди них не было. Послушник-софта объяснил мальчикам, что тафсир погиб семьдесят лет назад при разграблении города кочевниками-огузами.
Толстые каменные стены в кельях медресе были влажны и гладки, точно отполированы временем и поколениями учеников, — рука соскальзывала по камню, как по стеклу. Лишь кое-где морщины трещин напоминали о случившемся с десяток лет назад страшном землетрясении.
Они въехали в Нишапур с волнением — столько легенд и преданий, столько великих имен было связано с ним. Не ратными доблестями, не грозными властителями и мирозавоевательными походами прославился в веках этот город, а подвигами духа.
Здесь некогда возникла школа «маламати» — «людей упрека», возмутившихся лицемерием святош, злоупотреблением святостью. Властители всех городов мусульманского мира, желая укрепить свою власть духовным авторитетом, постоянно призывали ко двору людей, прославившихся святостью, осыпали их щедрыми дарами. Со временем аскетизм сделался ремеслом, приносящим отнюдь не небесные, а вполне весомые земные блага. И тогда «люди упрека» разработали учение, согласно которому стремление к очищению помыслов и чувств есть сугубо личное, интимное дело каждого, о коем не следует ведать посторонним. Мало того, если вас будут считать грешником, осыпать оскорблениями и презирать, тем лучше: значит, вы стоите на правильном пути, ибо праведников и пророков всегда поносили и презирали. Внешне «маламати» ничем не должны были отличаться от остальных людей. И они не носили власяницы, не облачались в отрепья, а одевались, как воины, поскольку принадлежность к воинскому сословию заведомо исключала возможность безгрешного пропитания. Если «человек упрека» намеревался добывать себе пропитание подаянием, то обращался за ним в нарочито грубой, даже оскорбительной, форме, дабы не вызвать сострадания и жалости к себе, не превращать свою добровольную нищету в ремесло. Учение «маламати» было потом развито суфиями Хорасана.
Лет двести назад во времена деспотии султана Махмуда Газневийского, понимавшего связь между тиранией и религиозной нетерпимостью, начальником города — раисом был назначен некто Абу Бакр Керрами, глава ортодоксальной секты ревнителей буквы, ополчавшейся на любую попытку обосновать религиозно-этическое учение с помощью разума. Сделавшись правой рукой султана, Абу Бакр Керрами и его сторонники устраивали массовые суды и расправы над инакомыслящими, наживались на конфискации имущества, брали взятки от обвиненных в «ереси», превратив самую нетерпимость свою в источник благ. Но всеобщее возмущение нишапурцев заставило власти отстранить Керрами и официально признать принцип, по которому святость и звание духовного подвижника объявлялись несовместимыми с государственными постами и стремлением к земным благам.
В одной из многочисленных дервишских обителей Нишапура прославленный суфийский шейх Абу Саид Мейхени устраивал для простонародья маджлисы — собрания, где славил любовь ко всему сущему и вместо комментариев к Корану и изречений пророка осмеливался в подтверждение своих мыслей петь народные любовные стихи, приводя в экстаз многочисленных слушателей. Щедрые подношения, коими одаривали его богатые купцы, шейх расточал на угощения с пляской и музыкой, что было для ревнителей правоверия прямым святотатством. Но поддержка горожан не позволила им расправиться с Абу Саидом. Не носил он и рубища, ибо, по его убеждению, «дело божие можно делать и в отрепьях, и в богатой одежде», а чистота помыслов важнее соблюдения обрядов. Абу Саид встретился с великим врачом и ученым, автором свода знаний его времени «Книги исцелений» и многотомного труда «Канон медицины» Абу Али Ибн Синой, ненавистным для религиозных фанатиков приверженцем рационализма. Но шейх и ученый расстались весьма довольные друг другом. Ибн Сина сказал своим ученикам: «Абу Саид видит то, что я знаю». А шейх заметил: «Ибн Сина знает то, что я вижу». Оба великие мужа впервые высказали мысль о равноправности двух форм познания — рационально-логического и чувственно-метафорического, познания, направленного на окружающий нас мир, и познания психологических закономерностей, управляющих духовным миром человека.
Из ремесленников Нишапура вышел похороненный здесь же создатель совершеннейшего солнечного календаря, астроном и математик Омар, по прозвищу Хайям, то есть «Швец палаток». Он слагал удивительные четверостишия — рубаи, кои в годину страшного гнета славили свободу духа. О если бы только дарована была б ему способность избегать неповиновения богу!
И наконец, где-то здесь в столице Хорасана Нишапуре жил еще Султан Постигших Истину, подвижник и поэт Фаридаддин по прозвищу Аттар — Аптекарь.
–
Все эти имена и легенды, о которых сыновьям балхского богослова рассказывал их наставник Сеид Бурханаддин, вернувшийся теперь в родной Термез, навстречу страшному монгольскому нашествию, не раз приходили им на ум, когда, скользя по грязи, бродили они по раскисшим улочкам старого Нишапура, с недетской серьезностью заглядывая в ханаки, медресе и мечети, слушали тревожные базарные толки и заклинания юродивых.
Город наводняли кошки. Стаями носились они по пустырям, грелись на солнце, развалившись у дувалов, полукругом сидели около каждого торговца потрохами, следя внимательными круглыми глазами за его движениями.
Брат вдруг дернул Джалалиддина за рукав. Оглянувшись, он увидел, как белая, точно горный снег, поджарая кошка, брезгливо отряхивая лапы, несет в зубах такого же белоснежного котенка. Позабыв о сдержанности, Джалалиддин кинулся было за ней — так захотелось ему подержать в руках теплый белый комок, но кошка метнулась и одним махом перелетела через высокую стену сада. Он застыл на месте. Нет, он не устыдился своего порыва: просто увидел на ветвях сливы, свешивавшихся над глиняным дувалом, острые, как язычки светло-зеленого пламени, молодые листики. И, вдохнув явственный запах весны, надвигавшейся с юга на поля и сады Хорасана, вдруг ощутил такую слитность с миром, с каждым человеком в этом незнакомом суетливом городе, с этой вот кошкой, с красноватой глиной под ногами, с едва проклюнувшейся листвой, с ветром, раздувавшим полы его ферадже, со всеми пройденными городами, с огромной беспредельной землей, словно тело его не имело границ и все вокруг было продолжением его самого. И долго еще, опьяненный, брел он по улицам вслед за братом, не в силах вымолвить ни слова, пока ощущение это не уплотнилось в нем в излучавшую свет белую жемчужину.
Тут он вспомнил о девочке Гаухер, ибо «гаухер» значит «жемчужина». Он не видел ее вот уже несколько недель. И заторопился обратно в медресе Сабуни.
–
Хоть их отец, Султан Улемов Балха, и поклялся, что, пока жив шах Мухаммад, нога его не задержится в хорезмийских владениях, он все же решил провести в Нишапуре несколько дней: надо было дать отдых животным и людям, предстоял переход через великую пустыню Дашти Кабир. Но главное, перед тем как навсегда покинуть родные края, не мог он не повидаться с автором «Книги тайн» Фаридаддином Аттаром, который был старше его лет на пятнадцать, но посвящение в суфии, то есть благословенный плащ — хырку получил из рук его названного брата и соученика по Хорезму шейха Мадждаддина Багдади, умерщвленного богомерзким шахом Мухаммадом.
С сокрушением узнал он, однако, что поэт за ересь тоже был приговорен к смерти, замененной конфискацией имущества и изгнанием из города. Но, по слухам, поселился где-то неподалеку и живет в полном одиночестве. И понял тогда Султан Улемов, отчего вопреки обычаю, требующему первым нанести визит тому, кто прибыл издалека, Фаридаддин Аттар не посетил его в медресе Сабуни.
В сопровождении восседавшего на ишаке тощего вертлявого дервиша, коего приставил к ним старый мударрис, когда Султан Улемов Балха высказал желание посетить поэта в его убежище, они миновали загородные сады и виноградники, проехали деревню — чинары здесь еще стояли голые, лишь кое-где на узловатых ветвях виднелась прошлогодняя листва — и часа через три приблизились к выжженной солнцем лысой горе. Отец спешился и медленным шагом направился к вершине, где чернел вход в пещеру. Дервиш, то ли из почтительности, то ли из осторожности, остался у лошадей, а Джалалиддин с братом, держась шагах в двух позади, последовали за отцом.
На широкой площадке перед пещерой не было никого, меж тем Аттар наверняка был предупрежден об их прибытии. Только когда отец подошел к кучке пепла — очевидно, здесь разжигал огонь обитатель пещеры, им навстречу быстрым шагом вышел щуплый легкий старик в темно-буром обтрепанном халате и в высокой шапке. Не суетливость, а стремительность была в его походке, будто, занятый чрезвычайно важным делом, он внезапно услышал о прибытии дорогого гостя. Остановился он так же стремительно, точно уперся в невидимую преграду, и медленно склонился в молчаливом приветствии. Трижды обменявшись земными поклонами, они уселись на камнях по обе стороны выжженного костром круга: высокий суровый богослов в траурной лиловой чалме и согбенный годами сухонький поэт в островерхой дервишской шапке из войлока. Молча глядели они друг другу в лицо.
О чем они думали? О боге? Друг о друге? Об убиенном шейхе Багдади? О прожитой жизни или превратностях судьбы? Нет, скорей всего просто смотрели, чтобы проникнуть в самую суть друг друга, настроиться на один лад. Что тут могли слова?
Молчание длилось долго. Во всяком случае, так показалось Джалалиддину, который, почтительно сложив руки на груди, как положено правилами благовоспитанности, стоял вместе с братом за спиною отца. Трудно было понять, сколько лет поэту — семьдесят пять или все сто. Возраст стариков — одна из их тайн, по крайней мере, от молодых. Да и в возрасте ли дело, когда перед тобой человек, исходивший весь мусульманский мир от Египта до Индии, державший в памяти все, что знал этот мир о своих подвижниках, прошедший вслед за ними путь подвижничества и самосовершенствования, описанный им самим в поэме «Беседа птиц», человек, сложивший десятки стихотворных книг, прославивших его имя, но ни разу не осквернивший своего пера славословием власть имущих.
Неужто все это совершил вот этот сухонький старичок со всклокоченной бородой, в истрепанном халате? Отчего не довольствовался он благополучной и сытой жизнью владельца аптекарской лавки, что досталась ему в наследство от отца, как довольствовались бы на его месте другие? Что двигало им?
Откуда было знать это двенадцатилетнему мальчику, стоявшему лишь в самом начале пути по двум мирам — миру земли и миру своей души и глядевшему на человека, прошедшего этот путь до конца.
Аттар меж тем сам ответил на этот вопрос в поэме «Беседа птиц». Ответил по обыкновению притчей — легендой о другом поэте, который поклялся молить бога в день Страшного суда, чтобы тот вверг его в ад и сделал его тело столь огромным, дабы в аду не осталось больше места ни для одного человека.
Поэму «Беседа птиц» Джалалиддин читал вместе со своим наставником. В отличие от большинства учеников медресе, которые читают для того, чтобы не думать, Джалалиддин размышлял над прочитанным. Но размышлять — одно, а понимать — другое. Недаром тюрки говорят: «Тому, кто понимает, достаточно и комариного писка, тому, кто не понимает, не хватит и барабанного грома».
Самозабвенная любовь к другим — вот что руководило Аттаром и другими подвижниками Истины. Но если двенадцатилетний Джалалиддин не мог понять этого разумом своим, то сердцем почуял. Почуял в тот миг, когда, осмелившись поднять глаза, встретился с полубезумным взглядом Аттара. И в тот же миг поэт по праву старшего, словно отвечая на немой вопрос Султана Улемов, первым нарушил молчание:
— Я из мира тайн пустился птицей
В этот низкий мир, чтоб взмыть с добычей.
Оказалось, не с кем тайной поделиться.
И ни с чем пришлось мне возвратиться.
Глаза поэта вдруг застыли, углы губ опустились, и Джалалиддин увидел, что он стар и испепелен, как выжженная земля перед зияющей, точно могила, пастью пещеры.
— Очами души моей, — говорил тем временем отец, — я искал тебя, шейх Фаридаддин, много лет. И по милости Аллаха сегодня удостоился счастья лицезреть тебя земными очами…
Дальше Джалалиддин не слышал. Острая, пронзительная жалость охватила его. Не к этому старику в остроконечной шапке, а к целому свету, который скоро лишится Аттара. Так явственно услышал мальчик в его словах, что тот покончил с жизнью все счеты и ждет теперь лишь одного — конца.
–
Ждать Аттару оставалось недолго. Через год, 10 апреля 1221 года монгольские тюмени взяли Нишапур. За то, что у стен его был убит монгольский военачальник, просьба горожан о помиловании была отклонена, все жители, за исключением четырехсот ремесленников, перебиты, город разрушен до основания, а место его распахано. На развалинах был оставлен монгольский отряд, дабы истребить уцелевших во время избиения.
Один из монголов прослышал, что в руки к ним попал старик, почитаемый мусульманами как святой, и предложил воину, схватившему поэта, тысячу дирхемов выкупа.
— Не продавай меня задешево, — остановил поэт воина, ошалевшего от нежданно свалившегося на него богатства. — Ты можешь выручить за меня куда больше.
Воин заартачился. Покупатель, махнув рукой, ускакал.
Аттар мог бы спасти свою жизнь. Но она была ему уже не нужна.
За старого, немощного пленника никто не давал и дирхема. Кто-то из монголов, насмехаясь над своим незадачливым собратом, крикнул: «Даю за старую обезьяну мешок соломы». Настал миг, которого долго ждал поэт. «Продавай скорее, — вмешался он, — большего я не стою!»
Разъяренный воин выхватил саблю. Так исполнилось давнее желание поэта покинуть сей бренный мир.
И сейчас, почти через полвека, каждый раз вспоминая об этом, Джалалиддин испытывал такую же острую жалость к миру, как в тот день, когда, стоя перед Фаридаддином Аттаром, увидел его отсутствующий взгляд.
–
Поэт меж тем поднялся, глянул на мальчиков, стоявших за спиной балхского проповедника, ушел к себе в пещеру и вернулся с книгой в руках.
— Пройдет немного времени, и в их сердце, — он кивнул в сторону сыновей улема, — вспыхнет сердце мира, искры его зажгут пламя в душах, жаждущих Истины…
Передавая книгу отцу, шейх Фаридаддин Аттар, странное дело, вопреки правилам вежливости смотрел мимо него, прямо в лицо Джалалиддину. И от этого взгляда жалость в Джалалиддине почему-то утихла, сменившись мягкой печалью.
Теперь, на старости лет, Джалалиддин знал: ничего странного в этом не было. Знаток человеческих душ, умевший читать по лицам, как по раскрытым книгам, Аттар немного потратил труда, чтобы понять чувства мальчика, угадать в нем пламенную отзывчивость, сызмальства сделавшую его отношения с миром столь трудными. Чужой ад, так же как для Аттара, был для него и его собственным адом.
–
Джалалиддин не помнил, как они вернулись в город. Помнил только, что суетливая предупредительность нишапурцев показалась ему суетностью, почтительность — угодливостью, а тревога — трусливостью. И с облегчением вздохнул, услышав, как отец, передавая коня слугам, сказал шейху Хаджеги:
— Завтра с утра — в путь!..
СВЕЧА ПЕРВАЯ
Он не оглянулся на звук шагов: медресе давно погрузилось во тьму, все равно не разглядеть, кто там. Но эти — мягкие, вкрадчивые, благовоспитанные — он знал и так: шаги старшего сына Веледа.
Большой летучей мышью заметалась по стенам тень руки, заслонявшей пламя свечи. Борода клином при каждом шаге вздымалась под потолок и падала мотыгой к полу… Мы тени на лице земли — и только. Да, тени, мелькнули, и нет нас. А вечно лишь пламя, которое мы несем в себе и передаем друг другу, как пламя этой свечи, что, молча склонившись, ставит сейчас перед ним сын, пламя, зажженное от другого где-то за этими стенами. И чем ярче пламя, сжигающее нас, чем дольше оно горит, тем ближе мы к Истине, что разлита в мире, как сок в ветвях дерева…
–
Мы с вами, читатель, именуем истиной познанные нами закономерности бытия. Джалалиддин называл ее богом. Он был сыном своего времени. Но птичка, сидящая на голове мудреца, видит дальше него вовсе не потому, что она мудрей или дальновидней, — просто она сидит выше.
Придуманный человеком единый, всемогущий, всеведущий бог обозначал по сравнению с язычеством скачок в развитии его разума, ибо в этой метафоре, пусть в отчужденном от человека виде, было заключено и сознание единства мира, и мечта о всемогуществе, всеведении и единстве рода человеческого. Надо думать, история — не собрание ошибок, а цепь попыток. Для своей эпохи возникновение монистических религий было попыткой разрешить мучительное противоречие между физиологическим и психическим, между телом и сознанием, между объектом и субъектом.
Джалалиддин, прозванный Руми, ибо большую часть жизни он провел в Руме, как тогда называли мусульмане Малую Азию, был сыном своего века и облекал свою мысль в теологические одежды.
Но бестрепетно углубляясь в тайны человеческой психики (мы теперь знаем, что сознание есть отражение объективных закономерностей действительности), Джалалиддин убедился, что «мир есть война противоположностей» в их единстве, что мир не создан однажды и навсегда, а «заново создается каждый миг».
Джалалиддин построил систему диалектики, начало которой было положено его предшественниками, включая мыслителей Греции и Рима, Аравии, Индии и Китая.
По признанию Гегеля, Джалалиддин Руми помог ему построить свой диалектический метод, который в переосмысленном виде вошел составной частью в передовое мировоззрение нашей эпохи.
Но Джалалиддин, сын своего времени, в отличие от Гегеля, изложил свои мысли не в отвлеченно-логических категориях, а в пламенных поэтических образах.
В эпоху монгольского нашествия с Востока и походов крестоносной дикости с Запада, религиозных войн и фанатизма он призывал к терпимости: все монотеистические религии в его глазах были едины по сути. В эпоху угнетения, насилия и рабства он проповедовал равенство людей, независимо от богатства, расы, религии, происхождения, чина. Люди разнились для него лишь тем, насколько приблизились они к Совершенному Человеку, а приблизиться к нему мог любой в меру своего труда и способностей.
Обращаясь к жаждущим истины, он произнес в одной из газелей знаменитые слова:
О те, кто взыскует бога!
Нет нужды искать его, бог — это вы!
Так раскрыл он в своей поэзии реальное содержание метафоры «бог».
Жизнь и смерть, сознание и материя, человек и человечество, пространство и время — по-разному назывались и ставились эти проблемы на протяжении истории. И покуда существует само человечество, они снова и снова в ином обличье будут вставать перед ним, а каждая попытка их решения будет, как и прежде, лишь приближением к истине.
Давайте же вернемся, читатель, снова на семь веков назад, в осеннюю ночную тьму 1268 года, в город Конья в Малой Азии, где в одной из медресе перед одинокой свечой сидел Джалалиддин Руми, погруженный в размышления и воспоминания, чтобы вместе с ним проследить его жизнь. И попробуем, не смущаясь архаичными словами и непривычными способами выражения мысли, понять скрывающийся за ними смысл одной из таких величайших в истории попыток, и, быть может, удастся нам почувствовать живой жар пламени, сжигавший этого человека, прорвавшего завесы времени. «Слово, — говорил Джалалиддин, — одежда. Смысл — скрывающаяся под ней тайна».
–
Ставя свечу на пол, Велед снизу глянул на отца с робким вопросом. Тот поблагодарил одними глазами, и Велед, так же мягко, вкрадчиво ступая, ушел, не высказав вопроса словами. Но его невысказанный вопрос ворвался в течение мыслей как помеха, как напоминание о чем-то нерешенном. Пытаясь одолеть ее, Джалалиддин вдруг понял еще одну причину, может быть, самую важную, которая побудила шейха Фаридаддина Аттара подарить ему, мальчишке, свою «Книгу тайн»: то была надежда, утешительница и обольстительница, надежда, что, нашептывая слова, которые ты сам хочешь слышать, ведет тебя под топор небытия. Надежда, что сыновья непременно свершат то, чего не сумели отцы, и будут лучше, чем мы, лучше и мудрее…
Да откуда же, если мы сами не сумели стать лучше и мудрее, чем мы есть? Нет, не жалея себя, не поддаваясь нашептываниям надежды, трудиться, пока дышишь, чтобы оставить после себя нечто лучшее и большее, чем ты сам. Может быть, тогда сыновья смогут то, чего не могли мы. Может быть…
Аттар не жалел себя. Но его единственный долгожданный сын родился, когда поэту пошел седьмой десяток, и умер раньше его, восемнадцатилетним. Вот что прочел теперь почти через полвека Джалалиддин во взгляде, который устремил на него старый поэт у входа в могильную пасть пещеры.
Джалалиддин подумал о своих сыновьях, которых на перепутье, в Ларенде, родила ему девочка из Балха, луноликая Гаухер-хатун. Старшего он в честь отца назвал Веледом. По ночам укачивал его на своих руках — не желал баловник засыпать иначе. Кажется, ничем бог не обидел Веледа: умен, учен, воспитан. Ничто их не разделяет, и мысли, и поступки отца понятны сыну. Но дальше, пойдет ли он дальше?
Джалалиддин помедлил. Велед был любимым сыном: надо было взвесить справедливость не на дровяных — на ювелирных весах.
Может быть, оттого, что он любим больше, ему и труднее: вот уже скоро сорок ему, борода пегая, а все под отцом, все по его стопам. Да, Велед понимает отца — лучшего истолкователя и хранителя отцовского наследства, пожалуй, и не найти. Но все, что знает Велед, усвоено им, а не добыто, — получено в наследство. Унаследованному не та цена. Да и он ведь не золото копил всю свою жизнь, не земли и страны завоевывал, не сады насаждал, чтобы их хранить?! А слова так же смертны, как все в этом мире. Так же изнашиваются от употребления и тогда уже не способны удержать смысл, как не способен удержать воду худой кувшин. Истина же вечно жива, заново рождается каждый миг, и нужен каждый раз новый сосуд, чтобы удержать хоть пригоршню ее. Новые слова могут противоречить старым, хотя содержат то же, что содержали старые, — истину. Но если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина?
Достанет ли у Веледа силы и мужества не польститься на роль хранителя и наследника? По сути, хранить истину — значит добывать ее, иначе будет основана всего лишь еще одна секта, коим несть числа. Секта, освященная его именем… А ведь самое главное, к чему он пришел, — убеждение в убожестве разделения людей на секты, касты, религии: род человеческий един, как истина.
Джалалиддин содрогнулся. Слишком увалистым, мягким показался ему в этот миг Велед, чтобы устоять. Круглоликий, розовощекий, даже борода не скрывает румянца. Когда был еще жив Сеид Бурханаддин, кто-то из мюридов спросил его: «Отчего Мевляна бледен ликом, а его наследник Велед румян?» Сеид не замедлил с ответом: «Джалалиддин, сколько я его знаю, всегда влюблен, а у влюбленных глаза горят, а щеки бледны. Велед же с детства любимец, возлюбленный».
Тогда Джалалиддин только в усы усмехнулся. А ведь покойный наставник был прав. Влюбленный в истину и любимец ее — вот разница между ними… Что ни делает сын, все правильно и умно — и проповеди его, и стихи. А как-то все благостно, пресно. И стихи его похожи на стихи отца. Только так, как похожа оборотная сторона ковра на лицевую, — и страсть в красках не та, и узлы видны. Тут Джалалиддин не мог обмануться, если бы даже захотел.
Что-то в Веледе есть женственное, податливое, оберегающее. И свет в нем отраженный, лунный. Не испепеляющий, а ласковый, утешительный. Хоть и старается во всем походить на отца, но живет в нем мать его, Гаухер-хатун. Может, оттого и любит его отец больше других сыновей.
Зря все же он слагает стихи. Зачем? Поискал бы лучше своего пути, пусть бы в чем-нибудь усомнился, взбунтовался!.. Но разве ты сам, Джалалиддин, искал, сомневался, бунтовал, покуда жив был твой отец Султан Улемов? Нет, только шел за ним. Правда, порой сомневался…
–
В Мекке вместе с отцом, смешавшись с толпами паломников, они обходили вокруг священный храм Кааба. Гул молитв, творимых вполголоса, как гул морского прибоя, выкрики словно всплески. Люди плачут, размазывая слезы, не стыдясь, кто-то падает, — потрясающий миг, коего ждали они, как чуда, миг забвения себя, слияния со всеми этими тысячами, прибывшими с четырех сторон света. Чуда, после которого все должно перемениться. Не могут же эти самые люди, ощутившие себя чем-то единым, каплей в человеческом братстве, вернуться к злобности, скаредности, чванству?
Но ведь в тот же день увидел он, как дервиши затеяли драку, заспорив о степенях праведности: мелькали кулаки, вздымались острые посохи, не слезы, а кровь текла по бородам, глаза по-прежнему горели, но нетерпимостью и ненавистью, и не хвалу, а хулу изрыгали уста.
По дороге из Мекки в Медину их караван обогнал темнолицый всадник на дорогом арабском скакуне. На нем был богатый халат и чалма хаджи-паломника. А рядом бежали слуги в таких же чалмах, но в сандалиях на босу ногу, пальцы сбиты в кровь. В осанке богатого паломника-араба подметил двенадцатилетний Джалалиддин торжествующее самодовольство. Увидел он его и во взглядах многих других хаджи. И ему пришло в голову, что они совершили паломничество, предписанное каждому мусульманину, не затем, чтобы исполнить священный долг или очиститься от грехов. А для того, чтобы спокойно творить на родине неблаговидные дела свои, прикрывшись благословенным званием хаджи, которого удостаиваются паломники.
Нет, чуда не свершилось. Восторг, испытанный Джалалиддином, который, казалось, разделяли все паломники, не изменил людей, их жизни и поступков. Но, когда шевельнулась в нем мысль, что можно остаться нечестивцем, совершив паломничество, и быть праведником, не выходя из своего квартала, он устыдился себя, ибо помнил наставление отца: «Люди — твое собственное зеркало, их грехи — отражение твоих».
Истинные слова пришли через десятилетия:
Эй, паломники, где вы, куда вы, куда?
Поскорее сюда! Поспешайте, он здесь,
Тот, кого вы взыскуете присно и днесь!
Ваш возлюбленный — ваш самый близкий сосед.
Смысла нет по пустыням бродить ветру вслед…
Знайте; храм,
И хаджи, и святыня — ты сам.
Какое там взбунтоваться?! Пока был жив отец, он иногда сомневался, но ни в чем не усомнился. Не зря, наверное, говорят, что мужчина становится мужчиной только после смерти отца.
Их с отцом разделяло почти полвека. Когда он умер, Джалалиддину было всего двадцать три. А его старший сын Велед лишь на девятнадцать зим моложе отца своего. И ему уже под сорок.
С того мгновения, когда в досаде произнес он про себя слово «взбунтоваться», он чувствовал, что чья-то фигура вот-вот возникнет перед его духовным взором, и отгонял ее, как синюю назойливую муху. Но отогнать не смог: явился все-таки!
Явился второй сын, чье имя не хотел он поминать даже в мыслях своих. Да, этот взбунтовался. Но не затем, чтобы найти, а чтобы не лишиться. Не потому, что узок был ему отцовский путь, напротив, слишком показался необычен и опасен. Хотел удержать отца лишь для себя, хватал, как тонущий хватает, увлекая за собой на дно спасителя… Не ты взбунтовался, а взбесилась в тебе скотина ревности и себялюбия, заставив позабыть о разуме и чести. Поднял руку, и на кого?! Воистину сказано: «Кто оживит хоть одного человека, все равно что оживит всех. Кто убьет хоть одного человека, все равно что убьет всех!»…
С недоумением прислушался Джалалиддин к нараставшему в нем, почти забытому чувству. Кажется, это был гнев, а он ведь полагал, что с ним давно покончено, ибо уже много лет то, что прежде пробуждало в нем неистовое негодование, теперь вызывало лишь жалость и печаль.
«Познать мир своей души и овладеть им, пожалуй, потруднее, чем овладеть миром земным, как некогда овладел им Александр Македонский. Но самое трудное ждет потом: все знать и понимать, и, глядя на безумство мира, не быть в силах что-либо изменить! Вот тягчайшее из испытаний».
Опознав в готовом прорваться негодовании своего старого противника, Джалалиддин сразу совладал с ним. И мускул не дрогнул на лице. Все так же мерно шелестя, ползли бесконечным кольцом по плитам пола четки.
Он знал, откуда явился этот гнев — тоже отцовское наследство. Редко выходил из себя суровый, непреклонный Султан Улемов, но уж если выходил, то гнев его был страшен, как гром.
Впервые поразил он Джалалиддина во время последней пятничной проповеди в соборной мечети Балха. Но там хоть была серьезная причина, а вот на привале перед Багдадом…
ДАРУ-С-САЛЯМ
Прислонившись к слоновой ноге пальмы, они с братом утоляли голод сыром, завернутым в тонкие просяные лепешки.
Тело ныло от усталости: позади были пустыня Дашти Кабир, горные перевалы Курдистана. Последний ночной переход измучил всех, даже отца, хоть после Нишапура он тоже ехал в намете, на верблюде. Но отец торопился и не велел развьючивать.
Пока погонщики укладывали верблюдов в жидкой тени деревьев, остальные ушли трапезничать в караван-сарай.
Наслаждаясь прохладой, мальчики жевали и с любопытством глядели на древнюю дорогу, по которой когда-то ездили еще цари Вавилона, на торговцев, предлагавших прямо с осликов сыры, лепешки, финики — они были здесь до удивления дешевы, на дымящиеся жаровни.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава девятая, где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех
Глава девятая, где автор привычно сводит концы с концами и получает схему, которая могла бы удовлетворить всех Из отчетов, дневников, отчасти из писем передо мною возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни.
Глава семнадцатая. Задолго до начала
Глава семнадцатая. Задолго до начала …Февраль 1929 года. Харьков. За всю зиму биржа труда подростков только один раз дала мне направление на временную работу – грузчиком на расчистке продуктовых складов. Свободного времени было много; целыми днями я читал. Иногда садился и
Смыкаются начала и концы…
Смыкаются начала и концы… Мало уже осталось людей, кто еще помнит этого замечательного человека. Да и имя его уже немногим что скажет. Алексей Михайлович Файко. Один из основателей советской драматургии и кинодраматургии. Впрочем, и до сих пор на экране телевизоров
Глава 9, связывающая концы и начала, а также объясняющая то, что казалось необъяснимым
Глава 9, связывающая концы и начала, а также объясняющая то, что казалось необъяснимым И вот однажды, когда я сидел наедине с Вечностью на своем троне, дарованном мне матерью-природой, я был возвращен на грешную землю непривычным шумом: к моему дому подъехали две
Глава вторая ИТАЛИЯ ДО НАЧАЛА СПАРТАКОВСКОЙ ВОЙНЫ
Глава вторая ИТАЛИЯ ДО НАЧАЛА СПАРТАКОВСКОЙ ВОЙНЫ I В 89 году до н.э. работорговцы доставили Спартака в Рим и продали его на невольничьем рынке.Римская аристократическая республика была в ту пору обществом строго сословным. Высшим среди сословий являлось сенатское
Глава первая. ДО НАЧАЛА
Глава первая. ДО НАЧАЛА Самый ранний рассказ о мальчике Нильсе знакомит нас с трехлетним малышом в одном из зеленых уголков старого Копенгагена. Может быть, случившееся произошло под деревьями старинного замка Кристиансборга — по ту сторону тихого канала, где на узкой
ГЛАВА VI КОНЦЫ И НАЧАЛА
ГЛАВА VI КОНЦЫ И НАЧАЛА Дело идет не о том, чтобы уменьшать свободу, необходимо, напротив, все время ее увеличивать, т. к. чем больше свободы у всех людей, составляющих общество, тем больше это общество приобретает человеческую сущность. М. А. Бакунин Выехав в октябре 1863 года
Глава VI. Концы и начала
Глава VI. Концы и начала И чувства нет в твоих очах, И правды нет в твоих речах, И нет души в тебе. Мужайся, сердце, до конца: И нет в творении творца! И смысла нет в мольбе! Тютчев ...Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убивать их, чтобы сломить, и поэтому
Глава 5 Тарнога. Все с начала
Глава 5 Тарнога. Все с начала В начале августа 1968 года, после окончания института брат Шура и наш общий друг Славка Попов провожали меня на работу в районный центр Вологодской области, Тарногский Городок, который располагался в трехстах сорока километрах прямо на север от
КОНЦЫ И НАЧАЛА
КОНЦЫ И НАЧАЛА Умер Воин Андреевич. В ноябре 1871 года из Италии, куда незадолго до того врачи послали его отдыхать, пришла короткая печальная телеграмма.В сущности, за карьерой контр-адмирала В. А. Римского-Корсакова всю жизнь стояло внутреннее усилие. Все далось ему, и все
Глава 43: Обречён с самого начала.
Глава 43: Обречён с самого начала. Вскоре после Фестиваля Мира, я встретился с Бишоффом в Атланте. В это раз не было никаких приколов в стиле Рика Флера.WCW в последнее время било рейтинги WWF, так что всё шло как нельзя лучше. Я должен был работать в самой большой